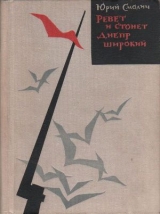
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 62 страниц)
НОЯБРЬ



ДОМА
1
Флегонт не узнавал Марины.
Марина не хотела идти не Софийскую площадь!.. И вообще она ничего не хотели. Не хотела, слушать Флегонта, не хотела на него смотреть, не захотела принять цветок – хрупкую белую хризантему, выращенную для нее стараниями самого Флегонта под оконцем его хибарки, последний привет неяркого осеннего солнца.
Марина на хризантему даже не глянула, отвернулась к стене – она лежала на диване, когда Флегонт вошел, – схватила какую–то книжку, случившуюся под рукой, раскрыла ее вверх ногами и уткнулась носом в странички.
– Не мешай, пожалуйста, – сказала Марина, – ты же видишь, я читаю!.
Флегонт положил хризантему на подушку возле Марины, но Марина небрежно повела плечом – и цветок упал на пол.
– Ты сердишься на меня? За что?
– Я ни на кого не сержусь, но оставь меня в покое!
Флегонт стоял растерянный. Что происходит с Мариной? Позавчера она не пришла на репетицию хора печерской «Просвиты» – а репетиция была такая важная: лысенковскую кантату «Слава Украине» должны исполнять завтра на всенародном празднестве. Вчера у Марины день был особенно занятой: заседание центрального правления объединенных киевских «просвит», собрание курсисток–украинок для организации «Союза украинских женщин», конференция старостатов всех факультетов всех высших учебных заведений для составления петиции об открытии украинского народного университета, – но Марина пренебрегла и заседанием, и собранием, и конференцией.
И вот сегодня она заявляет, что вообще не собирается идти завтра на церемонию провозглашения третьего «универсала».
Что случилось с Мариной?
Ей–богу, Флегонту хотелось заплакать.
В квартире Драгомирецких, кроме Марины с Флегонтом, в этот час не было никого. Гервасий Аникеевич дежурил в своей больнице, Ростислав пропадал в штабе Красной гвардии – он ведал там какой–то группой тактического обучения; Александр где–то шатался, как всегда, допоздна – он только что сшил себе у Сухаренко новую форму с желто–голубыми обшлагами и золотыми трезубцами и теперь спрыскивал ее то и «Шато», то у Семадени, то у Франсуа. Семья Драгомирецких, как, впрочем, и раньше, не имела обыкновения собираться ин корпоре, а Ростик с Алексашей теперь и вообще избегали друг с другом встречаться.
Был вечер. Собственно за окном черной пеленой спустилась уже на землю гнилая осенняя ночь.
Но в комнатушке у Марины было тепло, тихо и уютно. На комодике мягко тикали затейливые часики – Атлант держал на могучих плечах земной шар – бесплатная премия к сто первой коробке папиросных гильз Каракоза, которые выкурил Гервасий Аникеевич за первые полвека своей жизни.
Так приятно войти сюда – в комнатку к Марине! – и так радостно было у Флегонта на душе, – и, н ж тебе, такая досада!
– Марина! – сказал Флегонт, и в голосе его звучали и мольба, и волнение, и восторг, обуревавшие его в ту минуту. – Марина! Как же ты можешь завтра не пойти? Ведь будут провозглашать Украинскую народную республику!
– Ну и что?
Флегонт опешил.
– Как – что? Мечта всей нашей жизни!
Марина фыркнула;
– Недолго дожидались: тебе – семнадцать, мне восемнадцать.
– Не понимаю, как ты можешь над этим шутить. Будет республика, Марина! Не империя, а республика.
Марина продолжала лежать, отвернувшись к стене, но плечи ее поднимись и опустились – она вздохнула. Флегонт проговорил торжественно:
– И республика не буржуазная, а народная! Наша, украинская, народная республика! У нас будет свое государство, Марина. С завтрашнего дня и – навечно! Теперь уже навечно! – Глада у Флегонта светились, он высоко поднял голову, грудь порывисто вздымалась. – Разве не за это мы с тобой друг другу поклялись… отдать жизнь?
Марина снова вздохнула и тихо сказала:
– Сядь подле меня, Флегонт…
Флегонт присел на краешек дивана, у Марининых ног.
– Гонта! – прошептала Марина, и у Флегонта похолодело в груди! «Гонтой» Марина звала его не часто, лишь в самые задушевные минуты. – Понимаешь Гонга, так гнусно стало на сердце…
– Маринка!.. – вскрикнул Флегонт: ведь у Марины никогда не бывало гнусно на сердце, она всегда была такая горичая, страстная, энергичная. И вдруг упадок, равнодушие, апатия. – Маринка, отчего это?
– Ах, Флегонт!..
– Может, ты больна, Марина?
– А! – рассердилась Марина и снова отвернулась к стене.
Флегонт почувствовал, что на него повеяло холодом, Марина, даже подобрала ноги повыше, чтоб они не касались колен Флегонта. Какой он, а самом деле, остолоп: при чем тут болезнь, когда совершенно ясно, что болит душа!
Но Флегонт постарался овладеть собой. Холодом повеяло вовсе не от Марины, а от окна: окно еще не заклеено на зиму, на дворе хлещет холодный осенний дождь, и порыв ветра швырнул мокредью в стекло.
– Я полностью разделяю твое настроение, – поторопился заговорит Флегонт, пока новая волна молчания не стала неодолимой, – это действительно обидно и больно, что в восстании принимали участие одни рабочие, а украинские воинские части фактически… оставались в бездействии! Но если посмотреть со стороны, в исторической, так сказать, ретроспективе или еще лучше – перспективе, то какое это имеет значение? Ведь большевики теперь признают Центральную раду – сам Пятаков это сказал!
Флегонт был прав, Председатель Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов, он же председатель Киевского городского комитета большевиков, Юрий Пятаков – после того как победили в Киеве восставшие рабочие, но установилась власть Центральной рады, – действительно заявил, что теперь власть на местах будет принадлежать местным Советам – советская власть! – a вверху, центральным органом власти на Украине до Учредительного собрания останется… Центральная рада.
Марина передернула плачами и буркнула в подушку:
– Всероссийское Временное правительство тоже было – до Учредительного собрания, но оно свергнуто Октябрьским восстанием в Петрограде. А что произошло у нас после восстания? Создано… временное правительство, только что украинское. Но ведь это правительство, пускай и украинское, теперь подтверждает для Украины законы Временного правительства Керенского и Терещенко!
И Марина, тоже была права. Тотчас же после установления власти Центральной рады генеральный секретариат и в самом деле издал циркуляр, которым оповестил, тс на Украине и впредь будут действовать все учреждения и будут иметь силу все законы бывшего Временного правительства – до Учредительного собрания.
Марина наконец обернулась, порывисто села, упершись руками в диван, и почти закричала Флегонту в лицо:
– А разве не против этих учреждений и законов поднято было восстание? Почему же тогда вместе с Временным правительством не сбросили и нашу Центральную раду?
Флегонт ужаснулся:
– Как ты можешь это говорить, Марина! Это же – временно! Даже не до Учредительного собрании, а… вот, смотри! Нет, ты только погляди! – Он стал шарить руками по карманам и вытащил бумажку: – Ведь это же объявят завтра! А Учредительное собрание еще кто его знает когда!
В руках у Флегонта была листовка с текстом третьего «универсала», который и должны огласить завтра – торжественно, под колокольный звон во всех церквах, под пение «Ще не вмерла», на исторической Софийской площади: провозглашение Центральной радой Украинской народной республики
Текст «универсала» уже был отпечатан и распространен – Флегонт получил его, чтобы предварительно прочитать и разъяснить «вильным козакам» своей Куреневской сотни. Должна была получить такой текст и Марина для Старокиевской сотни. Но она не выходила сегодня из дому и на собрание инструкторов–информаторов при «вильнокозацких» сотнях не явилась. Поэтому и забежал к ней сейчас так поздно обеспокоенный Флегонт.
– Видишь? Видишь? – Флегонт тыкал пальцем в строчки текста. – «Народ украинский и все народы Украины!» Разве это не интернационализм?.. И дальше: «…право помещичьей собственности на землю… отменяется, для рабочих устанавливается… восьмичасовой день, на предприятиях… контроль». Разве ж это не социализм?..
Марина смотрела на Флегонта, но каким–то пустом взглядом.
– А на собрании инструкторов, – Флегонт прямо захлебывался от волнения, – говорили, что генеральный секретарь Симон Петлюра готовит приказ о том, что Красная гвардия, сыгравшая свою героическую революционную роль во время восстания, теперь, когда пора революционных взрывов миновала, распускается, только отдельные ее части – из украинцев – преобразуются в отряды «вильных козаков». И вообще «вильные козаки» станут теперь вроде регулярной армии. Так что…
– Так что, – наконец заговорила Марина, прерывая Флегонта, – ты, недоучившийся гимназист, карандаш, сосунок, беги в свой класс, садись за парту и зубри латинские исключения и таблицу логарифмов! Поиграл в революцию да в освобождение Украины, и хватит с тебя!
– Марина!
Флегонт увял и обиженно отвернулся. Конечно, что и говорить, это очень неприятно, что ты еще не окончил гимназии, – ах, это чертово несовершеннолетие, малолетство, когда вокруг творится история! – однако колоть этим так, как Марина, это же просто… свинство!
Но Флегонт был все–таки мужчина – пускай и несовершеннолетний! – и должен быть выше… девичьих настроений. И Флегонт поспешил сделать вид, что не придал значения Марининым словам. Он снова протянул Марине листовку с текстом «универсала» и указал пальцем на строчки:
– Пожалуйста, читай сама! Вот про землю: «…земля есть собственность всего трудового народа и должна перейти к нему без выкупа…» Да будет тебе известно, текст «универсала» писал сам Винниченко!
Винниченко! Если бы Флегонт знал, что упоминание о Винниченко ранит Марину в самое больное место!
Марина точно взбеленилась. Она порывисто вскочила с дивана, подбежала к столику, схватила газету и протянула ее Флегонту, тоже тыкая пальцам и газетный лист.
– Да, да! Пожалуйста, читай сам! – кричала она. – Донесения уездных комиссаров… комиссару губернскому!.. «После опубликования декрета Совета Народных Комиссаров крестьяне захватывают помещичьи земли… крестьянские волнения в поместьях… графа Бобринского… княгини Долгоруковой… графа Потоцкого… графини Браницкой… сахарозаводчика Балашова… княгини Гагариной»… Пожалуйста – Медвин… Самгородок… Побережки… Будища… Антоновка… Кагарлык… Пожалуйста – на Киевщине, Черкащине, Каневщине, Чигиринщине, Чернобыльщине, Звенигородщине…
– Погоди, погоди, Марина! – взмолился Флегонт, загнанный бурным наскоком Марины в угол между стеной, столом и стулом, ведь это же совершенно логично…
– Логично!.. А это – логично? Кто, говоришь, писал про землю – Винниченко? Читай, вот подпись Винниченко! Читай!..
Флегонт должен был прочитать. За подписью Винниченко был опубликован циркуляр генерального секретариата внутренних дел: «…ни в коем случае не допускать самочинного захвата земли… Виновные будут караться, как грабители… Для охраны землевладений комиссарам применять военную силу…»
– Прочитал? – кричал вне себя Марина, – Грабители!.. Карать!.. И кому приказ карать военной силой? Комиссарам свергнутого Временного правительства!..
Марина смяла газетный лист и швырнула им в ни в чем не повинного Флегонта. Схватила со стола часы – атлант с землею на плечах – и так грохнула ими, что маятник отлетел прочь. Опрокинула стул. Глаза ее полыхали сухим горячим блеском.
Флегонт, перепуганный, молчал. Он никогда, еще не видел, такой Марину. Конечно, поведение ее всегда было немножко… экстравагантно, но, в сущности, душой и сердцем, она была ласковая и милая, спокойная и веселая – и вдруг…
Марина села, уткнулись лицом в ладони и заплакала.
Флегонт совсем оторопел: ему еще не приходилось видеть Марину и слезах…
А Марина плакала как ребенок – всхлипывала и лепетала, захлебываясь, глотая слова:
– …Сама с ним говорила… тогда на вокзале… такая задушевная беседа… везу ультиматум Временному правительству… большевики загнали Керенского в угол… а большевистская программа – лучше всех… сам – большевик, более последовательный, чем большевистская партия… Владимир Кириллович!
Марина затопала ногами:
– Не смей мне никогда говорить о нем! Не смей!
И снова – слезы и всхлипывания:
– Говорил: Пятаков великодержавник, а по главе украинских трудящихся масс должно стоять украинское имя… и украинский народ пойдет… за большевиками…
И снова припадок истерики:
– Вот вам – украинское имя!.. Каратель!..
И снова тихий, жалобный плач.
– …а великодержавник Пятаков… – всхлипывала Марина, – теперь признает Центральную раду, целуется с Вла… Вла… Не смей при мне поминать это имя!.. А как же с самой лучшей, как он говорил, большевистской программой?..
Это свершался на пороге зрелости трудный и трагический душевный перелом, из которого душа не всегда выходит и победителем, а иной раз остается расколотой навсегда, – свершался быстро, мгновенно. «Крушение идеалов. Низвержение кумиров с пьедестала… Развенчание незыблемых авторитетов»… A за авторитетами, кумирами, идеалами стояли ведь мировосприятие и мировоззрение, сама душа.
2
Было уже поздно: атлант с Землею на плечах, но теперь уже без маятника, показывал одиннадцать, – когда после бурного возбуждения телом ее овладела слабость, а душу сковала апатия.
Марина неподвижно лежала на диване, Флегонт сидел рядом, Маринина голова покоилась у него на коленях, и он нежно гладил ее волосы. Волосы у Марины стояли копной – стриженые, вихрастые, всклокоченные, словно у озорника–мальчишки без мамы, и пахли они сухим осенним листом, как в лесу. Это были Маринины волосы. И вообще первые девичьи волосы, которых касалась рука Флегонта.
В груди у Флегонта что–то трепетало: то, верно, замирало сердце, сладко и горько – от волнения, нежности и грусти.
Марина совсем притихла, больше молчала, а если и роняла словечко, то едва слышным шепотом, но то не был покой умиротворения – лишь глубокая усталость тела и души.
Дождь за окном все усиливался – теперь он стучал в стекла мелкой дробью. В водосточных трубах хлюпало и журчало. Иногда срывался ветер – и тогда голые ветки тополей стучали в окно, словно просились с холода и ненастья в теплую комнату. Непогода опустилась, кажется, на весь мир и навеки. Была как раз такая ночь, когда, как говорят в народе, добрый хозяин и пса во двор не выгонит.
Теперь Марина и Флегонт говорили о Харитоне.
– Он погиб, но он знал, за что гибнет, – шептала Марина, и трудно было сразу понять, какое чувство в ней преобладает: грусть или восторг, скорбь или зависть.
– Бедный, бедный Харитон, – говорил и Флегонт, и в словах его тоже звучали и грусть, и восхищение, и зависть. – Мы всегда думали, что он просто сорвиголова, а он оказался таким героическим парнем. Жаль только, что он не осознавал до конца все величие того дела, за которое отдал жизнь! Мировоззрение у него было все–таки ограниченное…
– Не говори, не говори так! – тихо, но страстно возразила Марина и сжала Флегонту руку. – Он отлично сознавал – конечно, на уровне своего развития! Мы просто его плохо знали. А ты, хоть вы и дружили с детства, встречался с ним только для ваших ребяческих забав…
За дверью комнаты, в прихожей, что–то щелкнуло – английский замок, потом тихо скрипнула дверь и послышался шорох возле вешалки.
– Это Ростик, – прошептала Марина. – Его плащ…
В дверь легко постучали. Флегонт выпрямился и хотел незаметно отодвинуться, но Маринина голова стала словно тяжелее: Марина прижала колени Флегонта к дивану.
– Марина! – послышался голос Ростислава. – Я вижу, ты еще не спишь. Ты ужинала?
– Я уже ужинала, Ростик! Ужинай один. Кастрюля с кашей на диване под подушкой, хлеб – в буфете, чайник – на кухне в духовке: он еще теплый…
– Спокойной ночи, – сказал Ростислав.
– Спокойной ночи!
Марина удобнее примостила голову на коленях у Флегонта.
– Бедный Ростик, – прошептала она, – все еще терзается, правильно ли поступил. А я рада, что он работает с красногвардейцами, все ж таки нашел место в жизни и наконец стал легальным…
– Конечно, – согласился Флегонт, это очень хорошо.
Маринина щека крепко прижималась к его коленям, и он чувствовал, как нежность к Марине заливает его, даже кровь начинает стучать в висках.
Марина тихо улыбнулась – это была первая улыбка за весь вечер, и у Флегонта сразу стало легко и радостно на сердце.
– Но с папой, – шептала Марина, – они все время ведут бесконечные и жаркие дискуссии. Папа – безоговорочный пацифист, и большевиков ненавидит за то, что они призывают к войне против буржуазии. Папа – за мир, только за мир, и классовый – тоже.
– А Ростислав? – и Флегонт тоже перешел на шепот. Он боялся, что через две двери и прихожую Ростислав может услышать гудение его голоса – и это было бы неудобно. Впрочем, еще более неловко он чувствовал себя оттого, что скрывает свое присутствие здесь, наедине с Мариной. Он спрашивал о Ростиславе просто так, взгляды на жизнь Марининого брата не так уж его интересовали, но он должен был заговорить – спросить что–нибудь, потому что сердце в груди уже начало бить в набат.
– А Ростислав… философствует. – Добрая, ласковая улыбка снова пробежала по устам Марины: она любила своего старшего брата. – Ростислав все толкует о том, что, мол, веками русские люди жили по раз заведенному обычаю: для народа привычный уклад был нестерпимо тяжел, передовые люди России боролись против режима угнетения, но большинство тянуло лямку, даже не думая, что возможны какие–то перемены и жизнь может идти иначе, по–другому… – Марина постепенно увлеклась, шепот ее становился горячее, но в интонации звучала ирония. – И вот, говорит он, пришла революция. Многие ее ждали, но весь народ еще не был подготовлен и, разумеется, не представлял себе, какие могут произойти перемены. И народ, говорит Ростик, растерялся. А на самом деле растерялся он сам, это он сам не может представить себе, что ждет дальше Россию…
– А Украины он не признаёт?
– Признаёт… – вяло, сразу теряя пыл, ответила Марина. – Но Украина для него только часть России. А он – патриот всей России.
– Вот это и есть самая худшая форма патриотизма – мрачно, но твердо и уверенно, с твердостью и уверенностью, присущими только семнадцатилетнему возрасту, сказал Флегонт. – Патриотизм – слово латинское и означает любовь к отечеству. Можно быть англичанином, французом, немцем, но нельзя быть сыном всей Европы – каким–то бестелесным, абстрактным европейцем!.. Идеи космополитизма отжили свой век еще в пору великих просветителей! – Он произнес это весьма авторитетно, даром что о поре великих просветителей, да и об идеях космополитизма тоже он знал лишь в пределах гимназического курса словесности, где им посвящены всего два абзаца – петитом в примечаниях. – Можно любить Великороссию, Украину, Белоруссию, но «общероссийский патриотизм» – это либо ничто, только красивая фраза, либо… либо совершенно конкретная проповедь возрождения реакционной, империалистической, великодержавной Российской империи…
– А славянофилы? – прошептала Марина.
– Это ограниченность – славянофильство, германофильство или там – галломанство! Надо быть интернационалистом! А интернационалистическое мировоззрение приходит только через любовь к своему родному народу…
– Это… Лия научила тебя так думать?
Флегонт смутился:
– Нет, почему Лия? Наоборот… Это мои собственные убеждения…
Марина осторожно передвинула голову с колен Флегонта на свою ладонь. Темное чувство неприязни к Флегонту зашевелилось в ее сердце. Она думала точно так же, как Флегонт, но ведь Флегонт говорил то же самое и Лии – и в сердце ее проснулась… ревность.
Потому что, пускай и слова о любви не было сказано, – это шел любовный разговор. Такое уж было тогда время и так любили тогда молодые сердца – на грани двух эпох, когда все старые устои рушились, а новых еще не успели возвести. В любовном разговоре можно было и не услышать слов любви, но даже в беседах на политические темы непременно звучал голос сердца.
3
Снова у входных дверей зацарапал ключ – он никак не попадал в замочную скважину, потом наконец замок щелкнул, и дверь, захлопнувшись, грохнула так, что задрожали стены.
– Александр! – констатировала Марина.
Она порывисто села. В прихожей сразу стало шумно: шаркали подошвы, бренчали шпоры, что–то упало – верно, щетка с подзеркальника, и послышались невнятные проклятия.
– Пьян, как всегда! – с отвращением прошептала Марина. – Один, а точно целая рота солдат…
Александр Драгомирецкий между тем уже насвистывал веселые куплеты, передвигаясь по прихожей на ощупь вдоль стены: то ли забыл зажечь электричество, то ли не держался на ногах с перепоя. Вот его рука нащупала дверь в Маринину комнату. Но прежде, нежели он успел нажать ручку и отворить, Марина вскочила с дивана, бросилась к двери и мигом накинула крючок. Дверь тряхнуло, но крючок крепко сидел в петле.
– Отвори! – крикнул Александр. – Слышишь, ты же не спишь: у тебя свет, я вижу…
– Что тебе нужно?
– Поговорить хочу…
– Отстань. Я уже в постели…
– П… по… говорить хочу с родной… сссс… сестрою, – пьяно захныкал Александр. – Отвести д… душу…
– Я уже сплю.
Марина протянула руку и щелкнула выключателем. Комнату укрыла тьма. Минутку Александр молчал, только сопел – там, в прихожей, полоска света из–под двери погасла и он, очевидно, раздумывал, что делать дальше.
– Ну! – нетерпеливо лягнул он ногою дверь. – Открой!
– Уходи сейчас же прочь, пьянчуга!
– Дура, дурища! Репаная Гапка!.. Я тебе завтра патлы повыдергаю!.. Размалюю твою… мордопысню… Железяку на пузяку – геп!..
Пьяно икнув, Александр еще раз в сердцах ткнул дверь ногой и, спотыкаясь, двинулся в другую сторону – к стене напротив. Снова что–то упало на пол – слышно было, как он шарит руками, нащупывая дверь в столовую и ругаясь вполголоса.
Марина отошла от двери и тяжело упала на диван.
Теперь в темную комнату, словно украдкой, входило окно: сперва это была чуть брызжущая сероватая муть, потом она стала яснее и на ней крестом обозначилась оконная рама, а вот стали видны и голые ветки, что под порывами ветра то приникали к стеклу, то выпрямлялись.
Темна осенняя ночь, но глаза уже привыкли к темноте – и Флегонт видел: Марина лежит ничком, зарывшись лицом в подушку.
– Ты плачешь, Маринка? – прошептал Флегонт, склоняясь над нею.
Марина молчала. Потом ответила сухо:
– Нет. Буду я еще плакать из–за этого… ничтожества!.. Но так гадко, так обидно…
Флегонту тоже было горько. Сочувствие и нежность переполняли его сердце. Так хотелось чем–нибудь утешить девушку. Обнять бы, прижать к груди, приголубить.
И он бы обнял и приголубил – если б не темно в комнате: обнимать в темноте было как–то… неловко.
Но Марина и сама в эту минуту жаждала сочувствия, доброго слова, дружеской ласки. До того одиноко и неуютно стало вокруг на свете: эта неудовлетворенность происходящим, это крушение общественных идеалов, эти зашатавшиеся гражданские авторитеты… Да и дома, в семье: отец и Ростислав – милые и родные, но разве найдешь у них сочувствие? А тут еще этот гнусный тип – тоже брат…
Марина подвинулась ближе к Флегонту и припала лбом к его руке. Лоб был горячий.
– Ах, Гонта…
– Марина!..
Флегонт наклонился к Марине. Он уже сказал ей «люблю» – тогда на круче над Днепром, а Аносовском парке… Боже мой! Это же было как раз там, где убит – Харитон… Любовь и смерть – на одном и том же месте! Какая судьба выпала их поколению… И с тех пор о любви так ни слова и не было между ними сказано – ведь какие же события! Но сейчас он мог бы снова заговорить о любви. Когда у Марины так горько, так тоскливо на душе. Когда она так нуждается в сочувствии и утешении. Когда ей нужен близкий человек. Когда в слово любви можно вложить всю нежность и всю близость… И он сейчас заговорит, он скажет…
– Марина…
Но Марина как раз подняла голову и приложила ладонь к его губам: из столовой через прихожую долетал голос Александра – он нашел уже дверь, открыл ее и так и бросил открытой. Марина прислушивалась.
– A! Наше вам… поручику крас… красной… гв… гвардии ее большевистского величества… от старшины неньки Украины! Банзай!
Ростислав молчал. Слышно было, как он выскребает ложкой кашу из кастрюльки.
– Имею честь!.. – снова начал ломаться Александр, подождав немного. – Молчите? Не желаете говорить с род… родным братом?
Ростислав молчал. Слышно было, как звякнула ложка о тарелку: Ростислав начал есть.
Загремел стул – Александр, очевидно, споткнулся о ковер на полу. Потом взвизгнули и тяжело заскрипели пружины: он плюхнулся в кресло.
Марина сжала руку Флегонта:
– Мамино кресло… Пьяная свинья!
Из столовой долетел спокойный, но резкий голос Ростислава:
– Встань с маминого кресла!
Пружины снова взвизгнули и застонали.
– Пардон… Извиняюсь, прошу прощения!.. Нечаянно…
Минутку в столовой было тихо – только позвякивал ложка о тарелку, потом Ростислав крикнул:
– Алексашка, что ты делаешь! Зачем целуешь кресло?
Тогда послышались всхлипывания Александра:
– Мамочка моя, мамочка…
– Встань! – крикнул Ростислав.
Александр ползал на коленях, обнимал и целовал кресло покойной мамы.
– Боже! – Марина снова упала головой в подушку.
В столовой послышалась какая–то возня: старший брат, очевидно, отрывал от кресла и подымал с пола младшего – пьяного, в слезах.
– Брось, Александр, – говорил Ростислав. – Да ну же, вставай! Как тебе не стыдно? Ты позоришь и оскорбляешь… память матери.
Потом скрипнул отодвинутый от стола стул и в столовой стало совсем тихо – Александр, очевидно, сел и угомонился. Снова зазвякала ложка о тарелку.
Марина передвинула голову с подушки на руки Флегонта и зарылась лицом в его ладони. Флегонт сидел, боясь шевельнуться.
В столовой зазвучал голос Александра – он уже не заикался:
– Да, я подлец!
Ростислав не ответил. Он продолжал есть.
– Подлец я!.. К неньке Украине перекинулся… пан старшина! Поручик армии его императорского величества… Анна, Георгий…
– Брось, Александр! – тихо обронил Ростислав.
В столовой снова воцарилось молчанье. Потом опять заговорил Александр:
– Однако и ты хорош: в денщиках у этих красножо…
– Александр! – крикнул Ростислав. – Прощу тебя замолчать!
Александр хмыкнул, но умолк.
Через минуту прозвучала еще одна его фраза:
– А впрочем, кажется, я тебя понимаю… А, Ростислав, я понимаю тебя, правда?
Ростислав молчал.
Прошла еще минута, и Александр снова заговорил:
– Сегодня на Дон, к Каледину, выехало и Николаевское училище. Шестьсот юнкеров с полным вооружением… Вчера уехало Александровское. Позавчера – Константиновское… Геть кацапов–юнкеров с нашей неньки Украины! Ррреволюционный генеральный секретарь пан Петлюра высылает к чертям собачьим контрреволюционную кацапню–офицерню…
Ростислав молчал.
– А завтра–послезавтра двинется сводный офицерский эшелон. Все офицеры, кто только пожелает. Запись проводит комендатура. Геть с неньки Украины и из большевистского рая! Правда, только с личным оружием: пистолет и шашка…
Ростислав молчал.
Александр хлопнул ладонью по столу:
– А я думаю: не Петлюра избавляется от кацапов и контрреволюции, а сила и слава русского оружия собирается под рукой атамана Каледина на Дону!
Ростислав молчал.
Стул заскрипел – слышно было, как мягко прозвенели шпоры.
– Чего тебе? – послышался голос Ростислава.
Очевидно, Александр обошел вокруг стола и остановился возле брата.
– Ростислав! – Голос Александра казался совершенно трезвым. – Я тоже уеду, Ростислав.
– Ты ведь не захотел бежать со штабом?
– То – бежать, а то… И одно дело тогда, а другое – теперь…
– Скатертью дорога…
В столовой стало тихо.
Тихо было и в комнате Марины. Марина снова подняла голову и напряженно вслушивалась. Слушал и Флегонт.
– Ростислав! – снова заговорил Александр. – Ты тоже можешь пойти завтра в комендатуру…
В столовой было тихо.
Марина сжала руку Флегонта. У Флегонта колотилось сердце. И он слышал, как колотится сердце Марины. Александр говорил:
– То, что ты возился с красногвардейцами во время восстания, об этом никто не вспомнит… все это понятно каждому…
Тихо было в квартире Драгомирецких. В комнатке Марины Драгомирецкой быстро–быстро, словно спеша за неумолимым и безвозвратным бегом времени, тикали часики: атлант с земным шаром на плечах. Теперь, когда маятник оторвался, минутная стрелка обегала циферблат за одну минуту.
– Слышишь, Ростислав, и о твоем дезертирстве с фронта никто не станет поминать: боевыми делами, кровью смоешь позор… А!
Гулко и звонко прозвучала пощечина. Грохнул и покатился опрокинутый стул. Марина вскочила. Флегонт схватил ее за руку.
– Пусти!
Марина бросилась к двери. Но Флегонт перехватил ее:
– Не надо! Сейчас не надо!
– Пусти!..
Они боролись у запертой двери в темноте.
– Тише! – Марина замерла в руках Флегонта: она слушала.
Но в столовой все было тихо. Потом шпоры зазвенели, быстро приближаясь сюда, в прихожую. Александр шел, не произнося ни слова.
Но на пороге столовой он остановился.
– Сволочь! – хрипло выкрикнул он. – Сволочь! Я тебе… ничего не забуду!.. Дезертир! Красная сволочь…
Слышно было, как Александр рванул с вешалки свою шинель. Наружная дверь хлопнула, быстрые шаги протопали вниз по лестнице – дальше и дальше, ниже и ниже. Потом они затихли, но еще раз гулко хлопнула дверь, в подъезде.
Марина в темноте нашаривала крючок.
– Марина!
– Подожди меня здесь.
4
Ростислав наливал себе из чайника чай, когда Марина появилась на пороге столовой. Рука Ростислава дрожала, он был бледен.
– Ростик!
– А! Ты проснулась? Разбудил этот…
– Ростик! – Марина кинулась к брату. Схватила его за плечи. Припала щекой к груди.
– Что такое?..
– Ростик!
– Ты слышала…
– Ты его ударил!
– И наш разговор ты слышала?
– Слышала… слышала все…
Марина обнимала брата, терлась щекой о щеку.
– Ростик, бедный… Ростик, какие мы с тобой бедные!..
Ростислав освободил руку и похлопал сестру по спине:
– Ничего. Успокойся, Марина. Иди спи…
– Ты выгнал его?
– Он сам ушел.
– Ах, Ростик…
Ростислав освободил и вторую руку и стал размешивать ложечкой чай в стакане.
– Ведь ты не положил сахару. Я сейчас!
Марина метнулась к буфету.
– Боже мой, и чай–то холодный. Я согрею!
Она схватила, чайник, хотела бежать на кухню.
– Не надо, Марина. Ты же знаешь, я люблю холодный.
– Hy, так… я тебе поджарю сейчас свежих блинчиков!
– Не надо. Спасибо. Я уже поужинал.
Марина отодвинула стул и села против брата. Локтями она оперлась о стол, лицо положила на ладони. Она смотрела на брата. Во взгляде ее было все: и сочувствие, и боль, и тревога, и как будто бы радость, а больше всего – растерянность.
– Что скажет… отец? – прошептала Марина.
Ростислав не ответил. Он пил чай маленькими глоточками и смотрел поверх Марининой головы куда–то на стенку.
– Он правда уедет на Дон?
Ростислав не ответил.
– Их в самом деле уезжает сейчас много: три военных училища, пять школ прапорщиков… Нет, – поправилась Марина, – школ прапорщиков четыре: украинская школа прапорщиков остается…





