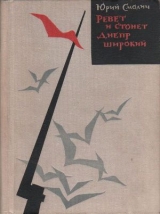
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 62 страниц)
ОКТЯБРЬ, 1



НАКАНУНЕ
1
Документы и выписку из тюрьмы нужно было получать у самого коменданта.
Юрий Коцюбинский сидел перед столом дежурного офицера в состоянии полнейшей апатии, невнимательно слушал чтение протоколов и бездумно поглядывал в окно.
За окном тяжело нависали седые петербургские небеса – тоскливые, как сам тюремный день. Ближе серой громадой поднимались мрачные стены и причудливые амбразуры павловского Инженерного замка. Офицер читал протоколы, как гнусавый дьячок читает деяния апостолов и великий пост, без какого бы то ни было осмысления, и у Юрия иногда слипались веки: хоть бы уснуть! Но стоило ему прикрыть глаза, как сразу же начинала кружиться голова: после десятидневной голодовки он еще не оправился и был слишком слаб.
Мертвенным голосом церковного дьячка дежурный офицер читал о том, что прапорщик Коцюбинский Юрий Михайлович был арестован за участие в антиправительственном мятеже июльских дней и за подстрекательство к таким же действиям подчиненных ему солдат 180–го полка и находился под следствием два с половиною месяца. Пребывая в заключении, упомянутый прапорщик систематически нарушал тюремный распорядок, а именно: трижды, неведомо коим противозаконным путем, установив связь с «волей», выступал в газетах. Первый раз – в газете «Рабочий путь» опубликовал протест против ареста представителей левых партий. Второй раз – с группой других заключенных письменно приветствовал нелегальный Шестой съезд антиправительственной партии большевиков. И в третий раз – в числе тридцати восьми арестантов – на страницах газеты «Рабочий и солдат» угрожал объявить голодовку–протест. Наконец, именно в дни путча генерала Корнилова заключенный Коцюбинский свою угрозу осуществил и в течение десяти суток не принимал пищи, доведя себя таким способом до состояния предельного физического и психического изнурения и возможного, согласно заключению тюремной больницы, «конссиссере сиби мортем».
Офицер на мгновение поднял свой равнодушный ко всему на свете чиновничий взор:
– Военный юристы подчеркивают: «конссиссере сиби мортем», а не «мортем окумбере» или «мортем суа мори», – вы, кажется, учились в гимназии и должны понимать латынь?
Коцюбинский кивнул.
Однако дотошный военный чиновник счел своим долгом сделать точный перевод:
– Что означает «причинять смерть себе самому», а не умереть принудительной смертью или смертью естественной… Таким образом, отклоняется какое бы то ни было основание для обвинения тюремной администрации в покушении на вашу жизнь, а также и основание для констатации смерти в результате какой–либо болезни, если бы вы все–таки вскоре умерли от истощения и кто–нибудь из ваших родных или друзей пожелал бы начать судебный процесс. Вам понятно?
Коцюбинский снова кивнул. Ему было безразлично.
– Распишитесь.
Коцюбинский взял из рук офицера перо и склонился над протоколом, а офицер вынул из папки второй документ – выписку об освобождении из тюрьмы.
В эту минуту дверь из коридора широко распахнулась и через комнату быстрым, стремительным шагом прошел офицер в малиновой черкеске без погон. Не постучав, точно так же порывисто и решительно, офицер отворил другую дверь и скрылся в кабинете коменданта.
Коцюбинский мельком взглянул на лицо офицера в черкеске: взъерошенные волосы ниспадали прядями на лоб, челюсти были плотно стиснуты, под скулами выпирали желваки, глаза смотрели остро, пронзительно, пожалуй, даже исступленно.
Дежурный офицер индифферентным взглядом проводил офицера в черкеске, опустил свои рыбьи глаза на бумаги перед ним, прислушиваясь к тому, что происходит за дверью кабинета начальника, – оттуда никаких звуков не доносилось – и снова начал гнусавым голосом читать Коцюбинскому текст следующего документа.
В тюремной выписке отмечалось, что подследственный прапорщик Коцюбинский временно – до военно–полевого суда, который должен состояться в скором времени и о дне которого будет сообщено особо, – освобождается из тюремного замка на поруки Петроградского комитета Российской социал–демократической партии большевиков.
– Распишитесь в получении.
И пока Коцюбинский ставил свою подпись, офицер тем же нудным, почти без модуляций, голосом, лишь слегка искривив тонкие губы в улыбке, – это было первое движение на его лице – говорил:
– Вот какие дивные дела творятся теперь на свете, прапорщик! Вас отпускают до суда на поруки, ибо нет юридических оснований не разрешить поруки, но берет вас на поруки партия, которая юридически хотя и не лишена легальности, однако фактически находится в состоянии полулегальном, как сказали бы юристы, ибо даже съезд этой партии происходил нелегально, а вождь ее скрывается в подполье, ловко уходя от преследования сотен агентов, которые сбиваясь с ног, рыщут за ним повсюду. Поистине, чудны дела твои, господи!..
Он развел руками и поднял глаза к небу, словно бы призывая в свидетели самого господа бога.
Коцюбинский понемногу приходил в себя: итак, Ленин в подполье, и ни одному филеру до сих пор не удалось напасть на его след! Какое счастье!
А офицер гнусавил дальше:
– Странные, непостижимые дела творятся на свете, прапорщик! Ей–богу! Вот вы, видно, надо полагать, обратили внимание на сего красавца в малиновой черкеске? Муравьев. Полковник Муравьев. Всегда вот так – не рапортует, не просит доложить о прибытии: толкает дверь – хорошо еще, если рукой, и то и просто ногой – и прет прямехонько к старшим по чину. Анфан террибль! Вы учились в гимназии и должны понимать это выражение: русский перевод – страшный ребенок или ребенок, который приводит всех в ужас, – отнюдь не передаст точного смысла этой французской идиомы! Сущий анфан террибль!
Коцюбинский остановил на офицере изумленный взгляд: по первому впечатлению он никак не мог предположить, что этот нудный чиновник военно–тюремной канцелярии может быть таким общительным.
Но офицер истолковал удивление Коцюбинского по–своему:
– Да, да, тот самый Муравьев! Всем известный инициатор создания «ударных батальонов смерти» и до последних дней их активнейший организатор. И вот, пожалуйста: к Корнилову не примкнул, хотя во время путча пребывал рядом с ним, в ставке; Керенского тоже отказался поддерживать, хотя от Корнилова прибыл именно в генеральный штаб к Керенскому. Мало того, – вы обратили внимание: без погон? Сорвал погоны, снял ударницкий шеврон, отказался продолжать организацию батальонов «ударников» и требует назначить его – кем бы вы думали? – начальником обороны Петрограда, потому–де, что немцы вот–вот ринутся в брешь фронта под Ригой! Господи, твоя воля! Ярчайше выраженный психопатологический тип! Маньяк! Таких нужно в дом для умалишенных, а он здесь всех терроризирует…
Офицер, видимо, говорил бы еще, но на столе перед ним зазвонил телефон.
– Вас слушает дежурный офицер второго комендантского управления Петрограда!.. – Он слушал, что ему говорили, но поглядывал на Коцюбинского, словно бы речь шла именно о нем. – Да. Сегодня. Именно сейчас. Оформлено. Здесь. Хорошо. Собственно, я могу передать ему трубку. – Он протянул трубку Коцюбинскому. – Это вас, прапорщик Коцюбинский! – Кривая улыбка снова коснулась его тонких, бескровных губ. – Ваши поручители беспокоятся!.. Им не терпится…
2
Коцюбинский, не скрывая удивления, взял трубку.
– Прапорщик Коцюбинский слушает!
– Юрко! Это ты?
Бог ты мой, это же был Подвойский! Первый голос, который Юрий услышал после двух с половиною месяцев тюрьмы! В груди у него потеплело, рука, державшая трубку, перестала дрожать.
– Николай Ильич! Дорогой! Откуда вы? А где…
– Здоров, здоров, дружище! Ну, вот ты и по эту сторону решетки. Как твое здоровье? Как себя чувствуешь? Уже набрался сил? Ведь всего лишь три дня, как ты начал принимать пищу. Куда собираешься сейчас идти?
Юрий пожал плечами и слабо улыбнулся:
– Я еще не подумал об этом, честное слово. Вряд ли есть смысл возвращаться в свой Сто восьмидесятый – ведь он расформирован после… июльских событий… И я бы хотел прежде всего знать…
Подвойский сразу же прервал:
– Не расформирован, а разоружен, но все солдаты в казармах. И… если дать им оружие, снова будет полк. А оружие ведь где–то же есть? А? Должен понимать, что я имею в виду.
– Понимаю, Николай Ильич! – Слабость как рукой сняло, Юрий чувствовал, как волнение начинает распирать ему грудь. – Но я бы хотел прежде всего спросить…
Подвойский снова прервал:
– Тебе в самом деле не стоит возвращаться в свой полк. Ho об этом при встрече. Хватит ли у тебя сил прийти сюда, в цирк «Модерн»? Мы тут устраиваем митинг. Это – на Кронверкском проспекте, трамваем ехать несколько минут.
Дверь из кабинета коменданта открылась, и на пороге появился офицер в малиновой черкеске.
Юрий произнес неуверенно:
– Цирк «Модерн»… митинг… сейчас?..
И сразу услышал голос Подвойского из трубки:
– Я понимаю, о чем ты все время порываешься меня спросить. Ты, конечно, не можешь – тебя слышат. Но я отсюда могу говорить более свободно… Скажи: какой там у тебя телефонный аппарат – полевой или городской станции?
– Городской…
– Тогда слушай: вчера он возвратился… издалека. Сегодня был на заседании Центрального Комитета. Все это – конспиративно разумеется. И с такой же целью. Итак, делай для себя выводы. Тебя удовлетворяет моя информация?
Голова у Юрия шла кругом, но на этот раз уже не от слабости. Юрий в эту минуту почувствовал, наоборот, прилив больших сил, он только не смог вымолвить ни единого слова – горло его перехватил спазм. Он слушал Подвойского и смотрел, как и раньше в окно – на седые небеса над Петроградом, на серые стены Инженерного замка, но, право же, и в пасмурном небе, и в мрачных стенах не было ничего необычайного, просто облачное небо и мокрая каменная стена. Петербургская осень. А на Украине в это время еще цветут чернобривцы, георгины и даже ароматный белый табак. Сердце Юрия стучало сильнее и сильнее: Ленин возвратился в Петроград и непосредственно руководит жизнью партии! Конечно, конспиративно и… с такой же целью? А какая же еще может быть у партии цель, кроме одной, определенной ей Шестым съездом?
– Ты услышал меня, Юрко?
– Удовлетворяет… – наконец выдавил из себя Юрий.
– Ну так как, хватит у тебя сил прийти сейчас? Это очень нужно.
– Каким номером трамвая ехать?.. Ага!.. Я думаю, что буду через пятнадцать – двадцать минут.
Коцюбинский положил трубку и сразу встал. От резкого движения ему не сделалось дурно, и голова не закружилась. Офицер смотрел на него, не скрывая любопытства.
– По всему видно, что вы узнали какую–то важную и… радостную новость?
– Я могу идти? – спросил Коцюбинский.
– Пожалуйста. Выписку вы получили. Все прочие документы до суда остаются здесь. Но ведь вы еще такой слабый, прапорщик! Берегитесь…
Коцюбинский взял выписку, сунул и карман, откозырял.
Вдруг сзади, от порога кабинета коменданта, послышался голос, резкий и немного насмешливый:
– Не волнуйтесь, капитан, за прапорщика: я позабочусь, чтобы с ним ничего не случилось по дороге в цирк «Модерн».
Это сказал Муравьев. Коцюбинский направился к двери, и Муравьев пошел следом за ним.
– Разве вы тоже… на митинг? – спросил Коцюбинский, когда они переступили порог коридора. Он смотрел на Муравьева, на его худое с нездоровой желтизной – некогда, очевидно, красивое – лицо, на его глаза, глубоко запавшие в орбитах: взгляд Муравьева был колючий, пронзительный и в самом деле – неистовый.
Муравьев улыбнулся – улыбка у него была тоже какая–то не такая, как у всех людей: невеселая, злобная, зловещая.
– Услышал, что вы в цирк «Модерн», и сам решил пойти туда же. Митинг ведь большевистский?
– А вы разве большевик? – спросил Коцюбинский.
Насмешливая или зловещая улыбка снова искривила губы Муравьева.
– Митинги предназначены для всех, какая бы партия их ни созывала. Иначе это был бы не митинг, а партийное собрание. Разве не так?
– Вы – большевик? – снова спросил Коцюбинский.
– Если это имеет для вас значение, то – нет. Я эсер. Левый.
Юрий остановился на пороге. С улицы ударило свежим, терпким, влажным осенним воздухом. Он глубоко, всей грудью вдохнул. Только теперь у него немного закружилась голова.
– Митинги, конечно, созываются для всех… – сказал он и вдруг добавил: – Но я не люблю эсеров. И правых, и левых.
Губы Муравьева снова искривились в улыбке:
– Откровенно и в лоб! Ценю! Но разрешите полюбопытствовать – почему? А впрочем, пустой вопрос: потому что вы большевик, а я эсер. Но напоминаю: я левый эсер! А у левых эсеров с большевиками дружба против всей современной кутерьмы!
– Неважно, – молвил Коцюбинский, – я не люблю эсеров, в какой бы цвет они себя ни окрашивали, и какая бы ни была вокруг… кутерьма!
– Ого! Узнаю большевистскую непримиримость! Уважаю! Боюсь только, что вы такой же молодой большевик, как и я – левый эсер!
Коцюбинский промолчал. Должен ли он был возражать? Сказать, что с шестнадцати лет стал членом РСДРП(б)? Что деятельность в большевистском подполье начал еще до войны и не прекращал ее даже в казематах Инженерного замка?
– Да, – сказал Коцюбинский, – я молодой большевик, но цену эсеровщине знаю по всем ее и старым, и новым провокациям. С вашего разрешения, полковник, я дальше пойду один…
3
Подвойский встретил Коцюбинского у входа в огромное деревянное здание цирка «Модерн». Они крепко расцеловались.
Подвойский отступил на шаг и окинул Юрия с ног до головы быстрым взглядом:
– Молодец! Я так и думал!
Сам Николай Ильич похудел еще больше, скулы выпирали, в глазах тусклый блеск от многих бессонных ночей, на висках серебрилась седина – Юрию показалось, что раньше он ее не замечал. Нежное чувство к другу и учителю болью сжало сердце Юрия: ведь он, Коцюбинский, отлеживался в тюрьме, и сколько за это время пришлось поработать добрейшему Николаю Ильичу! ЦК, Петроградский комитет, военка и – Ленин! Связи с Лениным в подполье проходили через Подвойского.
– Как же Ленин, Николай Ильич! Значит, он здесь? Вы сказали…
Но Подвойский уже тянул Коцюбинского за кулисы. Митинг начался – нужно было спешить. Вестибюль был пуст, двери в зал прикрыты, и, пока они шли по бесконечным переходам огромного помещения летнего цирка, Подвойский успел выложить Юрию все, что нужно и что можно было сказать. Перевыборы в Петроградский совет, проведенные после корниловского путча, дали наконец большевикам большинство. Такое же большинство только что завоевали на перевыборах в Совет и большевики в Москве. Аналогичные результаты и в провинции, особенно в индустриальных центрах. Следовательно, лозунг «Власть Советам!» снова обретает свое пролетарское, революционное содержание. Ты спрашиваешь об Ильиче? Еще седьмого октября он нелегально возвратился в Петроград. Не волнуйся, конспирация самая надежная – шпикам его не найти! Вчера, десятого, состоялось заседание ЦК, и Ленин принял в нем участие. Он сделал доклад о текущем моменте. Что он сказал? Господи, да разве же коротко перескажешь? Достаточно тебе будет знать, что в своем постановлении по докладу Ленина Центральный Комитет признал, что вооруженное восстание назрело и должно быть осуществлено безотлагательно. Эмиссары ЦК уже разъезжаются по всей стране, чтобы готовить восстание на местах. Когда? Скоро. Шестнадцатого снова будет заседание ЦК, и тогда определится точная дата. Во всяком случае, уже завтра на пленуме Совета должен быть создан штаб восстания – Военно–революционный комитет. Ленин настаивает, чтобы восстанием руководил не партийный, а общественный центр, с участием беспартийных рабочих, и чтобы он был органом Совета – за власть Советов! Кстати, тебя, Юрко, мы тоже вводим в состав Петроградского военно–революционного комитета…
– Меня? Но ведь я…
– Тебе придется немножко поработать. Эти два месяца, пока ты кормил вшей в Инженерном замке, все члены военки день и ночь работали инструкторами военного дела в отрядах Красной Гвардии. Сегодня мы можем поставить под ружье тысяч сорок пролетариев. Но ведь есть еще воинские части, гвардейские полки прежде всего. Учить их военному делу не приходится, но повести в бой на нашей стороне, за власть Советов, могут лишь наши люди. Мы создаем институт комиссаров. В каждую воинскую часть пойдет наш комиссар–большевик, и через него его часть должна будет выполнять приказы только нашего штаба, а не штаба Керенского, то есть только приказы Военно–революционного комитета! Шестнадцатого, на заседание ЦК, я уже представлю список комиссаров для всех частей. Тебя мы назначим комиссаром в гвардейский Семеновский полк. Должен заранее предупредить тебя, что это очень трудный полк: в июльские дни он выступал против нас, и в нем весьма распространены реакционные настроения: немало поработали офицеры–монархисты. Сейчас там действует солдатский комитет, однако он под меньшевистским влиянием. Так что учти все это и набирайся сил, Юрко!
Коцюбинский молчал. Что он мог сказать, да и говорить у него не было сил. Грудь его распирало от волнения. Но вслед за тем сердце сжималось от страха – от самого обыкновенного, мерзкого страха. Годится ли он для такого дела? Справится ли он с такой задачей? Быть комиссаром целого полка! Поднять реакционно настроенный полк и повести на баррикады! Хватит ли у него партийной закалки? И вообще – обыкновенной человеческой силы и воли?
Коцюбинский молчал в растерянности. Они уже пришли. За кулисами, у выхода на арену, толпились товарищи. Кое–кого из них Коцюбинский знал – они приветствовали его дружеским пожатием руки, словами радости и сочувствия. Юрий отвечал и на пожатия рук и на слова приветствия, но все происходило как бы без его участия, словно в каком–то ином мире.
Подвойский что–то говорил ему и наконец, он это услышал:
– А сейчас ты должен выступить. Еще два–три оратора, и затем ты – в заключение. – Николай Ильич улыбнулся. – Ты уж прости, но мы решили прибегнуть и к такому… театральному эффекту, под занавес! Ты – из тюрьмы и прямо на митинг, к народу: выступаешь и говоришь свое первое слово после каземата. Ты не ожидал от меня таких… театральных способностей?
– Прости, Николай Ильич, – заговорил, наконец и Коцюбинский. – Но что это за митинг? Чему он посвящен? Это – солдаты Семеновского полка, где я должен быть комиссаром?
Подвойский удивленно взглянул на него:
– Почему полка? Почему Семеновского? Ах, да!.. – Николай Ильич был обескуражен. – Вот так штука! А мне казалось, что я уже тебе рассказал. Нет, это митинг землячества.
– Какого землячества? – не понял Коцюбинский.
– Украинского землячества. Сегодня у нас митинг украинского. Вчера был – грузинского. Позавчера мы собирали магометан. Завтра будут армяне. Послезавтра – белорусы. Затем – сибиряки, волжане…
– Студенты? – До сих пор Коцюбинский знал о существовании землячества в студенческой среде. – Университет или вообще?
– Почему студенты? Почему университет? – удивился Подвойский. – Ах, да! ведь мы взялись за это уже без тебя, пока ты там гнил в подвале! Мы организуем здесь землячества по национальностям, а иногда – просто по губерниям. Понимаешь, очень удобная… легальная форма – будто только культурно–просветительная работа среди граждан одной национальности или даже просто жителей какой–либо одной местности: Временное правительство не догадывается чинить препятствий. В основном это солдаты и матросы разных частей. Они возвращаются в свои части, а затем они же и двинутся на села. Это, если хочешь, наш костяк для организации борьбы за власть Советов на местах. Мы читаем лекции и растолковываем программы партий. Конечно, – Николай Ильич хитро подморгнул, – в этом дискуссионном клубе мы камня на камне не оставляем от программы меньшевиков и эсеров. Знаешь, получилась совсем не плохая форма пропаганды, агитации и борьбы против соглашательских партий… Но подожди, подожди, что там такое? – Подвойский потащил оторопевшего Коцюбинского ближе к выходу на арену. – Кто это там так распинается?
4
Они придвинулись совсем близко, и Подвойский приоткрыл тяжелый занавес. Огромный амфитеатр цирка дохнул спертым воздухом, дымом махорки, гнилым запахом опилок на арене. Тысячи человеческих лиц шевелились по ярусам снизу вверх. И стал слышен глухой гомон толпы, отдельные выкрики–реплики, но громче всех были вопли оратора.
– Что за черт? – изумился Подвойский. – Какой–то тип в малиновой черкеске… Из Дикой дивизии, что ли? Или из Киева из гайдамаков Центральной рады?..
Муравьев надрывался:
– Немецкое наступление угрожает революции! Армии Вильгельма – авангард мирового империализма!..
Он размахивал руками, широкие рукава черкески взлетали крыльями в воздух, когда он поднимал руки вверх, и тогда из–под малиновых крыльев серебристо сверкали узкие, белого атласа, рукава подчеркесника – и это мелькание малинового и белого раздражало не менее, чем сами слова и чрезмерная патетика интонации.
– Генералы бездарны! – разглагольствовал Муравьев. – Генералы предатели и реакционеры! Военная хунта печется лишь об интересах капиталистов! Корнилов и Керенский одного поля ягоды: их призывы к патриотизму – спекуляция на чувствах обывателя! Но обыватель окопался в тылу, а мы проливаем кровь на фронте, чтобы преградить путь немецкому империализму…
Упоминание о фронте импонировали аудитории, и отовсюду послышались возгласы одобрения. Сверху, с галерки, зааплодировали.
– Всех генералов, капиталистов, министров, плутократов в расход!..
По ярусам цирка прокатились волны аплодисментов, матросы с галерки завопили: «Даешь!»
– Черт! – выругался Подвойский. – Какой–то анархист! Он сорвет митинг…
– Это не анархист. Это «ударник» Муравьев.
– Да что ты говоришь!
– И рекомендуется левым эсером!
– Юрко! – ухватил Коцюбинского за руку Подвойский. – Сейчас же тебе слово! Ты должен поставить его на место!
– Подожди! – Юрий тоже перехватил руку Подвойского. – Но что же я скажу? И к тому же я плохой оратор…
А Муравьев распинался:
– Только всемирное восстание против мирового империализма! На революционных штыках мы понесем смерть империализму!
Муравьев приостановился, чтобы глотнуть воздуха, и председательствующий воспользовался паузой:
– Все это очень хорошо, товарищ, но мы собрались для того, чтобы обсудить национальные интересы украинцев на путях социалистической революции. Поэтому прошу вас ближе к теме или…
– Какие там еще национальные интересы?! – заорал Муравьев. – Революция не знает ни государственных границ, ни национальных рамок! Какие там еще украинцы? Контрреволюция! Долой подпевал Киевской центральной рады! Украинцы – предатели интернациональной борьбы!..
В цирке поднялся шум. Кто–то кричал: «Браво, даешь!» Но преобладали возгласы протеста: «Долой с трибуны! Самого в расход!..» В зале сидело несколько тысяч украинцев, а оратор их оскорбил. Свист, шиканье, топот не дали уже Муравьеву говорить дальше.
Еще несколько минут Муравьев пытался перекричать всех, испуская истерические вопли, размахивая бело–малиновыми крыльями черкески, даже топал ногами, но в конце концов Подвойский вышел на эстраду, взял Муравьева под руку и отвел в сторону. Лицо у Муравьева было страшное: из–под взъерошенных волос густыми потоками струился пот, лоб сделался желто–восковым, глаза дико вращались, на губах появилась пена. Казалось, у него вот–вот начнется эпилептический припадок.
– Слушай, – взмолился Коцюбинский. – Я не могу! Я не смогу после него! Понимаешь…
Но было уже поздно. Председательствующий, кое–как утихомирив зал, объявил:
– Слово имеет товарищ Коцюбинский. Из Сто восьмидесятого полка.
5
И вот Юрий, пошатываясь от волнения и слабости, вышел на импровизированную трибуну – несколько досок, положенных на козлы у выхода на арену. Доски помоста качались под ногами при каждом движении, но Юрию казалось, что это качается, кружится весь огромный купол цирка: ярусы как бы закручивались вверх спиралями, спирали эти тоже извивались и вибрировали – от движения тысяч лиц над барьерами. Что же сказать? О чем говорить? Юрий не успел обдумать ни своего выступления, ни темы, которая волновала сегодня митинг. Какая тема? Ax, национальное самоопределение, социалистическая революция и украинцы…
Вдруг откуда–то сверху, с верхних ярусов, раздалось:
– Братцы! Да это же наш Коцюбинский! Живой! Из тюрьмы! Товарищ Коцюбинский, привет!..
Там, на верхнем ярусе, собрались, очевидно, однополчане из разоруженного после июльских событий 180–го полка.
Сверху послышались аплодисменты, и их подхватили тут и там.
И сразу же Юрию стало легко: свои! Тут были свои! Следовательно, и вообще он был среди своих…
И Юрий начал.
– Громче! – сразу же послышались выкрики.
В самом деле, голос у Юрия был слишком слаб после двух с половиной месяцев заключения и десяти дней голодовки, за эти несколько дней после голодовки он еще не успел оправиться.
Но Юрий собрал все силы, которые имел, – а их внезапно оказалось вполне достаточно – и вдруг заговорил громко, заполняя своим голосом весь огромный купол цирка.
Он начал снова:
– Товарищи! Вы услышали только что из уст предыдущего оратора немало красивых слов…
Он начал на украинском языке – и это сразу же вызвало расположение аудитории: по ярусам прокатился одобрительный гул.
– …долой буржуазию, долой империализм! Какие это верные и прекрасные, дорогие нашим измученным солдатским, пролетарским сердцам слова…
Аудитория притихла, и тогда Юрий вдруг бросил в зал:
– Но кто говорил? Эти слова произносил их высокоблагородие полковник Муравьев – кадровый офицер царской армии, известный монархист и шкура, который в свое время, до революции, вот этими самыми своими руками, которыми он тут так размахивал, выбил не один десяток зубов бессловесным нижним чинам…
Рев возмущения с грохотом прокатился по ярусам вниз, но Юрий не остановился, только закричал еще сильнее:
– Тот самый Муравьев, который организовывал «ударные батальоны смерти» – во имя войны до победного конца, друг Керенского и холуй Корнилова…
Зал ревел, но Юрий уже не останавливался:
– Теперь он объявил себя левым эсером и предлагает себя в вожди революции, потому что лавры Керенского или Корнилова не дают ему покоя: он сам жаждет быть вождем!
Аудитория вдруг притихла, люди умолкли – они хотели услышать, что дальше скажет оратор.
А Юрий, тоже понизив голос, говорил:
– Я не обладаю таким послужным списком, как их высокоблагородие товарищ Муравьев…
По залу прокатился смех.
– …и, ясное дело, не такой герой. Я только рядовой большевик, в июльские дни сражался здесь, на Литейном, на баррикадах с моим Сто восьмидесятым полком…
– Верно! Правильно! Ура Коцюбинскому! – послышалось сверху, где сидели его однополчане. Тут и там снова вспыхнули аплодисменты.
– И сюда я пришел прямо из каземата Инженерного замка, где просидел два с половиной месяца, по приказу сатрапа Керенского – дружка полковника Муравьева…
Теперь аплодисменты дружно прокатились по всему залу. Их сопровождали возгласы:
– Долой Керенского!.. Долой Муравьева!.. Ура Коцюбинскому!.. Это тот, который выдержал голодовку!.. Ура героям революции!..
Юрий говорил:
– И я такой же украинец, как и все вы, собравшиеся здесь, чтобы поговорить о судьбе нашей родины, нашего народа – о нашем с вами участии в социалистической революции. Мы должны и у нас на Украине завоевать власть Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, а не националистической, сепаратистской Украинской центральной раде…
Зал клокотал, но сразу же и затихал – каждому хотелось услышать, что будет сказано дальше.
– Так вот, – сказал уже совсем негромко, но теперь его уже слышали все, Коцюбинский, – и давайте поговорим об этом. Потому что всем нам в скором времени возвращаться на родную Украину – и кому же, как не нам, солдатам и матросам, повести за собой весь наш трудовой народ на борьбу за власть Советов?
Зал притих совсем: слышно было, как высоко вверху, под куполом, потрескивали, вспыхивая и пригасая, большие дуговые электрические фонари.
– Какие задачи стоят перед нами сейчас, когда решаются судьбы революции? – спрашивал Коцюбинский у аудитории, спрашивал спокойно и рассудительно, словно вел обыкновенный разговор, и отвечал: – Во–первых, интернациональное единство всех пролетарских сил. Во–вторых…
6
Это было страшно и могло привести к катастрофе, но это было все–таки именно так: в минуту, когда решались судьбы самой революции, в киевской партийной организации не было единства, a ее руководящй центр не знал, что делать, и был, собственно, бездеятельным.
Юрий Пятаков, как всегда, кипятился.
– Это авантюра! Это бланкизм! – вопил он.
Речь шла о том, что Шестой съезд партии нацеливал пролетариат на вооруженное восстание.
Заседание проходило не в комнате номер девять в Мариинском дворце, как всегда, а – с целью конспирации – в помещении профсоюза портных, на углу Бибиковского бульвара и Крещатика.
Была уже поздняя ночь, но обе руководящие партийные инстанции – Киевский городской комитет и комитет областной организации – собрались почти в полном составе. Позиции областкома поддерживало лишь меньшинство городского комитета.
Евгения Бош заявила:
– Областком объединяет четыре губернии. Областная конференция закончила свою работу – и все партийные организации области, кроме Киевской, постановили принять решение съезда и Центрального Комитета к неуклонному исполнению: восстание!
И Пятаков сразу же заладил спор:
– Всемирная революция еще не назрела! Захват власти путем вооруженного восстания обречен на неудачу! Во имя сохранения активных сил пролетариата и во избежание компрометации самой идеи социальной революции среди масс…
Примаков вспылил:
– Довольно фраз! Остановите фонтан вашего красноречия! Армия жаждет восстания – и либо мы ее поведем, либо она восстанет без нас!
Примаков говорил от армии и сам был в военной форме: после июльских событий большое количество большевиков по поручению партии пошло добровольцами в армию – для организационной работы. Примаков вступил солдатом в Тринадцатый пехотный полк.
Затонский, всегда такой спокойный и уравновешенный, сейчас тоже не выдержал. Пока Юрий Леонидович, пораженный и крайне оскорбленный бестактностью Примакова, не мог от возмущения и слова вымолвить, Затонский вскочил с места и успел произнести целую тираду, заикаясь от волнения. Стеклышки свалившегося с носа пенсне свирепо поблескивали из чащи взлохмаченной бороды:
– Восстание девятьсот пятого года тоже закончилось неудачей! И если и теперь восстание закончится поражением, то все равно на пути развития революции оно будет победой!..
Он говорил о том, что после первого поражения пролетарская революция не только подняла к активной политической жизни широкие массы рабочего класса, но и всколыхнула крестьянство, интеллигенцию и даже мелкую буржуазию. Для иллюстрации он привел пример из киевского опыта: в девятьсот пятом году в стенах Политехникума первые повстанцы за власть Советов три дня отбивались – и погибли. Но в стенах, обагренных их кровью, остался жить их революционный дух: победоносная идея пролетарской революции! Целый ряд студентов–политехников – детей интеллигенции, мелкой буржуазии – после того вступили в революционные ряды, и именно в ряды социал–демократии большевистского толка!








