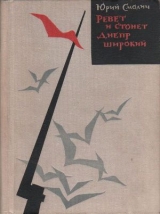
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 62 страниц)
Саша Горовиц сидел пришибленный. Несмело сказал:
– А знаешь, Евгения, такое самобичевания тоже…
– Достоевщина? – подхватила Евгения Богдановна. – Нет, не достоевщина, Саша! Увидеть, что не туда идешь, и свернуть с неверного пути – это только хорошо! Единственный способ борьбы против националистической Центральной рады – это борьба против нее самого украинского народа. – Евгения Богдановна вдруг улыбнулась, и улыбка теперь была даже веселая. – Народ это понимает лучше, чем мы с тобой… «теоретики и фразеологи». Вот на, посмотри – только первые ласточки…
Евгения Богдановна через стол придвинула к Горовицу несколько телеграфных бланков.
Горовиц взглянул. Это были телеграммы в адрес только что созданного съездом Советов Центрального исполнительного комитета.
Рабочие–красногвардейцы города Николаева телеграфировали:
«Мы не признаём украинской буржуазной рады и будем бороться против нее всеми силами»…
Рабочие брянского рудника заявляли, что единственной властью на Украине признат Всеукраинский съезд Советов.
Крестьяне села Рыбцы из Полтавщине сообщали, что признают только партию большевиков.
Все это были лишь первые ласточки, но таких телеграмм лежала целая пачка.
– Вот какие восстания мы будем поднимать, Саша, – сказала Бош. – Восстания украинских рабочих и крестьян по всей Украине, а не… «дворцовый переворот» в самой Центральной раде или против Центральной рады в одном Киеве – к чему вели мы с тобой, каждый на свой лад… И мы с тобой пойдем – туда и тогда, куда и когда укажет нам партия!
5
И восстания начались.
Шахтеры на шахтах и металлисты на заводах Донецкого бассейна поднялись против наступавшей калединской белой гвардии и одновременно разоружали гарнизоны Центральной рады и разгоняли местные органы генерального секретариата.
На Синельниково через Екатеринослав шла с Украины помощь донскому правительству, – екатеринославские пролетарии восстали и перерезали главную магистраль связи между двумя оплотами контрреволюции.
Одесса тоже вышла на баррикады. Съезд Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской области объявил, что признает только власть Советов, избрал новый состав Исполнительного комитета «Румчерода» и призывал к оружию против буржуазной Центральной рады.
Центральный исполнительный комитет Украины обратился ко всем Советам на Украине:
«…Генеральный секретариат Центральной рады не выражает воли революционных слоев народа – пролетариата и беднейшего крестьянства, и потому не может и не должен оставаться у власти сейчас – в годину высшего подъема всех революционных сил, в годину, когда друг против друга встали два непримиримо враждебных класса. Власть на Украине должна принадлежать правомочным организациям – Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов!.. ”
Война объявлена не была, но боевые действия начались.
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НАЧАЛИСЬ
1
Из всех сессий Центральной рады эта была самой бурной.
Шло обсуждение земельного вопроса.
Дебаты длились день, еще день и потом – еще один день. Резолюций было предложено, правда, всего две – от эсеров и от эсдеков, – однако на принятие решения не было никакой надежды.
Авксентий Опанасович Нечипорук явился на эту сессию, словно к заутрене под святое воскресенье. Только в церкви нужно было стоять и крестился либо падать на колени и бить поклоны, а тут он сидел себе – на последней скамейке, в уголке, среди беспартийного элемента, и в перерывах, которые объявлялись для совещаний фракций, мог даже развернуть Меланьин платочек, достать краюху ржаного хлеба да ломтик сала и перекусить для подкрепления организма. «Организм» Авксентий Опанасович тоже вписал в свою книжечку – для слов революции. Слово это, или, как говорили теперь, в революцию, «термин», хотя и не было политическим по существу, ибо имело отношение только к потребностям бренного человеческого тела, однако же употреблялось, в ином смысле, и в самой высокой политике, например: «государственный организм» или «организм международных сношений».
Но, господа боже мой, третий день говорят–растабаривают, языком болтают, а когда же по–настоящему дело будет?
Первый день душа Авксентия трепетала: ныне отпущаеши раба твоего, господи, по глаголу твоему с миром… Дошло–таки до самого главного! Ведь только для того и сунулся сюда меж высоких политиков и всякопартийных авторитетов и он, серый мужик. Земля! Вот сейчас дадут наконец ответ на самый главный вопрос!
На второй день Авксентий заскучал. Дискуссии длились без конца: между украинскими эсерами и украинскими эсдеками, между самостийниками и федералистами, Бундом и польской левой, и опять же между самими эсерами – которые украинские и которые общероссийские. Проект закона, оказывается, составили эсеры, но отстаивали его эсдеки, а сами эсеры… возражали. Левые говорили, что закон антидемократический, а правые – что вышел он слишком большевистским. Правые эсдеки тоже кричали – долой, но левые из эсдеков – уговаривали: примем временно хоть такой, а то ведь никакого нет, есть только анархия, а потом можно и переделать по вкусу. Все же партии, что сидели от центра направо, требовали единодушно: совсем не надо принимать никакого земельного закона – пускай потом Учредительное собрание ломает себе голову…
Авксентий встревожился: а ну и вправду не будет закона? Что тогда? Земля ведь! Первый вопрос революции! Программа жизни! Новая «эра» – и такое слово есть в словарике революционных слов…
На третий день бедняга Авксентий уже исходил потом. Не потому, что в зале было душно, а нутро не выдерживало и душа просилась из тела вон. Революция провалилась в шестой раз. И фракции отказались совещаться. Похоже было, что не выйдет ничего и не дадут крестьянам земли. Неужто не дадут? Керенский не давал. Корнилов забирал. Декрет Совета Народных Комиссаров вышел – берите! Попробовали… Так разве ж силой, без закона, возьмешь? Увечного Вакулу Здвижного загубили и еще людям ноги да руки постреляли – только и всего…
– Прошу слово в порядке прений! – крикнул старый Нечипорук, поднял руку и даже встал с места.
Сказать свое слово Авксентий должен был всенепременно. Осенью посеяли пану, а кто же летом собирать будет? Работать на пана уже народ никак не согласен. А разве можно, чтоб хлеб да пропадал? Он же от бога и для людей! Уж и так голодуха начинается, а там, гляди, и мор пойдет! Коли не договорятся по–божескому, по–человеческому, по справедливости, то уж пускай хоть какой – абы закон! Без закона ведь земля не может. Земля, она, как и человек, закона требует…
На попытку Нечипорука получить слово президиум не обратил внимания – только крикнули «тише!» – потому что еще раз начали перечитывать текст законопроекта: за три дня дискуссии не то чтоб позабыли, о чем именно спор идет, но получалось как–то так, что один ругает закон, а другой говорит, что такого пункта в заколе вовсе нет.
И начали снова:
«Именем Украинской народной республики…»
Винниченко сидел в президиуме, перед ним лежал чистый лист бумаги, и он машинально рисовал на нем петушков, чертиков, собственную бородку с усами. Рисовал он левой рукой. Левшой Винниченко не был, но понаторел в этом деле еще во времена царизма и подполья. Правую руку Винниченко – из его литературных рукописей – полиция знала слишком хорошо, а потому для романов и пьес была у него правая рука, а для прокламаций и партийной переписки – с целью конспирации – он набивал левую. А однажды – во время острой дискуссии о партии между правыми и левыми украинскими эсдеками – он даже написал декларацию правых правой рукой, а декларацию левых – левой и поставил обе на обсуждение. Дебаты тогда чуть не кончились дракой: правые накинулись на автора декларации левых, а левые – взаимно – на автора правых. Чуть не дошло до раскола в партии…
Впрочем, сейчас Винниченко было не до шуток. Забот у главы государства – выше головы!
Судите сами. ППС левая выступает против Центральной рады, потому что признает Центральную раду буржуазной. Польская правая выступает тоже против, но, наоборот, считает, что нет никакой разницы между «украинцами» и большевиками: и те и другие намерены забрать землю у польских помещиков… Еврейский Бунд поддерживает Центральную раду, исходя из того, что она противостоит Совету Народных Комиссаров, но вместе со всеми правыми еврейскими партиями нападает на Центральную раду за то, что она не принимает никаких мер против еврейских погромов. Ведь только по трем губерниям, Киевской, Подольской и Волынской, и только за последнюю неделю, зарегистрировано двести четырнадцать погромов, учиненных… воинскими частями Центральной рады!.. Ах, сукин сын Петлюра! Тоже мне генеральный секретарь по военным делам да еще командующий фронтом! Не может прекратить бесчинств в своей собственной армии! Тоже мне социал–демократ – допускает зоологический антисемитизм! Впрочем, ведь Петлюра – известный юдофоб, еще со времен духовной семинарии и дела Бейлиса…
При мысли о Петлюре Винниченко всего переворачивало. Никогда друзьями не были, а после давешней ссоры и вовсе на ножах. Теперь Петлюра точно взбеленился: что ни скажет Винниченко, непременно сделает наоборот. Винниченко доказывал, что состав мирной делегации в Брест должен быть непременно социал–демократический – чтобы, мол, перед немецкими империалистами отстаивали хоть мало–мальскую демократию. А Петлюра – чтобы потом эсдекам не нести ответственности – поддерживал Грушевского: надо составить делегацию из правых националистических партий, ибо они, мол, лучше будут радеть о государственных интересах. Вот и проскочил в главы делегации студент Голубович, эсер. Очередной афронт для украинских социал–демократов…
И уж этих афронтов набирается что–то многовато: вон на выборах в Учредительное собрание эсеры получили чуть не три четверти голосов, а эсдеки… четверть. Бородач Грушевский теперь торжествует: знай наших! Чего доброго, опять встанет вопрос о доверии эсдековскому руководству в генсекретариате? Снова – министерская чехарда?
Да ну их совсем, эти межпартийные свары, сейчас голова пухнет от вопроса государственной важности: как быть с Московщиной?
Юридически войны будто бы и нет: не объявлена. Ультиматум Центральная рада отклонила, даже – чтоб соблюсти, так сказать, юридическую форму – Винниченко послал Совету Народных Комиссаров… свой ультиматум. И ответ, разумеется, не получен.
Так есть война или нет?
Вон Харьков–то уже большевистский.
И знаете, что говорят юристы? Говорят, что «статуса войны» все равно… нет. Харьков, видите ли, не захватывали русские войска: там, видите ли, создано второе украинское правительство. Если это и признать войной, то – войной гражданской, и компетенция международного права на такие войны не распространяется. То есть обращаться к союзным державам за помощью против России можно будет лишь в том случае, если будет установлено, кто агрессор. Предположим, войну начала УНР, так она же не самостоятельна, а составляет часть Российского государства, следовательно, юриспруденция признает ее не агрессором, а только… мятежником. И помощь союзников международная юрисдикция будет толковать как вмешательство во внутренние дела России… Если же военные действия начала Россия, то опять–таки международное право не имеет права признать это актом агрессии, а только – полицейскими мерами с целью усмирения…
Фу! Вот черти лысые, выдумали же международное право! Да побойтесь вы бога, ведь это ж буржуазное международное право! А мы…
А вы, отвечают юристы, хотите обратиться за помощью против большевистской России как раз к… буржуазным государствам, где и действует только буржуазная юрисдикция.
Абракадабра! Выходит, что очутились… меж двух сил… Или между двух стульев, вернее говоря?.. Может… подать в отставку, пока не поздно? Чтоб не отвечать потом за эту… агрессию…
Агрессия! Вон американский консул Дженкинс дает совершенно оригинальное толкование понятию «агрессия». Такое, знаете, тонко психологическое. Может быть, Владимиру Кирилловичу – специалисту по вопросам психологии – принять именно психологическое толкование?
Консул Дженкинс – правда неофициально, а за рюмкой коньяку в ресторанчике «Кинь грусть» – говорил так: агрессия бывает не только вооруженная, но и идеологическая: когда действует не оружие, а действуют идеи. Распространение идей большевизма из Петрограда, столицы России, на Украину и есть яркий пример такой… агрессии. И эта агрессия опаснее всего, ибо проникает через любые границы. Против такой агрессии, доказывает Дженкинс, правомочны подняться и другие, союзные с Украиной, государства, которым угрожают большевики, именуя их капиталистическими, буржуазными, империалистическими и побуждая к восстаниям возглавляемый ими международный пролетариат. Война? Ха–ха! – смеется Дженкинс, ее не может не быть! Непременно будет! Должна быть! Уже есть!.. Что имеет в виду мистер Дженкинс? Ясно, как божий день: идите войной против большевиков – и цивилизованный мир, вся Европа и даже Америка поддержат вас и признают ваше государство…
Какой же может быть разговор! Войну с большевиками надо начинать немедленно, возможно скорее – и плевать на юриспруденцию с ее определением статуса агрессора!..
Тем временем повторное чтение законопроекта было закончено, и председательствующий дал слово очередному оратору.
Винниченко бросил рисовать чертиков и посмотрел на трибуну. На трибуне стоял дядько в крестьянской сермяге и уже размахивал руками, хотя говорить еще не начинал. Он сильно волновался.
– Кто это такой? – наклонился Винниченко к Грушевскому.
– Селянин, как видите, селянин! Из села Бородянка. Добродий Нечипорук. – Михаил Сергеевич отвечал, раздуваясь от гордости. – Активизируется, активизируется оплот нашей нации! Глядите: простой гречкосей выходит на трибуну и становится государственным деятелем! Растут, растут резервы нашей партии, милый мой Владимир Кириллович…
Винниченко хмыкнул себе в бороду: ну и ладно! Вот и канительтесь с этим проклятым земельным вопросом, господи эсеры: крестьянство – это же ваша периферия!.. А впрочем, нет… Ни в коем случае! Нельзя допустить победы эсеров в решении такого важнейшего вопроса! Чтобы опять эсдекам потерпеть афронт? Нет!.. Видно, придется–таки взять слово и выступить самому…
Авксентий между тем кое–как овладел собой. Уже второй раз в своей жизни стоял он перед народом на рундуке, или, как говорят по–революционному, на трибуне, даже не помнит, как и вынесло его сюда: допекло!
– Люди добрые! – крикнул Авксентий. – Люди добрые, и что ж это вы делаете?!
Грушевский встревоженно глянул на трибуну: истерическая нотка в голосе оратора – надежды, оплота и резерва – заставила его насторожиться. Члены президиума тоже зашевелились. В зале, наоборот, стало совсем тихо.
– Да побойтесь вы бога! Православные, добродии, панове–товарищи! – Авксентий даже руки молитвенно сложил на груди. – Что ж это за закон такой получается? Какая в нем резолюция? Да с таким законом хоть и не показывайся к людям на село! А ведь они ж – те, что на земле сидят, в навозе копаются да весь мир кормят, – закона о земле ждут как манны небесной – сказано в писании…
– Правда!.. Дело говорит! – закричали в зале, и люди в свитках, сермягах, жупанах – крестьянского рода – вскакивали с мест. – Разве такой закон надобен?..
А Авксентий уже совсем освоился.
– Послушал я еще раз этот закон и только теперь раскумекал: вы же назначаете – так и записано – предел собственных владений на землю аж… аж в сорок десятин, господи твоя воля!
Дядьки в зале уже вопили во весь голос. Однако, если внимательно прислушаться, единства в этих выкриках не было: одни – те, что в жупанах и чумарках, – кричали: «Так и надо! Правильно!..» Другие – в сермягах или солдатских гимнастерках – прямо заходились: «Позор! Народ не примет такого закона! Против народа закон…»
Винниченко поморщился: ну вот, пожалуйста – анархия… И в столь ответственный, грозный исторический момент! Ведь ясное дело: для одного слоя закон более выгоден, для другого – менее. Разве всем сразу угодишь?.. Закон, какой бы он ни был, а надо принять как можно скорее! Чтобы установить порядок, чтоб избежать анархии… Правда, если быть честным с собой, то закон действительно мало демократичен.
Авксентий на трибуне прямо надрывался:
– Что ж это выходит, люди добрые, а? У нашего графа землю, значит, отберем и денежки ему заплатим – покупай, значится, деточкам конфетки! А заместо него на его землю сядут… его ж таки управитель Савранский – на сорока десятинах, или наш опять–таки живоглот Омельяненко – тоже на сорока… А люди? Люди, спрашиваю, как? Сколько нарезать на душу, так и не назначено!.. По десятине? По моргу? А то и по полморга? И – задаром или – плати денежки? А где их взять? У пана Савранского или на богатея Омельяненко батрачить?
Авксентий махнул рукой и пошел с трибуны.
В зале поднялся кавардак, и один за другим, отталкивая друг друга, на трибуну взбегали другие крестьяне, члены Центральной рады. И были это преимущественно не те, что в жупанах и что возражали Авксентию, а как раз те, что кричали с ним заодно:
– Нагайка на мужицкую шкуру такой закон!..
– Царским министрам Столыпиным такие законы писать!..
– Не признает народ закона! А не признает закона – все одно что не признает и самой Центральной рады!.. А один, по фамилии Гуленко, так тот брякнул прямо:
– Вот вернутся с фронта наши сыны, так штыками перепишут этот закон по–своему!..
У Грушевского тряслись руки, Петлюра побледнел, Винниченко тоже заволновался: ему непременно надо выступить – ведь он глава правительства! Невозможно допустить анархии! Да и подходящий случай эсерам вставить перо…
Вот он сейчас выйдет и скажет:
«Панове–товарищи! Мы услышали сейчас голос народа – глас божий: крестьяне–хлеборобы не одобряют, как видите, проект, составленный… гм… гм… эсерами, которые считают себя монопольными представителями крестьянской стихии. Пускай же партия эсеров намотает это себе на ус! Мы, социал–демократы, тоже не удовлетворены этим законом. Он… гм… гм… не демократичен! Но, панове–товарищи, проект закона, с некоторыми поправками разумеется, все же мы должны принять… – Тут, конечно, раздадутся крики удивления и протеста, и надо будет повысить голос. – Да, да! Прошу выслушать меня! Подходящее ли сейчас время для осуществления радикальных социальных преобразований? Время неподходящее! Война! Вот победим врага, тогда и сможем осуществлять все виды социализации сполна – и в отношении крестьянства, и в отношении пролетариата!.. А пока – временно, товарищи! – предлагаю проект закона в основном одобрить и выбрать комиссию, которая доработала бы его – пока идет война на фронтах…» Словом, в таком духе…
Разошедшихся крестьян удалось наконец кое–как утихомирить, Винниченко дали слово, и он направился к трибуне.
– Владимир Кириллович! Голуба! – шептал Грушевский, перехватывая его по пути. – Вы им скажите! Вы же умеете! Исходя из государственных интересов! С надпартийных позиций!..
– Ага, ага! Разумеется…
Винниченко поднялся на трибуну и заговорил:
– Товарищи! Вы услышали сейчас голос народа – глас божий, так сказать… Крестьяне–хлеборобы не одобряют закона, составленного… гм… гм… эсерами, которые осмеливаются объявлять себя чуть не мессиями крестьянских масс. Пускай же господа эсеры зарубят это себе на носу!..
В зале в самом деле поднялся тарарам: кричали, протестуя, эсеры. Винниченко удовлетворенно хмыкнул в бороду и поднял руку:
– Но должен сказать, что и мы, социал–демократы, тоже не одобряем этот проект – только не примите это как проявление нашего единомыслия с партией эсеров! Нет! Мы не одобряем, ибо этот закон – антинародный закон, товарищи! – голос Винниченко уже звенел на самом высоком регистре. – Эсеры толкают нас к политике царского министра Столыпина! Долой Столыпина! Долой эсеров! Долой закон! Я кончил.
В зале стоял рев. Но Владимир Кириллович проследовал на свое место с высоко поднятой головой. Он таки ахнул! И эсерам вставил перо, и не отступил от идеалов демократии, и паукам–эксплуататорам еще раз задал чёсу! И вообще…
Грушевский, когда Винниченко проходил мимо, злобно шипел. Но Владимир Кириллович за шумом не слышал, да не очень и прислушивался. Только кивал головой и приятно улыбался.
А Грушевский шипел:
– Вы – большевик!.. Большевистская креатура!.. Агент комиссаров!.. Наймит Совдепии!.. Предатель!..
Винниченко сел на свое место вполне довольный собой. Правда, он сказал не то, что собирался, как, впрочем, и всегда: думаешь сказать одно, а говоришь другое – прямо противоположное. Такова уж натура… художника: клубок противоречий. Нечестно? Но ведь идет война! А кому воевать? Кто составляет основную массу казаков? Хлеборобы–крестьяне. И бедных среди них куда больше, чем богатеев. Значит, дипломатичнее будет… поднять дух именно этой категории. Для победы. С точки зрения государственных интересов. Во имя освобождения нации. Разве не логично?..
Зал гудел и грохотал. Такой бурной сессии еще не бывало.
Проект закона решено было передать в комиссию.
До Учредительного собрания.
2
Их стояло пятеро – против троих. Андрей Иванов, Леонид Пятаков, Картвелишвили, Смирнов, Гамарник – перед Грушевским, Винниченко, Петлюрой. Иванов сказал:
– Имейте в виду – мы уполномочены всеми революционными кругами города, губернии, области… Можете считать – страны…
Действительно, представлены были: Совет рабочих депутатов, Совет фабрично–заводских комитетов, Совет профессиональных союзов, ревком, комитет большевистской партии.
– Чего же вы хотите, господа… товарищи? – Грушевский засуетился.
– Только короче, – сказал Винниченко. – Час грозный: некогда тратить время на длинные разговоры… Перед вами – руководители государства, обремененные заботами…
– Понятно, – сказал Иванов, – у нас тоже достаточно забот и мало времени. Но перед вами – представители трудящихся, которыми вы также претендуете руководить…
– Не претендуем! – крикнул Петлюра. – А руководим! Только мы руководим Украиной, а не… не…
– Понятно! – помог ему Иванов. – Русских вы выгоняете с Украины, евреям устраиваете погромы…
– Добродий Иванов! – взвизгнул Петлюра.
Грушевский замахал руками:
– Панове!.. Товарищи!.. Оставим полемику!.. Давайте по–хорошему!.. Товарищ Иванов!.. Симон Васильевич!.. Владимир Кириллович!.. Выслушаем, поговорим…
– Итак? – Винниченко поднял глаза на Иванова. – Ваши претензии?
Винниченко один сидел – у стола Грушевского. Петлюра стоял в стороне, у окна, заложив палец за борт френча. Грушевский метался туда и сюда. Пятеро делегатов стояли в один ряд посреди обширного кабинета председателя Центральной рады.
– Мы не с претензиями, – сказал Иванов. – Мы пришли с протестом и требованиями!
Винниченко вздохнул: боже мой, в который уже раз – претензии, протесты, требования… И всё – либо Иванов, либо Пятаков, если не один, так другой! А тут и без того дел выше головы: вон харьковские железнодорожники выбили гайдамаков и «вильных козаков» из Люботина, и похоже на то, что красные собираются двинуться… на Полтаву. На Полтаву! А за Полтавой что? Может быть – Киев?..
Винниченко вздохнул и поднял взгляд на Иванова:
– Коротко: ваши… протесты и… требования?
Тогда вперед выступил Леонид Пятаков. На Винниченко он не смотрел. С Винниченко уже был разговор – месяц назад. Даже был ультиматум. Что вышло? В ночь накануне назначенного ультиматумом срока предательски были разоружены воинские части, на силы которых ультиматум опирался… Теперь вооруженной силы за протестами и требованиями нет!.. Леонид Пятаков не хотел даже идти с этими протестами и требованиями. К чему?.. Надо поднимать восстание! Все равно – восстание, пускай даже опираясь на одни красногвардейские отряды: две тысячи бойцов против многотысячного радовского гарнизона. Но Леониду пришлось подчиниться большинству…
Протесты и требования он изложил коротко и сжато. Протест против ущемления профессиональных союзов: гайдамаки и «вильные козаки» врывались на профсоюзные собрания и разгоняли их – под предлогом, что они занимаются якобы антигосударственной, большевистской деятельностью… Протест против дискриминации фабрично–заводских комитетов; комиссары предприятий, поставленные генеральным секретариатом, не разрешали функционировать завкомам – на том, мол, основании, что для защиты профессиональных интересов существуют… профессиональные союзы. Те самые, которые ими разгонялись… Протест против бесчинств, творимых в городе: гайдамаки, сечевики и «вильные козаки» вламывались в частные квартиры и забирали деньги, не выдавая даже расписок… Протест против того, что на заводах и фабриках города по два и три месяца не выплачивается заработная плата…
Винниченко фыркнул:
– Господа! Но ведь это же… нонсенс: вы протестуете против изъятия денег у… буржуазии! Для того же мы и осуществляем… выемку денежных излишков у обеспеченных слоев, чтобы заплатить… трудящимся…
– У буржуазии! – усмехнулся Смирнов. – От банкира Доброго, промышленника Демченко, сахарозаводчика Терещенко и других миллионеров не поступало заявлений о грабежах! Зато ограблены десятки семейств трудовой интеллигенции: инженеров, врачей, нотариусов…
– И к тому же, – воскликнул Картвелишвили, – среди ограбленных нет ни одного украинца! «Выемка излишков» производится лишь у граждан русской, еврейской, польской национальности… Как видим, вы действительно… самоопределились! И осуществляете вашу… «национальную политику»! Политику науськивания одной нации на другую…
Грушевский замахал руками:
– Господа! Господа! Прошу спокойно!
– Да, лучше – спокойно, – сказал Иванов. – И коротко. На каком основании отряд гайдамаков, под командованием сотника по имени Наркис, ворвался в завком завода «Арсенал» и пытался забрать не «излишки буржуазии», а деньги, которые делегация арсенальцев привезла из Петрограда, из Государственного банка – для выплаты задержанной за три месяца заработной платы рабочим?
– Это – деньги Совета Народных Комиссаров. – Винниченко пожал плечами. – Они подлежат… национализации, раз с Советом Комиссаров у нас…
– Эти деньги на агитацию против УНР! – перебил его Петлюра. – Дотация большевистским агентам и шпионам!
Иванов в ответ на эту провокацию хотел дать им достойную отповедь, но вперед выступил Гамарник. Он – тоже спокойно, как Иванов, – сказал:
– Тогда, может быть, внятно и коротко ответите по «совокупности обстоятельств»: почему одновременно другой отряд, сечевиков, под командой чотаря Мельника, ворвался в цехи «Арсенала» и на арсенальский материальный двор и пытался – если б не отстояли рабочие – вывезти с заводского двора угольные запасы, а из цехов – продукцию: пушки, пулеметы, снарядные гильзы и головки – словом, все то, что производит на нужды армии военный «Арсенал»?
– Потому что ваш «Арсенал» – гнездо большевистской заразы! – снова крикнул Петлюра.
– Понятно, – сказал Гамарник. – Вы хотели разоружить и парализовать «Арсенал» – оплот революционного пролетариата в Киеве. Значит…
– А если и так? – с вызовом бросил Винниченко. – Законы ведения войны…
– Значит, вы считаете войну – фактом? – не удержался Смирнов.
– И первым врагом – пролетариат свой же столицы? – подхватил и Картвелишвили.
– Господа! – взмолился Грушевский. – Ради бога! Так же мы никогда не кончим! Выкладывайте ваши претензии до конца…
– А вот и конец, – сказал Иванов. – Мы требуем сегодня же прекратить грязную историю с товарищем Чудновским!
Делегат Юго–Западного фронта на Втором съезде Советов большевик Чудновский, вернувшись на фронт, был сразу арестован, привезен в Киев, брошен в Косый капонир и уже две недели томился там – даже без предъявления обвинительного акта. Чудновский, один из руководителей вооруженных групп во время Октябрьского восстания, был ранен, рана гноилась, но в каземате ему не была даже оказана медицинская помощь. Чудновский объявил голодовку и голодал уже вторую неделю. Жизнь его была в опасности.
Леонид Пятаков язвительно кинул Винниченко:
– Вам, господин Винниченко, должны быть хорошо известны условия заключения в Косом капонире? Если не ошибаюсь, пятнадцать лет назад, когда вы уклонились от отбывания воинской повинности, вам довелось отсидеть… в том же Косом капонире?
– Не ваше дело, где, когда и за что я сидел в тюрьмах! – буркнул Винниченко. – Меня засадила царская жандармерия!
– И вы недурно овладели методами царской жандармерии! – бросил Смирнов.
– Были царские застенки, а стали – винниченковские! – добавил Картвелишвили.
– Ну, знаете! – Винниченко наконец вскочил с кресла.
Но Грушевский уже суетился и махал руками:
– Господа! Умоляю! Так же нельзя… И вообще, мне ничего не известно ни о каком… Чудновском. А вам, Симон Васильевич?
– Ничего!
– А вам, Владимир Кириллович?
– Первый раз слышу…
– Так отвечал и шеф жандармов… – заговорил было Леонид.
– Хватит! – завопил Винниченко. Он стоял и стучал карандашом по столу. – Мы выслушали все ваши… протесты и требования, изложенные… в наглой форме… и считаем, что разговор окончен.
– Но… – начал было Грушевский.
Винниченко, даже не взглянув на него, повторил:
– Разговор окончен!
– Ответ? – спросил Иванов.
– Ответа не будет! – прорычал Петлюра. Наконец–то они с Винниченко действовали, по–видимому, как единомышленники.
– Ответ, – сказал Винниченко, – получите… официальным порядком. – Он смотрел, не скрывая насмешки. – Ваши претензии мы поставим на рассмотрение генерального секретариата, генеральный секретариат доложит… Малой раде, Малая рада… если сочтет нужным, интерпеллирует к Центральной раде…
Последние слова он говорил уже в спину товарищам. Иванов, Леонид Пятаков, Картвелишвили, Смирнов и Гамарник, не дослушав, выходили из кабинета.
Когда дверь за ними затворилась, Винниченко сел, швырнул карандаш и пробормотал какое–то ругательство – возможно, что нецензурное.
Грушевский схватился за голову и застонал.
Петлюра подошел к столу и нажал кнопку.
На пороге появился секретарь Грушевского.
– Сотника Нольденко! – приказал Петлюра.
– Что вы думаете делать? – спросил Грушевский, оставляя свои волосы и хватаясь за бороду.
Петлюра дернул плечом и не ответил.
Винниченко тоже молчал. Брови его хмурились, опускались все ниже. Такое нахальство! Но что делать? Все ж таки – протесты и требования от… от доброй половины населения столицы. И как раз… агрессивно настроенной половины. От половины, которая… гм… претендует на власть в городе и во всей стране. А тут на носу война, военное время, и вообще…
Вошел барон Нольде.
– Пан сотник, – спросил Петлюра, – вы хорошо знаете всех этих пятерых, которые сейчас вышли?
– Еще бы! – Барон Нольде хотел даже свистнуть, но спохватился и только щелкнул каблуками. – Так точно!.. Собственно, я хотел сказать: так есть, пан генеральный секретарь!








