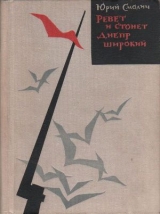
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 57 (всего у книги 62 страниц)
ЯНВАРЬ, 2



ИВАНОВ ПРОВОЗГЛАШАЕТ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ
1
Иванов провозглашал советскую власть:
– Контрреволюционную Центральную раду объявляю свергнутой!..
– Ура!..
– На Украине отныне существует только власть Советов рабочих, крестьянских и солдатских…
Ему не дали договорить. Люди кричали. Люди срывались с мест. Топали в восторге ногами. Падали друг к другу в объятия.
Иванов стоял на трибуне потрясенный. Одна мысль стучала в голове: «А в Киеве? В Киеве – как? Если б скорее то же и в Киеве! Когда бы скорее… в Киев!»
Огромный зал винницкого театра бурлил. Солдаты, красногвардейцы, рабочие, крестьяне–повстанцы, старики, молодежь. Час тому назад последний казак из полков Центральной рады сложил оружие. Эмиссары генерального секретариата, губернская Национальная рада, деятели соглашательской Думы, командиры националистических отрядов сидели под стражей в роскошном мраморном, графа Гейдена, концертном Белом зале.
Второй гвардейский корпус, после тяжелых боев – силами артиллерийского дивизиона и полкой Кексгольмского, Литовского и Волынского – взял Винницу.
Зал бурлил, а Иванов стоял и прикидывал: «Калиновка, Казатин, Попельня, Фастов… Боже мой, сколько еще идти и идти до Киева! А ведь там восставшие держатся уже пять суток – без помощи, без боеприпасов, без еды, без сна. Там истекает кровью окруженный лютым врагом… родной «Арсенал».
В эту минуту в президиуме торжественного собрания возникло какое–то движение: из–за кулис сквозь толпу пробивался молодой человек в фуражке с желтыми кантами – телеграфист. Он размахивал руками – и все в президиуме поворачивались к нему, вскакивали с мест. Прокатился гомон любопытства и по залу.
– Что такое? Что там такое?
Может быть, гайдамаки опять прорвались из Тыврова, Турбова или Вороновицы?
– Казатин… Казатин, – доносилось только от стола президиума.
Но телеграфист пробился уже на авансцену. В зале стало тихо, как в. глухом лесу.
– Товарищи!.. Казатином, овладели., восставшие казатинские железнодорожники. Казатин, товарищи, наш!..
Телеграфист выкрикнул это и заплакал.
У Иванова кругом пошла голова. Казатин наш, значит, до Казатина не надо идти с боем; садись в эшелоны – и через час там! Путь на Киев становился вдвое короче!.. Всего ведь сотня верст до Киева!.. Боже мой, еще целых сто верст в боях с бешено сопротивляющимся противником…
Иванов соскочил с трибуны. Где командиры Кексгольмского, Литовского и Волынского полков? Где представители штаба корпуса? Где члены ревкома?.. Пускай уж винничане сами радуются, сами налаживают и советскую власть на местах, a ему, Иванову, надо в Казатин… Ты – начальник станции? Паровоз мне! Ну, пускай – дрезину!.. Что, лучше бронепоездом? А ты кто такой?, Ах, командир гвардейского бронепоезда! Друг, браток, товарищ дорогой, так ты ж мне сейчас как раз и нужен!.. Полки погрузятся в эшелоны, а мы с тобой – вперед! Через час будем в Казатине! Неужто целых полтора часа?..
Верхом, первый раз в жизни на лошади, Иванов галопом прискакал на станцию. Еще несколько минут – и бронепоезд гвардейцев двинулся… Под Кексгольмский полк еще только подавали порожняк, а гвардейский бронепоезд уже пролетал не останавливаясь станции и разъезды.
Иванов ехал в будке машиниста. Поддай пару, друг, браток!.. Жару? Огня?.. Иванов схватил лопату и с кочегаром в четыре руки стал подбрасывать в топку уголь… Хватит, хватит – слишком много, собьешь огонь!.. Иванов бросил лопату, поднял броневой люк над окошком машиниста и устремил взгляд вперед.
Телеграфные столби, шеренги тополей, будка, переезд, над посадками защитной полосы кружит воронье, опять – переезд, будка, промелькнула какая–то станцийка. Бронепоезд гудел, гремел, бренчал и лязгал всей своей броней. Где же Казатин? Скоро ли этот чертов, милый, проклятый, героический, дорогой Казатин?!
Морозный ветер точно осколками стекла кидал в лицо. Иванов и не чувствовал. Думал: казатинские железнодорожники пускай держат надежную оборону – на случай внезапного удара с флангов. Ведь справа, в Ружине и Вчерайшем, еще гайдамаки. Да и слева, в Бердичеве, тоже. А гвардейцы по железной дороге – колонной на Попельню. Может, удастся еще до вечера, еще сегодня?.. Тогда завтра – Фастов. И завтра же – непременно не позднее чем завтра – на Киев!.. Ах, если бы можно было еще сегодня. Ведь завтра уже шестой день. Что там, как там в «Арсенале», в Киеве?..
Нет, кейсгольмцы пусть наступают, а он, Иванов, уговорит командира бронепоезда вырваться вперед! Прямо в расположение врага. Взять Попельню с наскока. Или хотя бы посеять панику. Подоспеют кексгольмцы – и бронепоезд снова вырвется вперед. И тогда можно попасть в Киев еще сегодня, к концу дня или хотя бы вечером.
Иванов смотрел на часы, поглядывал на небо. Солнце клонилось к закату. Часы покалывали: пять. Черт! Дни уже стали больше, зима на мороз, солнце на лето, но все ж таки он еще слишком короткий, зимний день. Ну и пускай! А разве нельзя ночью? Ночью поднимется еще большая паника…
Только бы нигде не взорвали колею…
Господи! Как же медленно движется поезд!.. Сколько? Сорок верст? Предел для тяжелого бронепоезда?.. Друг, брат, товарищ, давай за предел, давай за все пределы; надо же поспеть киевлянам на помощь!
2
Итак, шел шестой день восстания – пятый день осады.
Памятников этому дню в Киеве три: выщербленные пулями стены «Арсенала»; пулемет «гочкис» на пьедестала напротив – из него арсенальцы выпустили свой последний патрон; могила на круче над Днепром – чтоб были видно, было слышно, как ревет могучий.
Сегодня для истории ясно, какая тогда была совершена ошибка. Но тогда это не было ошибкой – то было великое и величественное историческое деяние. Безрассудство? Может быть. Но то было мужество борцов революции. Слепой энтузиазм? Нет. То была железная непреклонность революционеров. Не склоним головы перед врагом – нет! Не сложим оружия, поднятого за рабочее дело! Здесь – в «Арсенале», там – по всему Киеву, по всей Украине: за мировую социалистическую революцию! На арену истории выступил новый класс – и отныне он будет вершить судьбы мира! Это – мы, Власть – нам!
А ошибка, трагическая ошибка, состояла вот в чем.
Делегация, посланная арсенальцами для переговоров, так и не вернулась. Никто никогда не увидел больше товарищей, не услышал о них ничего. Неведомо где истлели их кости.
Арсенальцы согласились на перемирие, для того чтобы подсобраться с силами. Но и националисты не лыком были шиты. Они и предложили перемирие, и затягивали переговоры, чтоб склонить чашу весов на свою сторону. Из осаждавших «Арсенал» отрядов они сняли добрых три четверти и бросили их против других районов. План операции разрабатывали опытные военные специалисты. В штабе нового – теперь, после объявления самостийности УНР, – «министра войны», украинского социал–демократа Порша работали боевые генералы русской армии, штабисты ставки Юго–Западного фронта, военные советники союзной французской армии. Расчет был такой: подавить сопротивление других районов, сбить их наступательный порыв, а не то и вовсе ликвидировать очаги мятежа и тогда всеми концентрированными силами, да еще с помощью идущего из–за Днепра Петлюры с «черными гайдамаками», обрушиться на опорный пункт восстания «Арсенал». И окончательно погасить пламя, весь пожар…
Против Подола двинули отборную часты «сечевых стрельцов». С полевыми орудиями, минометами и пулеметами. Устилай землю трупами, подольские вынуждены были отойти на Куреневку и Приорку,
На шулявцев ринулись «вильные козаки» и свежий полк имени Гордиенко, как раз подошедший с запада, с Ирпеня, – он только что прибыл из–под Минска, с Западного фронта. Шулявцы очутились между двух, даже трех огней: с Бибиковского, с Сырца и от Борщаговки.
С железнодорожниками националистам не повезло. Против железнодорожников силы были брошены самые крупные: остатки богдановцев и полуботьковцев, те, что не присоединились к восставшим; полк имени Грушевского, Черноморский курень, автоброневой дивизион, сводный батальон русских офицеров, часть «куреня смерти», отряд донских и кубанских казаков – из «команды выздоравливающих», задержавшихся в Киеве по госпиталям и не выехавших на Дон и Кубань. Но и железнодорожники были сильнее других, а главное – действовали несколькими группами: вокзал, Главные мастерские, депо, Киев–первый, Киев–второй, да с ними еще демиевцы и отряд Боженко. Гайдамаки бросались на каждый опорной пункт – каждая группа железнодорожников оттягивала на себя значительные силы, – и везде гайдамаки откатывались назад. Только группа, пробившаяся к «Арсеналу» с Васильковской и уже соединившаяся было с авиапарковцами, вместе с Боженко, который чуть не прорвался в самый «Арсенал», вынуждена была оставить свои укрепления – завод на Прозоровской, 8 и костел Шептицкого – и спешить на Демиевку. На демиевцев и соломенцев наседала прибывшая на помощь националистам свежая часть – арьергарды корпуса Скоропадского, которые, под нажимом Второго гвардейского на его авангарды, двигались из Василькова через Жуляны. На Демиевке и в Голосееве завязались особенно жаркие бои.
Националисты, правда, уже высвободили одну сотню сечевиков Мельника – на Подоле, высвободили из–под Политехникума Черноморский курень и могли бы усилить нажим на железнодорожников. Тем более, что Киев–первый, Киев–второй и демиевцы с авиапарковцами вынуждены были основные силы бросить к мостам через Днепр: по мостам уже шли в штыковую атаку юнкера и полк Гордиенко, неслись с шашками наголо «черные гайдамаки», а позади на белом коне гарцевал сам Симон Петлюра. Но националисты опасались, как бы не пришел в себя «Арсенал» и не ударил по петлюровской гвардии с фланга: им неизвестно было, что у арсенальцев осталась лишь по одному патрону – в стволе винтовки и по одному снаряду на орудие. Они знали, что арсенальцы уже пять суток без сна, но не знали, что они трое суток не ели и не пили. И они временно оставили против опорных пунктов железнодорожников лишь заслоны, а всеми силами – тысячи гайдамаков – спешили снова атаковать «Арсенал».
В «Арсенале» не осталось уже и половины защитников: часть лежала окоченевшими трупами у баррикад, часть – по цехам погибала от ран в лихорадке. Да еще целый отряд ушел ночью за стены завода: эта группа решила пробиваться на соединении с авиапарковцами и демиевцами, чтобы ударить петлюровцам, переправлявшимся через мосты, во фланг. «Арсенал» защищала лишь горсть бойцов – пять суток без сна, три дня без пищи и воды; огнеприпаса – лишь го, что в стволе винтовки, в замках орудий.
Ревели десятки гайдамацких полевых пушек, десятки пулеметов со всех сторон – они накрывали арсенальский двор сплошным свинцовым куполом. Потом тысячи гайдамаков бросились в штыки.
Арсенальцы отбили эту бешеную атаку. Каждый выстрелил только один раз – последним патроном, каждая пушка сделала один лишь выстрел – последним снарядом.
– Драться до конца!.. Последняя пуля – врагу, не себе! – таков был клич арсенальцев.
Наступающие откатились, умолкли.
Это была страшная тишина. Приближался рассвет.
У мостов, за кручами над Днепром, трещали пулеметы демиевцев, соломенцев и авиапарковцев. Но порывы предутреннего ветерка приносили оттуда уже и крики «слава!» – крики эти всё приближались и приближались. Вот они на мосту. Вот – на предмостье. Уже на Набережной,. А пулеметы защитников переправы – за Набережной, за Выдубецким монастырем, на Лисой горе. И затихают вдоль железнодорожного полотна: Киев–второй, Демиевка… А «слава» – крик петлюровцев – все ближе: в лавре и Аносовском парке, уже на Никольской…
Осаждающие перестроились и снова кинулись атаку.
Теперь уже атака шла кольцом, и кольцо становилось все уже, а ряды атакующих – плотнее, гуще.
Тысячи шагов, пятьсот, сто…
Арсенальцы отворили ворота и вышли.
Рассвело.
Это было раннее утро двадцать первого января.
3
Об этих минутах поведали участники и очевидцы – эти минуты записаны кровью на скрижалях истории украинского народа.
На страницах, литературного произведения мы не позволим себе вдаваться в подробные описания.
Лишь коротко напомним детям и внукам.
Передний ряд полег под пулеметами. На тех, что шли за ними, гайдамаки бросились со штыками.
Одновременно гайдамаки проникли через все ворота и проходы во двор «Арсенала». Тех, что не успели выйти, пристреливали на месте. Раненных выволакивали из помещений и тут же рубили шашками. А иного не давали себе труда и вытаскивать: прикалывали штыком где лежал.
Девушек, что ухаживали на ранеными, выгнали во двор, раздели донага, бросили лицом в снег и секли нагайками. Поливали водой и бились об заклад: сразу замерзнет или погодя? Такую расправу учинили во дворе «Арсенала».
А на улице, за воротами, под стеной «Арсенала», построили тех, кого еще не перестреляли, не накололи и не зарубили.
Пулеметы поставили у ворот казармы расстрелянных уже и поднятых на штыки повстанцев–понтонеров.
Но расстрел задержался: у ворот разгромленных понтонерских казарм, под памятником Искре и Кочубею в это время как раз происходили трогательная встреча трех: Петлюры, Коновальца и Мельника.
Обнимались. Трясли друг другу руки. Кидали шапки оземь. Кричали «слава!».
Появился оркестр и грянул «Ще не вмерла».
А Украина умирала…
– Ще не вмерли? – крикнул Петлюра и снова вскочил на своего белого, из конюшен Дубовского завода, жеребца, – Так пускай помрут!..
И с коня – величаво – подал знак пулеметам: к стрельбе! В тех, что выстроены под стенами.
А вокруг шумела толпа.
Кто его знает, откуда она собралась.
Печерские – братья, родители и дети тех, что стояли под стенами. И не печерские – просто киевляне. Они сбежались сюда. Неведомо, что их привело. Жалость. Горе. Страх, Неизвестность. Случай.
Но толпа бушевала – и бросилась к Петлюре с мольбой: не надо, не надо!
– Расстрелять! – визжал Петлюра.
Пулеметчики потянули лепты из цинок.
Люди рыдали, люди падали без чувств, катались по снегу в припадке отчаянья, опускались на колени и молили: не расстреливайте хоть этих!.. Они ведь боролись за свое кровное! Ведь они – герои! И они – люди! Не стреляйте, изверги!
– Расстрелять!..
В эту минуту подкатил автомобиль «рено» с флажком союзницы Франции.
Три француза – консул, аббат, полковник – вышли из машины.
Они тоже прибыли на пышный праздник торжествующего победу Петлюры.
Петлюра сидел на коне, подняв руку с шапкой: чтоб махнуть и дать, последний знак – к стрельбе, к убийству. Пулеметы уже были готовы. Прибытие галантных гостей задержало его руку.
Высокие гости подошли, торжественно приветствовали и принесли свои поздравления.
А толпа вопила и рыдала, а арсенальцы стояли под стенами а кричали: «Тираны! Кончайте уже!..» А гайдамаки–пулеметчики ждали последнего знака.
Очевидно, между галантными французами и господином Петлюрой состоялся такой разговор:
– Глубокоуважаемый мосье Петлюра…
– Сын мой во Христе…
– Брат–каменщик, именем нашей ложи…
– Не делайте этого, зачем это вам?.. Ведь слух разнесется далеко – что не в бою, а лишь из мести… когда уже отгремел бой… Знаете, в гуманных кругах и вообще у нас во Франции это может произвести… неприятное впечатление… И ваш престиж…
Петлюра надел шапку на голову.
Махнул рукой Коновальцу.
Мельник подал команду своим пулеметчикам:
– Отставить!.. Вольно…
Но Петлюра еще приказал:
– В тюрьму! Всех! Будем судить военно–полевым судом!
Опять заиграли «Ще не вмерла».
4
Фиалек оказался среди тех, кого не успели расстрелять или зарубить и теперь гнали по Никольской на гауптвахту.
Необычно и дико выглядела родная Никольская улица, – неужто и весь Киев такой? Маленькие домишки сгорели или разбиты снарядами. В больших, многоэтажных зияли огромные дыры. Ни одного целого, застекленного окна. Деревья расколоты снарядами или перерезаны пулеметными очередями. Телеграфные столбы и фонари повалены. На тротуарах и мостовой – трупы: и красногвардейские, и гайдамаков со шлыками… А они – две или три сотни людей – плетутся толпой, окруженные конными гайдамаками с шашками наголо. Седое облачное небо низко нависло – мороз спадал, и снег под ногами и вокруг был не белый, а рыжий, в кровавых пятнах: истоптанный конскими копытами, залитый кровью раненых и убитых.
Люди брели нога за ногу; большинство раненые, все истощены, все подавлены. Поражение!.. Смерть друзей и товарищей. И впереди – неотвратимая гибель…
Начиналась оттепель, но и мороз не отступал, под ногами выло скользко: измученные люди спотыкались теряли равновесие и падали.
Тех, кто падал, добивали прикладами или рубили шашкам и.
Потом подскакал гайдамацкий старшина и поднял крик:
– Почему толпой? Почему стадом? А ну, стройся по четыре!
Построились.
Несколько человек при этом упало. Их прикололи штыками.
– Ногу! Ать–два!..
Пошли «в ногу». Кое–кто поскользнулся и упал. Добили.
Фиалек шел и удивлялся. Пять суток не сходил с баррикады. Пять суток под обстрелом; сотни орудийных разрывов вокруг, непрерывный ливень пуль, все время в самых опасных местах – и даже не ранен! Не берет пуля! А жаль…
Фиалек был богатырь – два аршина двенадцать вершков, по рекрутскому набору попал в гренадеры, всегда стоял правофланговым – и теперь так и возвышался над всеми понурыми, сгорбившимися, приунывшими товарищами. Шел прямой, высокий, статный, гордо подняв голову: умирать так умирать, – еще с Феликсом Дзержинский в Лодзи и к Вартане, когда они только вступали в революцию, поклялись: за революцию умрем, высоко держа голову!
Но высоченный арсеналец пришелся не по нраву старшине, любившему во всем порядок.
– А чего там выперся этот дылда, что твой ветряк на юру?.. А ну, укоротите–ка его, кому там поближе! Уберите его головешку! Пускай хоть и без головы, а вровень со всеми идет – не нарушает артикула!..
Пьяный хохот – гайдамаки были все до одного пьяны – встретил черную шутку висельника. Один гайдамак замахнулся шашкой.
Фиалек смотрел ему прямо в глаза – в маленькие глазки меж запухших с перепоя, красных век – и головы не клонил. Не все ли равно как умирать: и так и так смерть
Гайдамак выругался и рубанул.
Но взгляд Фиалка – гордость, ненависть и презрение – поколебал решимость палача, и рука его дрогнула.
Удар пришелся по плечу и рассек пополам ключицу.
А богатырь продолжал идти. Лишь глянул искоса на незадачливого рубаку. Кровь дымилась на ватнике. Всякий другой бы упал без сознания.
Гайдамак осатанел и замахнулся снова. Но тут старшина подал команду:
– А ну, бегом! Марш–марш!..
И люди побежали.
Побежал и Фиалек. В кропи. Выпрямившись, осанистый, гордый. Только правой рукой поддерживал разрубленную левую…
Сразу позади Фиалека трусил рысцой Иван Антонович Брыль.
Пусть это и невероятно, но и он расстрелял свои обоймы на баррикаде. И должно быть, впервые в жизни Иван Антонович ни о чем не раздумывал и ни над чем не философствовал… Дали винтовку – взял. Показали, как стрелять, – стрелял. Попал ли? Кто его знает! А очень хотелось попасть… Теперь старик Иван все проклинал себя и проклинал:
– Дурень! Ах и дурень же я старый и неразумный!.. Надо же было сразу идти. А то явился к шапочному разбору… Да коли б все сразу поднялись, – разве ж эта… Петлюра устояла бы против нас, пролетариев? Мы ж таки сила – пролетарская солидарность!..
А что сейчас помирать, о том Иван не думал.
Вот только – как там теперь управится Меланья? Душевную супругу послал ему господь бог или, тьфу – от природы уже так вышло. Сколько ж этой мелкоты на руках!.. Разве что поможет Данько, если останется живой. А не останется, Меланье еще и невестка с внуком на шею…
Насчет Данилы Иван не беспокоился. Геройский пролетарий. Правильный хлопец. Вот так за ним и ему, старому дурню, надо бы идти… Данила, с группой молодых, ушел с тем отрядом, что решил пробиться к авиапарковцам. И пробьется, чтоб вы знали! Коли будет жив. А загинет – так за революцию! Слава ему и вечная память. А не загинет – таки построит социализм. Можете мне, Ивану, старому дурню, верить!.. О побратиме своем Иван тревожился. Старый дуралей Максим – туда же, увязался за молодыми да отчаянными. Сказал, вишь тетеря, что не может усидеть на месте, – даже на баррикаде не терпится! Сказал, что душа его рвется в бой. Хоть и голыми руками! Только бы видеть врага в лицо и заплевать ему очи. Этим сучьим, проклятым, растреклятым самостийникам–националистам, потому как они и его, бедолагу, чуть с ума–разума не свели!.. Теперь он должен бить, крушить, истреблять их чем попало, что бы ни случилось под рукой, – пускай хоть горсть песку в глаза!..
Нагайка больно хлестнула старого Ивана по спине.
– Эй, ты, – орал пьяный гайдамак, – чего отстаешь? Или ткнуть тебе железную спичку в пуп?
Иван побежал быстрее, надрываясь, из последних сил. Бил он крепок, бить молотом – бил бы еще лет двадцать, однако же бегать позабыл: сорок лет, с жениховской поры, же не бегал. Сердце колотилось в груди, едва не выскочит, дышать нечем было, перед глазами вертелись зеленые и красные круги…
Да вот уже и конец. Губернская гауптвахта. Гайдамаки лупили на прощание своих подопечных нагайками, – сдавали страже – и скакали прочь: дальше добивать повстанцев на железной дороге, на Шулявке, на Подоле…
Стража была из казаков пешего полка – на гордиенковцев, прибывших «спасать Украину» издалека, с Западного фронта. Это были угрюмые, обескураженные неожиданной битвой в Киеве, селяне: украинца по происхождению, надерганные из разных частей Западного фронта и сведенные в один отряд.
Гайдамацкий старшина, передавая им арестованных, наставлял:
– Эй, хлопцы–молодцы! Не давайте спуску этим подлюгам! Бейте их! Не щадите! А будут куражиться – убивайте без жалости! Песья вера, изменники – встали против, неньки Украины!
И поскакал.
Иван как раз пошатнулся – голова у него кружилась после бега, едва дышал. Казак – хмурый, злой, заросший щетиной дядько – замахнулся на него прикладом.
Иван съежился, простонал:
– Человече! Имей совесть! За что ты меня убивать будешь?..
Украинская речь арестованного сбила с толку казака. Он опустил винтовку. Им сказали, что восстание против Украины учинили кацапы–большевики, потому как все большевики – кацапы, а все кацапы – большевики.
– Тю! Так ты из наших? Из украинцев? Чего ж тебя сюда занесло? Под руку попал? По дороге на улице взяли?.. А ну, иди–ка прочь…
Идти! Как так идти? А остальные останутся тут? На кровь, на муки, на пытки и смерть? Нет, – он со всеми.
– Не уйду! – огрызнулся Иван. – Я тут за дело. – Он уже сердился на себя, что просил пощады, что смалодушничал перед врагом.
– За какое дело?
– За участие в восстании! – гордо сказал Иван. И начал яриться: – За наше рабочее, пролетарское дело! За власть Советам! За социализм и смерть капиталистам, помещикам!
– Тю? – Дядько в шинели, обросший, угрюмый приглядывался в изумлении. – Так ты украинец?
– А как же! Только – за международную солидарность!
– И против панов, помещиков?
– И панов, и помещиков, и всей мировой буржуазия!
– Тю… Ишь ты, чертвина!.. А я за что же?
– Почем я знаю! – лютел и лютел Иван. – Живодер ты! Вот тебе.
Казак стоял вконец растерянный. Даже на брань не поглядел:
– Тю… Так и я ж, и хлопцы – мы тоже, против панов и помещиков. За то и пошли, чтоб на Украине была наша власть. И чтоб советская была. Чисто вся снизу доверху. Аж до Центральной, которая – рада.
Теперь «тю!» промолвил Иван.
И плюнул.
Перевернулось все на едете! Народу, народу в обман ввели! Провокация! Вот чертовы, лысого дьявола, ведьминого роду, проклятые провокаторы–самостийники…
– Митинг давай! Давай митинг! – уже вконец осатанев, завопил Иван Брыль. – Людям глаза открыть!
Его едва затолкали в камеру гауптвахты: был крепенек в свои под шестьдесят…
5
Марина – голая, застывшая, окровавленная – сидела на рыжем от крови снегу.
Возле нее суетился отец – доктор Гервасий Аникеевич. То прикрывал плечи своим пальто. То принимался считать пульс. То совал и рот какие–то таблетки. И все приговаривал, просил:
– Идем!.. Домой поскорее!.. Доченька!.. Замерзнешь в снегу… И такая потеря крови… Не можешь… Я помогу… Я поведу… Я понесу… Или люди… Эй, люди, люди, помогите!.. Она еще жива!.. Дышит… Доченька… Это моя доченька… Помогите, в ноги поклонюсь…
Марина сидела неподвижная, подняв плечи, опершись на руки, смотрела широко раскрытыми темными глазами прямо перед собой и не вставала, не отзывалась. Кровь струилась из рассеченной шомполами спины.
Что видели ее запавшие глаза? К чему был прикован ее темный взор?
Видели всё. И себя видели. Темный взор закипал ненавистью. Вот оно как! Так вот оно как!..
Иссеченное тело не болело: то ли застыло то ли не до него…
Болела душа.
Жег стыд.
За все стыдно. Стыдно что голой раздели, что надругались над телом, что осмелились – боже, нет на свете большего позора и оскорбления! – высечь: как невольницу, как раба, как пса… Стыдно, что сомневалась, колебалась, разочаровывалась и снопа верить начинала… Во что верить? В неправду, в обман, во вранье!.. Стыдно, что – «разумница» такая, образованная, ай–яй–яй, скажите на милость, из «сознательных»! – не увидела, не поняла, не разобралась сразу, раньше… И… боже мой! Как она сейчас себя горько презирала! Хотела прошептать, но губы не шевелились, твердила только про себя: «Так тебе и надо! Так тебе и надо! Идиотка…»
– Доченька… дочка… – плакал Гервасий Аникеевич, – я сам тебя на руки возьму… Вот сейчас подойдут люди… помогут…
Гервасий Аникеевич – хоть верьте, хоть не верьте – тоже 6ыл в числе защитников «Арсенала». Правда, приплелся лишь в последнюю ночь. Искать дочку: пациенты говорили – видели в «Арсенале». И еще пациенты сказали: там убитых тьма, истекают кровью и помощи нет, нет ни одного доктора… А ваша дочка – среди девчат, что за санитаров там… И доктор пошел. Не пошел, а ползком, на старости лет, ярами, между кустов пробился–таки. Войны он не признавал, тем паче – классовой, и к восстаниям относился неодобрительно, даже осуждал. Но что поделаешь: война все–таки идет, восстание – факт, и люди гибнут, истекают кровью без врачебной помощи. Он, врач, должен быть на посту… В заднюю комнату завкома, где он находился возле тяжелораненых, гайдамаки так и не успели заглянуть: проскочили. Но он вышел – и вот Марина, дочка, разумница, что из стареющей его руки готовилась перенять светоч… и все такое…
– Доченька… доня… идем!
Люди понемногу сходились в разгромленный «Арсенал». Больше всего родные арсенальцев: матери, жены, сестры, дочки – искать среди зарубленных и расстрелянных… своих…
Две женщины, причитая и голося, уже поднимали избитую Марину, помогали доктору: своих еще не нашли, но ведь и эта, горемычная, докторова дочка, та, что на велосипеде собак пугала, – пропадает, бедняжечка, горюшко наш…
Потом появилась суровая и грозная Марта. Максима она не нашла: осмотрела, может, четыре сотни трупов – нету. И куда он подевался, старый разбойник! Отчего это среди всех его нет? Ну пускай, пускай заявится только домой!.. Господи боже! Говорите, не всех порубили? На гауптвахту погнали? А еще есть которые раньше вышли, снова в бой подались – вон стреляют за Черной горой?
Марта всплеснула руками и грозно подбоченилась. Так и есть! Мой брандахлыст не иначе там! Hy, он у меня получит…
– Вставай – грозно прикрикнула она на Марину. – Замерзнешь, я что тебе говорю!
Марина поднялась, ее поставили на ноги; сердобольные женщины поснимали платки, прикрыли ей грудь и хотели – израненную спину.
– Нет, нет! – замахал руками, не разрешил доктор. – Ваши платки септичны! Сперва нужен стерильный бинт!
Стерильного бинта и в помине не было.
Гервасий Аникеевич схватился за голову: ссадины, полосы на спине запеклись уже ледяными игольчатыми струпьями – человек замерзает! Дочка! Донечка!.. Что делать? Пневмония! Смерть…
Марина снова села в снег.
– Не пойду! – Это были ее первые слова: потрескавшиеся, обметанные и обмерзшие губы наконец разомкнулись. – И жить не буду.
И тут – Марина зарыдала:
– Проклятые, проклятые, проклятые!..
Гервасий Аникеевич облегченно вздохнул: раз слезы, значит, и тело живо, и жива еще душа. НЕ ступор – психический и нервный паралич, не каталепсия, только временный шок… и он уже миновал. Теперь – спасать внутренние органы и какого–нибудь, какого–нибудь антисептического средства, хотя бы карболки…
Гервасий Аникеевич махнул рукой – условия ведь не обычные, а чрезвычайные – сбросил пиджак, снял сорочку и надел на дочь.
– Не пойду… – прошептала еще Марина.
Рыданья сотрясали ее избитое, окровавленное тело.
– Ненавижу!
Это было понятно доктору Драгомирецкому. Он тоже, кажется, начинал ненавидеть.








