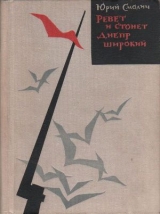
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 62 страниц)
И Дзевалтовский увидел и шел дальше уже с открытым лицом – никто из охраны теперь не осмелился огреть его плетью.
И арестанты подтянулись, оправили на себе изношенную одежду, из беспорядочной толпы начали перестраиваться шеренгами по четыре в ряд, и шершавое шарканье подошв постепенно стало превращаться в четкий ритм, еще минута – и семьдесят восемь гвардейцев–гренадеров дружно чеканили шаг – кто подошвами сапог, кто стельками изорванных башмаков, а кто и босыми ногами по мостовой: без всякой на то команды в мертвой тишине на площади зазвучал четкий ритм церемониального марша.
5
Но дальше уже началось такое, чего быть никак не могло, но что на самом деле все–таки было.
За памятником гетману Хмельницкому – прямо перед плотной, плечом к плечу, цепью юнкеров и гайдамаков с винтовками на руку, перед цепью, которая с целью охраны окружила все здание присутственных мест с помещением окружного суда, – прямо против штыков охраны выстроились в ряд сразу три военных духовых оркестра. Медь и серебро инструментов сверкали в отблесках солнца, которое уже золотило верхушки тополей и каштанов вдоль тротуаров. И как только первая шеренга заключенных – Дзевалтовский, Демьян и Королевич – миновала последнего красногвардейца с винтовкой «на караул», все три оркестра вдруг звучно и стройно грянули «Варшавянку».
И сразу же люди, – толпы людей, собравшиеся позади оркестров, – замахали красными стягами, начали бросать вверх шапки и кричать «ура».
Предрассветной тишины как не бывало. Наступил день, бурный день революционного города.
И семьдесят восемь арестантов тоже замахали руками, тоже начали подбрасывать вверх свои лохмотья, тоже во весь голос закричали «ура!».
Так – с криками «ура» – колонна заключенных и вошла в железные ворота судебного двора, будто на праздник.
С победным криком «ура» гвардейцы–повстанцы направлялись на суд, который должен был вынести им смертный приговор!
6
А в это время в далеком и тихом Чигирине – в бывшей гетманской резиденции времен Хмельнитчины – происходило шумное сборище, тоже претендовавшее стать историческим.
На высокой Замковой горе, где более двухсот лет тому назад возвышался пышный дворец гетмана Богдана, а ныне на заросшем полынью и чертополохом подворье замка остались одни лишь руины, в немом торжественном молчании застыла огромная живописная толпа.
Можно было подумать, что замшелые развалины вот–вот снова поднимутся стрельчатыми палатами, над которыми взовьется гетманский штандарт, и сам гетман воскреснет и выйдет на крыльцо и прикажет старшинам, челяди и всем ратным людям готовиться к новому походу против басурман, католиков, а то и против Москвы.
Огромная толпа в несколько тысяч человек – чигиринских мещан, отрубников с хуторов по обе стороны реки Тясмин, хлеборобов с ближних и дальних сел и даже черниц из Субботова и Медведовки – в торжественном почтительном молчании окружила широким кольцом весь бывший гетманский плац на Плоской верхушке горы. Лишь изредка, подобно порыву ветра, из края в край пролетал шелест либо волной перекатывался приглушенный гомон – как отзвук того, что происходило внутри круга. А в середине большого круга был еще один, чуть меньший людской круг: несколько сот казаков сидело прямо на земле, по–казацки поджав под себя ноги. Этот малый круг по пестрой расцветке одежды напоминал ярмарочную толпу. Были здесь молодые парни в обыкновенных солдатских гимнастерках и в фуражках, сдвинутых набекрень. Были деды в изодранных сермягах или заношенных серяках, напяленных зачастую прямо на голое тело. Были дядьки в добротных синих поддевках, наброшенных внакидку на красивые вышитые сорочки, к тому же в шапках из серой смушки. Были парубки в старинных жупанах с густыми сборками, в папахах с красными, синими и желтыми верхами, к тому же с усами, свисающими шнурком вниз. Были даже воины в черкесках, сшитых из обыкновенного солдатского сукна, но с полным набором газырей, с кинжалом у пояса и в кубанках, перекрещенных поверху золотым позументом. И каждый казачина держал, зажав между колен торчком, винтовку или кавалерийский карабин.
В середине второго, казацкого, круга был еще и третий круг. Только здесь уже был поставлен длинный стол – доски–горбыли на козлах, – и вокруг него сидели люди на скамьях. Это был президиум.
Состав президиума тоже был разномастным. Посреди сидел осанистый, холеный мужчина в черкеске из белого сукна, с золотыми эполетами генерала русской армии; борода, усы и голова у него были обриты наголо. Справа от него – в изодранной сермяге на одном крючке – расселся старый–престарый дед в большой бараньей шапке; усы – каждый толщиной в девичью косу – свисали у него на грудь. Слева от генерала – в гимнастерке цвета хаки без погон – сидел господин с белесым чубом, крепкими скулами и зорким, быстрым взглядом стального цвета глаз. Рядом с ним расположился еще один господин – в одежде, несколько неожиданной здесь: в черной визитке, крахмальной манишке и галстуке «фантази». Дальше – и справа и слева – сидели разные люди: по большей части почтенные дядьки в синих поддевках или парубки в красных жупанах, но были здесь и обыкновенные мужики в заплатанных свитках и неопределенного вида люди в офицерских френчах без знаков различия.
В сторонке, невдалеке от стола президиума, присела на корточках еще небольшая кучка молодежи и вовсе городского вида: несколько студентов в фуражках с голубыми околышами, несколько гимназистов и реалистов в форме с белыми и желтыми кантами.
День только–только вступил в свои права – солнце поднялось как раз вровень с верхушкой горы, и его косые лучи слепили глаза всем присутствующим; люди отворачивались либо заслонялись от солнца рукой. Утро было ласковое, ветер не шелохнет, теплынь как на спаса, из местечка тянуло соломенным дымком: в домах жарили и парили к обеду; с окружающих полей – запахом старой соломы и навоза: как раз под озимые хлеба удобряли пашню; откуда–то издалека, очевидно от лесного монастыря, доносился звон к панихиде по какому–то хуторскому покойнику.
7
Первым выступил дядька с длинными седыми усами, сидевший рядом с генералом в белой черкеске.
– Голопузые и голодранцы! – заговорил дядька, покашливая после каждого слова. – Душа гетмана Богдана воротилась в Субботов, в свою христианскую могилу, полетела над лугами и полями аж за Черный яр, пособирала преславного гетмана кости, проклятым ляхом Чернецким раскиданные повсюду на Черкасщине, сложила их в костяк–скелет, слепила гетману из украинской земли новое тело, ангельское и небренное, вселилась в него – и снова оживает наша казацкая воля, становится на свои ноги наше вольное украинское казачество…
Усатый дядька, произнося речь, постепенно переходил на речитатив, на причитание песенного склада, и в толпе по большому кругу пошел шелест, бабы потянулись уголками платков к глазам. Но господин в гимнастерке – тот, который сидел слева от генерала, – поднял руку, и снова стало торжественно тихо.
Дядька кашлянул и почти запел:
– Бедная чайка в вечной тревоге – вывела деток у торной дороги…
Тут дядька не выдержал и сам заплакал. Бабы взвизгнули и заплакали, вздохнули и мужчины, стоявшие в кругу.
Но дядька вытер слезу седым усом и вдруг неистово завопил:
– Потому как по той дороге не татарва, не турок–басурман надвигается и не ляшская распроклятая шляхта, под Кодней недорезанная, а лютый герман–австрияк – с заката солнца; а с севера грозит–надвигается чертов москаль–кацап, который вот уже двести лет топчет нашу святую земельку и жиреет на наших казацких достатках! Не потянула против него и христианская ливоруция, чтоб не было царя Миколки!.. Нужно нам думу думати о своей самостийной украинской ливоруции, хлопцы!..
Выступал не кто иной, как сам инициатор движения «вольного казачества», юродивый из села Гусаки из–под Звенигородки, по фамилии Смоктий. С другой стороны от генерала восседал идеолог движения – педагог–юрист Юрко Тютюнник, атаман основоположного, Звенигородского, «вильно–козачьего» коша. Генерал в центре был – Скоропадский, черниговский помещик, потомок гетмана Ивана. Того самого Ивана Скоропадского, Илькова сына, который, будучи поставлен на гетманство царем Петром после предательства Мазепы, издал к казакам и посполитым универсал: кориться только Москве, прославил по церквам убиенного Кочубея, а вторым универсалом роздал земли и богатства Украины московским боярам и установил разные привилегии для вели–корусов. Потомок его – генерал в черкеске – только что был избран атаманом «вольного украинского казачества» по всей Украине. Рядом с ним, в визитке, был генеральный писарь генеральной рады «вольного казачества» Кочубей – потомок того самого знаменитого Кочубея.
И происходил в эту минуту всеукраинский съезд «вольного казачества». Съехались на него делегаты с Киевщины, Херсонщины, Полтавщины, Черниговщины, Екатеринославщины и даже с Кубани. Сегодня в рядах «вольного казачества» было уже шестьдесят тысяч сабель. Завтра должно было быть шестьсот; в сотнях – по селам, в куренях – по волостям, в полках – по уездам и в кошах – по губерниям. Съезд был специально созван на руинах замка Богдана Хмельницкого в историческом Чигирине – действовали, так сказать, исторические реминисценции.
Юродивый Смоктий вопил:
– Православные християне! Племя антихристово зарится на нашу родную неньку Украину. Ибо на один лад дьявол всех ляхов создал! Еще и сотворили на горе людям всякую машинерию – грядет время железного века и сатаны, рабоче–крестьянской эксплитации! А нам такая честь, как собаке на ярмарке: либо отовсюду гонят, либо хозяин к телеге привяжет. Ежели не встанем с оружием в руках – пропадем, аки швед под Полтавой! Аминь.
Юродивый снова перешел на речитатив, снова впал в истерику – говорил вперемежку словами из святого писания и неприличной уличной бранью, без разбора сыпал притчами из Ветхого завета и легендами из прошлого украинского казачества – по истории профессора Грушевского, добавляя к этому невесть откуда притянутые лозунги чартистов–машиноборцев.
Толпа заволновалась, бабы запричитали – и идеолог движения, Юрко Тютюнник, решил вмешаться. Он посадил исплакавшегося юродивого старика, который уже и последний крючок на сермяге оторвал, и рубаху на груди разорвал, и начал говорить сам:
– Панове–добродейство, уважаемое вольное казачество украинской земли! Наше освободительное движение должно украинскому народу волю добыть, украинскому крестьянству земли нарезать по потребности и по возможности в труде, – следовательно, не должно быть украинца, который не взял бы оружия в руки и не стал бы в ряды славного вольного казачества.
Речь Тютюнника была сугубо деловой. Он кратко изложил основные пункты устава «вольного казачества», еще короче, но исчерпывающе ознакомил с организационной структурой от села до губернии и целого государства и абсолютно точно сообщил: вооруженные силы «вольных казаков» должны составить целый миллион, и заверил, что этот миллион непременно будет и точно – до первого января нового, восемнадцатого года. Далее он собирался еще определить в цифрах, какой губернии и какому уезду сколько людей надлежит поставить под ружье, но тут его неожиданно прервали.
Казак, занимавший сторожевой пост высоко на триангуляционной вышке, в двухстах шагах от места сборища, в конце территории бывшей гетманской усадьбы, вдруг закричал «пугу–пугу!» и выпалил вверх из винтовки.
– Дымит! – кричал казак. – Дымит! Едут!
Толпа метнулась к склону обрыва – с верхушки Замковой горы видно было на много верст окрест – и все увидели тоже: примерно в двух километрах отсюда, в поле, у дороги на Субботов, возле второй триангуляционной вышки белым дымом курился костер. Еще двумя километрами дальше дым от костра уже столбом взвился в небо. Третий дым клубился где–то под самым Черным лесом.
– Дымит! Дымит! – закричали в толпе десятки голосов. – Едут! Уже и видно! Приближаются!..
Это должна была ехать на всеукраинский съезд «вильных козаков» делегация от самой Центральной рады, которую ожидали еще с вечера. О том, что делегация – в связи с неотложными государственными делами – опоздает к открытию съезда, вчера сообщил телеграф; об обстоятельствах в пути следования передавали по телефону с каждой железнодорожной станции, вплоть до самой последней, Фундуклеевки, – провод полевого телефона был подведен к аппарату на столе президиума. Но, несмотря на все это, от Фундуклеевки – тридцать пять километров вдоль дороги – были приготовлены и костры для сигнализации, как в далекие времена Запорожской Сечи. Необходимости в этом, конечно, не было – телефонные команды связи Звенигородского коша Тютюнника действовали бесперебойно, но такова была романтическая дань историческим традициям.
Особенно сильно взволновала она молодых людей в группе студентов и гимназистов. Студенты и гимназисты начали срывать фуражки и подбрасывать их вверх, вопя «слава!».
8
Кружок студентов, гимназистов и реалистов состоял из наиболее национально сознательных и общественно активных представителей юношеских секций «просвит», которых губернские «просвиты» Правобережной Украины делегировали на первый всеукраинский съезд «вольного казачества» с целью наиболее глубокого изучения сего национально–патриотического движения для дальнейшей популяризации идеи «вольного казачествования» и широкого практического осуществления ее на местах.
От юношеской секции киевской «Просвиты», в частности ее печерского рабочего филиала «Ридный курень», делегатом был гимназист Флегонт Босняцкий.
Флегонт стоял у самого края обрыва Замковой горы, в историческом Чигирине. Господи! Быть может, на том самом месте, на котором стоял великий гетман, обозревая местность, думал, как завязать сабельный бой с наседающей шляхтой или татарвой! От волнения мороз пошел по коже у Флегонта и сердце замерло. Ожили степи, озера, оживет казацтво! Славных предков великих… Стихи слагались сами собой. И по содержанию, и по рифме лучше всего подходило бы сейчас слово «юнацтво», но перед тем нужна была еще рифма к слову «озэра», а тут рифмы выскакивали неуместные: химера, холера, черная пантера… Разве вот – эра?.. юнацтва. А между ними, посередине, – что?
Флегонт был глубоко взволнован. Родная старина точно бы сходила со страниц книг – тех самых, которые, почитай, двести лет были гонимы, находились под запретом; вставала из дедовских преданий, которые приходилось слушать украдкой, чтобы случайно не подслушал чужой человек; выливалась из песен, которые тоже пелись вполголоса, потихоньку лирниками на базаре; выплывала она, казалось, из–за самого горизонта, который проходил сейчас по луговой низине вокруг развалин исторического замка. Боже мой! Да ведь это же за Черным яром – и начало Дикого поля!.. И все это была старина родная, своя, прошлое родного народа, его история – славная и трагическая, стократ поруганная злыми пришельцами, прерванная, заживо в гроб положенная лютыми захватчиками!.. Оживает уже, оживает – пускай оживает! Чтобы в настоящем и в будущем не знали горя родные люди, чтобы было им легко и просто, свободно и хорошо, как и всем другим народам на земле…
Правда, когда витийствовал юродивый Смоктий, Флегонт – гимназист восьмого класса – был обескуражен и даже удручен. Вдохновителем и основоположником свободного национального движения выступал… юродивый, к тому же, кажется, и нетрезвый! Несет какую–то околесицу, просто – полишинель, цирк. Флегонт краснел, как девушка, и чуть не заплакал от обиды. Его угнетало оскорбительное чувство, горькое ощущение какой–то фальши, несоответствие идеалов фактам. Подобное чувство охватывало Флегонта всегда, когда в окружающей жизни давно прошедшее сталкивалось с современным, прошлое – с настоящим, древность – с мечтами о будущем. Тут Флегонт все чаще начинал ощущать какую–то пропасть, отсутствие подлинной связи, противоречие…
– Нет, нет, – возмущался самим собой Флегонт, – можно ли говорить о противоречиях, если сейчас налицо именно сглаживание каких бы то ни было противоречий! Ведь посмотрите, какое единение всех социальных слоев: национальная элита и простые люди, помещик и батрак, интеллигент и ремесленник – все слои общества вместе, как в древнем Киеве, когда оборонялись против разрушительного набега Батыя!..
А Смоктий – боже мой! Что можно требовать от забитого, пришибленного жизнью старого, возможно малость и скудоумного, деда? Откуда к нему могли прийти верные мысли? И ведь чувства его – искренние! Неотесанный, исковерканный безжалостным гнетом, с нахватанными с чужих уст словечками народный самородок…
Подобные досадные инциденты не могли, разумеется, убить высокий романтический восторг.
И Флегонт стоял у самого обрыва, смотрел на дымы, поднимающиеся один за другим с той стороны, откуда начиналось историческое Дикое поле – дикое поле украинского исторического прошлого, – и восторг пел в его груди тысячами взволнованных голосов…
Заседание съезда между тем шло своим чередом – генеральный писарь Кочубей информировал «вольное казачество» о том, что создается оно добровольно и самодеятельно, следовательно, и охочекомонно, то есть на собственные средства. Какие же будут взносы, и кто их будет выплачивать? Пока украинское государство встанет на ноги, взносы будут выплачивать все – сообразно своим достаткам. Например, атаман–генерал Скоропадский – тысячу рублей, а основатель Смоктий – копейку. Кроме того, среди всего вольного православного христианства украинской национальности будут пущены подписные листы – для сбора добровольных пожертвований на великое освободительное национальное дело.
9
Кортеж делегации Центральной рады тем временем приближался. Люди толпились у обрыва над степным раздольем, смотрели, прикрываясь рукой от солнца, в степь, и на юру, у стола президиума, почти никого и не осталось.
Кортеж выглядел импозантно. Впереди скакал всадник на белом коне. За ним – между двумя гайдамаками с длинными черными шлыками, с обнаженными сверкающими на солнце саблями – второй, чубатый, с непокрытой головой, держал длинное древко, на котором развевалась хоругвь малинового цвета. За ними еще кто–то на черном коне, и снова между двумя гайдамаками с саблями наголо – третий, без головного убора, с полощущимся на ветру длиннющим желто–голубым знаменем. А дальше – с полсотни гайдамаков во главе с командиром, который, вынув саблю из ножен, размахивал ею над головой, высекая из солнечных лучей молнии стальных вспышек. На белом коне впереди скакал Симон Петлюра.
Правда, до леса Петлюра ехал в фаэтоне – ведь в предыдущей деятельности театрального рецензентa и командира прифронтовых калокомпостных цистерн ему не так уж часто приходилось скакать верхом… Но на опушке леса Петлюра сошел с фаэтона, и ему подвели белого, Дубровского завода, жеребца: подарок Центральной раде от новоявленного в национальной элите мецената родного дела, заводчика–миллионера и владельца земельных латифундий на юге Украины, пана Балашова, теперь, собственно, – Балашова–Балашенко.
Прибыть на исторический национальный праздник в современном извозчичьем фаэтоне значило бы поступить, по меньшей мере, вопреки историческим традициям.
Собственно, возглавлять приветственную делегацию Центральной рады на съезд «вольных казаков», должен был, конечно, Винниченко: как самодеятельная, самооборонная, так сказать, милицейская организация «вольное казачество» должно было находиться под эгидой генерального секретариата внутренних дел. Но разве мог Петлюра допустить подобное? Он специально подстроил так, чтобы Винниченко из–за неотложных дел не смог отправиться в поездку. Во–первых, Петлюpa уже твердо решил: как только поступит из Франции обещанный золотой заем, «вольное казачество» перейдет на казеннoe содержание – следовательно, станет воинским соединением, подчиненным, разумеется, генеральному секретариату по военным делам. Во–вторых, Петлюра не мог допустить, чтобы в деле организации «вольного казачества» играл руководящую роль этот звенигородский атаман, педагог–юрист Юрко Тютюнник. Юрко Тютюнник был фигурой опасной. Правда, саму идею «вольного казачества» выпестовал именно Тютюнник, он же положил начало организации дела – поставил уже под винтовку первые шестьдесят тысяч верных идее национального возрождения бойцов. Но тем паче невозможно было оставлять это дело в его руках! Очень уж сильный это… соперник в борьбе за высшую власть в возрождаемом украинском государстве. Даже штаб–квартиру командования «вольного казачества» Петлюра непременно переведет отсюда, из далекого от Киева и слишком близкого к тютюнниковскому Звенигороду Чигирина – куда–нибудь поближе к столице, например в Белую Церковь: чем плохое место с точки зрения исторических традиций?
Петлюра пришпорил белого жеребца – о, этот балашовский жеребец тоже будет историческим! – и загарцевал: до Чигирина было уже рукой подать, и видно было, как с Замковой горы собравшиеся над обрывом люди махали шапками.
Тревожил Петлюру и потомок гетманского рода Павло Скоропадский. Во–первых, как бы этого последыша древней украинской знати да не потянуло снова к власти! Славных прадедов великих правнуки ничтожные!.. У них, у аристократов, в крови сидит эта тяга, к восседанию на самых что ни на есть верхах! К тому же, коль по совести сказать, то и предок–пращур – тоже не святой: изменник казацкого рода, первейший среди тех, кто пошел пресмыкаться перед Москвой! И потомок – такой же сукин сын – свитский генерал: род Скоропадских со времен царя Петра и до царя Николая так и оставался в камердинерах при русских царях! Разве та–кому верховодить чисто украинским казачеством? Того и жди – предаст, подлец, только и всего! К тому же богач, помещик, эксплуататор: плебейское сердце Петлюры никак не лежало к этому буржую! И, кроме всего прочего, генерал: а вдруг он действительно разбирается в военном деле? Ведь сразу же начнет кичиться своим армейским авторитетом. Нет, нет! Никакой это не кандидат в атаманы «вольного казачества»!
А впрочем, именно генеральское звание Скоропадского и заставило Петлюру дать наперед согласие на избрание Скоропадского атаманом над казачьими кошами всех губерний. Ведь генерал Скоропадский командовал в русской армии Тридцать седьмым корпусом, который не так давно, еще главковерxoм Корниловым, был переименован в Первый украинский: семьдесят тысяч штыков, и дислоцирован он в тылах Юго–Западного фронта, на южном фланге от Киева. Мощный заслон украинского войска на подступах к столице Украины был крайне необходим – на всякий случай и во всех случаях: если бы, скажем, пришлось оказывать сопротивление наступлению австро–немцев или, если бы, скажем, дело обернулось так, что, наоборот, лучше будет… открыть немцам Украинский фронт.
Вот оно как!
И Петлюра снова пришпорил коня. Белый скакун поднялся на дыбы, затем сделал широкий прыжок вперед и понесся вихрем.
Люди над обрывом подбрасывали вверх шапки и кричали «слава»: к ним спешил сам генеральный секретарь по военным делам, и наездник он был хоть куда – вы только посмотрите, какие номера откалывает!
Вцепившись в гриву коня, чтобы не упасть, с замершим от перепуга сердцем, Петлюра мчался по крутому спуску прямо на гору.
За ним по пятам, словно черти из преисподней, гарцевали гайдамаки из сотни его личной охраны под командованием сотника Наркиса.
И пока Петлюра скакал на гору, к гетманской усадьбе, он успел еще мобилизовать в памяти все свои знания из истории Украины: Чигирин трижды завоевывался татарами, трижды – турецким султаном, три раза – московской ратью, три раза – гетманом Самойловичем, два – Юрасем Хмельнитченком, два – Брюховецким, захватывала его и польская шляхта. А вот он, Петлюра, сейчас с ходу и одним махом завоюет гетманщину навсегда – без боя, даже без выстрела.
10
Но выстрел все–таки прогремел, и даже не выстрел, а целый залп: то пальнули в честь прибытия делегации Центральной рады все несколько сот делегатов съезда «вольных казаков».
От неожиданности Петлюра едва не выпустил повод и не вывалился из седла – кровь от лица отхлынула куда–то в пятки, и конь с перепугу рванулся прыжком вверх. Но это был уже как раз край плоской вершины горы, и потому этим скачком конь как бы оторвался от земли и птицей взлетел на плац, прямо в середину толпы людей.
Криками «слава» участники съезда приветствовали прибытие высокопоставленных гостей и, в частности, именно этот сногсшибательный, непревзойденный скачок: главный атаман, оказывается, был бравым конником, – кому же, как не ему, и надлежит в таком случае командовать войском?
Пока Петлюра, молодецки спрыгнув с коня, окруженный взбудораженной толпой и «вильными козаками», здоровался с членами президиума съезда и членами генеральной рады, на гетманское подворье прискакали и Петлюрины гайдамаки во главе с Наркисом.
– Вольно! – атаманским голосом скомандовал им Петлюра. – Спешивайтесь!
И сразу же, стремительно, как только и должны действовать боевые атаманы, Петлюра вскочил на скамью, затем на стол президиума и простер руку к толпе, призывая к тишине и давая понять, что сейчас он будет держать речь.
– Славные рыцари Украины, преславное вольное казачество, вооруженные хлеборобы! Низкий поклон вам – до нашей матери украинской земли! – Петлюра отвесил поклон ниже пояса и коснулся перстами протокола, лежавшего перед писарем Кочубеем и который сам Петлюра попирал теперь своими желтыми английскими ботинками под французские гетры. Громкое «слава» снова прокатилось по всему гетманскому урочищу и откликнулось эхом в степи, до самого Черного леса. – Вручаю вам, наши славные вольные казаки, клейнод Центральной рады из моих рук!
Чубатый гайдамак–знаменосец подал ему малиновую хоругвь, на которой золоченым гарусом были вышиты слова: с одной стороны – «За неньку Україну», а с другой – «Вільне українське козацтво».
Петлюра взмахнул хоругвью, как птица крылом, и склонил ее до земли:
– Да осенит эта священная хоругвь ваше рождение!
Под еще более громкие возгласы «слава» и «хай живе» Петлюра трижды махнул малиновым крылом хоругви и трижды склонил ее к земле, затем протянул знамя – отныне священный штандарт всеукраинского «вильного козачества», освященного его собственной рукой, – древком к президиуму. Знамя нужно была кому–то вручить.
Но – кому именно? На мгновение Петлюра задержался, не выпуская хоругви из своих рук. Скоропадскому? Нет: он же его не избирал. Писарю Кочубею? Тоже не годится: пан! Тютюннику? Ни в коем случае.
И Петлюра подал священную хоругвь юродивому Смоктию.
Юродивый зарылся лицом в малиновое полотнище и заголосил, заливаясь слезами.
Сотник Наркис тем временем бросил повод своего коня гайдамку–джуре и пододвинулся поближе к группе молодежи – студентов и гимназистов: его, семинариста, всегда тянуло к интеллигентным кругам. Знакомое лицо Флегонта сразу же бросилось ему в глаза.
– О! – обрадовался Наркис и стукнул Флегонта тяжеленным кулаком по спине так, что тот еле удержался на ногах от этого дружеского приветствия. – И ты здесь, карандаш? Ну, так как же? Живет, вишь, ненька Украина? Как полагаете, господа скубенты? Красота!
Флегонту стало не по себе. И снова в сердце заныло отвратительное чувство: ощущение несоответствия фактов – идеалам. Но взволнованность была сильнее этого чувства, слезы увлажняли его глаза: ведь был он свидетелем исторического акта!
Да и вообще интересно – Петлюру он видел впервые. «Вольные казаки» вопили «слава», «ще не вмерла», «хай живе» и палили из винтовок в небо.
Начальник разведки и контрразведки при генеральным секретаре по военным делам, барон Нольденко, тоже наконец взобрался на своей черной кляче на вершину горы и, проклиная все на свете – он ведь отродясь был пехотинцем, – потирал ладонями натертые ягодицы: трястись тридцать пять километров в седле – это вам, знаете ли, не то что нежиться в постели у цыпочки! Однако же содом и гоморру развели тут в мировом масштабе! Мамочка моя, шансонеточка! Но, в общем, картинно, импозантно, шарман, шик, блеск, фантасмагория!








