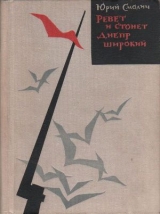
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 62 страниц)
Лия смутилась. Перед нею стоял юноша, стройный, красивый юноша с ясными, большими глазами. Взгляд его был грустный, но спокойный. Его молодое, но исхудавшее лицо обрамляла небольшая, совсем молоденькая бородка. Одет он был в синие штаны, небрежно заправленные в высокие сапоги, и парусиновую рубашку–косоворотку под поясок.
– Простите, – зарделась Лия, – так неожиданно… Я никак не ожидала. И я ворвалась к вам так непрошено, так внезапно… А вы скрываетесь…
– Ничего. Я понял, что сестра уже сказала вам, что я здесь. Мне непонятно только, почему это она решила сказать, ибо по вашему разговору я сужу, что вы никак не закадычные друзья: вы все время спорили и даже кричали друг на друга. – Ростислав снова усмехнулся. – А тема вашего спора и ваши взгляды, взгляды вас обеих, предупреждаю, мне абсолютно… чужды. Я понял, что вы – большевичка. К большевикам я отношусь с таким же бескомпромиссным осуждением, как и к… украинским настроениям моей сестры.
– Ах, Ростик! – вскрикнула Марина. Она была сердита, сердита на самое себя: и за то, что кричала, и за то, что проговорилась, и за то, как вела себя в споре, вообще – за все. Она просто ненавидела себя в эту минуту.
– Постой, Марина! – остановил ее брат. – Лучше, чтобы все было сказано сразу. Чтобы были, так сказать, точно определенные позиции. – И он снова обратился к Лии: – Не знаю, какое решение вы примете относительно моей личности – в смысле сохранения тайны о моем пребывании здесь, и просить вас ни о чем не буду: поступайте, как найдете необходимым. Хотя, насколько я представляю себе, большевики никогда не были доносчиками. Во всяком случае, – поднял он руку, останавливая Лию, которая порывалась что–то сказать, – хочу заранее облегчить ваше положение: сюда, на квартиру отца, я наведываюсь лишь изредка, так как не исключено, что мой родной братец, поручик Александр Драгомирецкий, может выдать меня. А скрываюсь я постоянно… оставь, Маринка! – остановил он Марину, которая хотела его прервать, – постоянно скрываюсь под Ворзелем, на бахче, пребывая там в роли… пугала против воробьев и сторожа от зарящихся на чужую собственность: арбузы и дыни, которыми снабжается ресторан Роотса на Крещатике. Вот и все! А теперь слово за вами, как говорит моя сестра Марина.
Какую–то минуту в столовой доктора Драгомирецкого царила тишина – слышно было лишь, как ритмично тикают большие часы на стене возле буфета.
Лия заговорила:
– Ростислав…
– Гервасиевич…
– Ростислав Гервасиевич! Вы стали… дезертиром, потому что вы – против войны…
– Допустим…
Лия говорила уже спокойно, уверенно – ведь не дискуссию начинала, а должна была высказать совершенно конкретное предложение. Марина отчужденно посматривала то на нее, то на брата.
– А вот пролетариат собирается воевать против войны… с оружием в руках.
Ростислав быстро взглянул на нее и посмотрел себе под ноги:
– Да? Ну и что же?
– Пролетариат уже вооружается. Против войны и против власти, которая хочет и дальше вести войну.
– Ну и что?
– Ибо эта власть ведет к гибели страну, патриотом которой вы являетесь.
– Вы так думаете? – Ростислав снова коротко посмотрел на Лию.
– Я уверена в этом. Мне говорил об этом… ваш напарник Королевич.
– Да? Кстати, он, бедняга, сидит в капонире?
– Да, в военно–дисциплинарной тюрьме. Ждет суда и… приговора. Приговор может быть только один: смерть.
Ростислав промолчал. Он смотрел себе под ноги.
– И он, как и все мы, большевики, согласен принять смерть, только бы установить в стране справедливую власть, которая будет против войны, против эксплуатации человека человеком, против всех тех, которые ведут отчество либо к гибели, либо в ярмо иностранных эксплуататоров.
Веки Ростислава вздрогнули, но он не поднял глаз.
– Многовато громких фраз и… многовато в них иностранных слов.
– Не важно, – сказала Лия. – Но это точные выражения. И вы их понимаете. Так вот: не согласитесь ли вы, офицер, хорошо знающий военную науку, послужить делу освобождения родины и установления в ней справедливого строя?
Ростислав поднял глаза. Во взгляде его было удивление, но и настороженность.
– Как это?
Пролетариат вооружается и тайком, хотя и не совсем тайком, a почти открыто, – я уверена, что ваша сестра может это вам подтвердить, – обучается военному делу, обращению с оружием и… ведению боя.
– Вы имеете в виду Красную гвардию?
– Хотя бы и Красную гвардию. Но не только ее: вооружается весь трудовой народ! Разве вы, как специалист военной науки, не могли бы стать… инструктором военного обучения?
Ростислав смотрел Лии прямо в глаза. И она не отвела взгляда.
– Имейте в виду, что и на бахче под Ворзелем, и тут, в квартире вашего отца и… брата, ваше пребывание небезопасно: облавы на дезертиров проводятся систематически. А мы бы…
– Кто это – мы?
– Большевики. Можем гарантировать совершенно безопасное пристанище.
– Это – в качестве… платы?
– Нет. В качестве обеспечения очень нужного нам дела.
Марина фыркнула.
– Чего ты смеешься, Марина? – спросил Ростислав.
Марина фыркнула снова:
– Трогательное единение большевиков, потрясателей основ, с золотопогонником, который должен стоять на страже этих самых основ.
– И вовсе не смешно! – сказала Лия. – Как вам известно, во главе семидесяти гвардейцев, которые вскоре будут повешены, тоже стоит… офицер. И этот офицер – большевик! Его тоже повесят!
Марина огрызнулась:
– На смерть за свои идеалы идут не только большевики!
– Да, это вовсе не смешно, – сказал и Ростислав. – А впрочем, – добавил он горько, – я уже давно разучился смеяться. Последний раз я смеялся… я смеялся… когда бежал с фронта на своем аэроплане. Но это был смех сквозь слезы. Скорее даже – слезы сквозь смех… – Он снова посмотрел Лии прямо в глаза. – Но я не могу принять ваше предложение.
– Почему? – вскрикнула Лия.
Ростислав не ответил.
– И простите меня, я пойду…
Он поклонился, повернулся и исчез за дверью.
8
Какую–то минуту в комнате было тихо. Марина стояла у стола и теребила бахрому скатерти.
Лия тоже стояла опустив голову, и руки ее тяжело висели вдоль бедер. Где–то в соседнем дворе кукарекали петухи, звякнул трамвай на Московской, с Днепра снова донесся гудок парохода. Но в комнате было тихо, лишь тикали часы на стене. Наконец Марина промолвила понуро, но уже не сердито:
– Вы говорили, что у вас есть еще какое–то дело ко мне?
Лия вздохнула:
– Да, да… Но потом, в другой раз, а впрочем… дела к вам у меня не будет. Простите, что побеспокоила. – Она посмотрела на Марину и добавила еще: – А Флегонту передайте, чтобы он больше не приходил ко мне.
– Нет, почему же, – сказала Марина и встряхнула своей стриженой шевелюрой, – это он должен решить сам.
– Прощайте, – сказала Лия и пошла к двери. – И не сердитесь, что я нечаянно села в кресло вашей покойной мамы.
Она вышла в переднюю, сама нашла выходную дверь и повернула защелку английского замка.
Но Марина вышла следом за нею и догнала ее на пороге. Она придержала Лию за руку и сказал тихо, чтобы не было слышно сквозь другую дверь в комнату, где был Ростислав:
– Товарищ Лия… не считайте, что ответ брата… окончательный. Это просто слишком неожиданно. И он еще не привык к… ну, к общественной, что ли, а не личной оценке всяких таких… вопросов. Я еще сама i поговорю с ним…
Лия живо повернулась к Марине:
– В самом деле, Марина?
– Я… попробую… И вообще все – ваш приход, все, что вы говорили, так неожиданно…
– Марина! – заволновалась Лия, но сразу же сдержала себя. – Хорошо! В другой раз. Вы разрешите еще как–нибудь к вам зайти? Когда?
Марина мгновение помолчала.
– Я передам… через Флегонта.
НА СУД НАРОДА
1
На суд Демьян собирался, как на праздник.
Еще не начинало светать, когда начальник тюрьмы подал в центральную галерею Косого капонира сигнал к подъему. Он получил приказ штаба: заключенных провести по городу еще до восхода солнца, пока на улицах нет людей, дабы не подать повода для антиправительственных демонстраций.
Однако арестанты еще задолго до назначенного часа были уже на ногах. В эту короткую, последнюю ночь мало кого из них одолел сон: ведь день предстоял необычный – суд! И приговор.
Приговор суда мог быть только один: за невыполнение приказа командования на фронте во время боевых действий, за отказ подняться в наступление согласно этому приказу – пеницитарный рескрипт военно–полевого суда предусматривал самую высшую меру наказания.
С победой Февральской революции смертная казнь была упразднена. Но в июльские дни главковерх Корнилов восстановил ее действие на фронте. Теперь Корнилов, свергнутый с поста верховного главнокомандующего, сам сидел в тюрьме, ожидая суда за мятеж против власти Временного правительства. Однако смертную казнь Временное правительство не отменило.
Демьян Нечипорук брился.
В течение этих трех месяцев заключения арестантам еженедельно стригли головы, но бриться им не разрешали: нельзя допустить бритву к горлу того, кого ждет казнь через повешение! И арестанты заросли бородищами. Исключение было сделано только для одного из арестованных, ибо он был офицер, – для прапорщика Дзевалтовского. Раз в неделю ему стригли под машинку и голову и усы с бородой.
Однако еще несколько дней назад арестанты обзавелись собственной бритвой – ее передал по настоятельной просьбе авиатехника Королевича его дружок, арсенальский слесарь Иван Брыль: вместе с прочей передачей – с газетами, хлебом и продуктами – он ухитрился подсунуть и бритву, хитро пристроив ее торчком в бутылке с молоком.
И вот семьдесят семь заключенных, строго соблюдая очередь и следя за тем, чтобы не заметила охрана, начали сбривать бороды. В тесной галерее они становились в кружок, и один из них, скрытый спинами товарищей, тупым лезвием, без мыла и теплой воды, скоблил жесткую щетину со щек и бороды. Ведь предстоял суд, и к суду они готовились, как к празднику.
Таким образом, ежедневно к утренней и вечерней поверке появлялось еще несколько выбритых арестантов, – и администрация тюрьмы так и не сумела обнаружить и отобрать бритву, несмотря на то, что два раза в сутки устраивала повальный обыск.
Демьяну выпало бриться последним, его очередь подошла только сегодня под утро, и действовать ему было легко: в ожидании выхода в город заключенные толпились и расхаживали по галерее, отвлекая внимание охраны, да и сама охрана уже смирилась с нарушением порядка – побрились семьдесят шесть, пускай уж бреется и семьдесят седьмой.
Демьян брился на ощупь, в темноте – в предрассветных сумерках и при тусклом свете подслеповатой электрической лампочки, мигавшей под высокими сводами галереи.
Боже мой! Ведь сейчас вместо этого мрачного каменного свода он увидит купол ясного неба! Вместо гнилой затхлости каземата он вдохнет чистый и привольный воздух сентябрьского утра! Он увидит солнце, облака и зеленую траву! А может быть, какая–нибудь жалостливая рука сердобольной женщины подаст ему напиться студеной воды…
2
Прапорщик Дзевалтовский присел на корточки перед Демьяном – он взялся заменять Демьяну зеркало!
– Тут выше возьми… И тут еще остался кустик… И здесь, и здесь… А, пся крев, таки порезался!
Кровь из пореза потекла по пальцам – и Демьян засмеялся:
– Гляди–ка, прапорщик, видать, во мне еще кровь осталась!
И в самом деле, это было достойно удивления, ибо Демьян был худющий, сухой, как скелет, – кожа обтянула скулы, словно лайковая перчатка пальцы.
– Я думаю, Демьян, мы идем на смерть… – сказал прапорщик Дзевалтовский. – Реакция победила…
– Надо полагать, что на смерть, – согласился Демьян.
– И нам с тобой, да еще Королевичу, надо быть мужественными, – говорил Дзевалтовский. – Ведь я – председатель, а ты – секретарь нашего солдатского комитета. И мы – большевики, Демьян.
– Надо быть мужественными, – снова согласился Демьян.
– Уж если суждено нам умереть, так пускай знают, гады, что умираем мы сознательно, за идею.
– Пускай знают гады, – одобрил Демьян.
– И нужно, чтобы не только мы с тобой, большевики, умерли гордо, плюнув буржуям в глаза, a чтобы гордо умирали все товарищи, потому что они, Демьян, тоже большевики, пускай и не члены нашей партии.
– А как же! – подтвердил Демьян. – Все мы – большевики.
– Народ должен знать, что большевики скорее умрут за дело трудящихся, нежели поступятся своими убеждениями. Тогда другие подхватят знамя борьбы из наших рук и станет нас уже не семьдесят восемь человек, а семьдесят восемь тысяч, семьдесят восемь миллионов, и эти семьдесят восемь миллионов – весь трудовой народ – и пойдут в последний бой против эксплуататоров. Верно я говорю, Демьян! Правда?
– Что правда, то правда, – согласился Демьян.
– И мы с тобой постараемся, чтобы так и было. Старались, пока живы, постараемся, чтобы сама наша смерть стала оружием в борьбе против старого мира, чтобы и после смерти нам сражаться в рядах пролетариата.
– Пролетариата и беднейшего крестьянства, как сказал товарищ Ленин, – добавил от себя Демьян.
– Верно, Демьян! Верно, друг мой единственный, последний, предсмертный мой друг…
Густая щетина на Демьяновых щеках так и звенела под тупым лезвием бритвы.
– Ты скажешь большевистскую речь на суде, – помолчав, заговорил и Демьян, вытирая кровь от нового пореза. – Ведь осужденным дают перед смертным приговором, так я слыхал, последнее предсмертное слово. Это правда?
– Дают. Я скажу. И ты скажешь.
– Я – нет. Какой же из меня оратор, ежели я почти что неграмотный: второй класс приходской школы окончил, и все…
Демьян вздохнул. Вспомнилось, как хотелось ему учиться дальше – окончить, быть может, четвертый, городской класс! Мечтал об этом и до войны, и на войне, и даже здесь в тюрьме. Да вот, такое дело, – не вышло: умирать приходится…
Дзевалтовский покачал головой:
– Все равно скажешь. Должен сказать. Скажешь, что правда за большевиками, что народ пойдет только за власть Советов, что коммунизм победит, что… словом, – долой войну, земля крестьянам, фабрики рабочим…
– Это я скажу.
– Это и будет твое последнее слово.
– Ладно.
На душе у Демьяна было торжественно и… весело: вот он выйдет сейчас из стен тюрьмы, услышит, как на рассвете, встречая восход солнца, щебечут птицы… во всем мире щебечут. И, видать, велик он, этот весь мир, если такой силой отзванивал он в Демьяновом сердце…
– На выход стройся! – донеслась из коридора команда.
3
Семьдесят восемь заключенных вскочили с пола, заговорили, засуетились, торопясь стать в строй, как на поверку, как и надлежит гренадерам–гвардейцам.
На минутку, – нет, на один миг сердце сжалось в комок и холодную льдинку, где–то там, в самой глубине души, таились отчаяние и страх: ужас перед неотвратимостью будущего, предвещавшего только одно – смерть! Да, смерть, скорую и безвременную.
Но Демьян не поддался леденящему чувству страха перед смертью и быстро вскочил на ноги. Бритву он швырнул на каменный пол: теперь она уже была не нужна. Бритва звякнула и разлетелась пополам: она была из добротной, закаленной, золлингеновской стали. Видно, старый Брыль отдал товарищам самую лучшую свою бритву и теперь сам будет ходить по субботам к парикмахеру и платить по двадцать копеек, чтобы побриться на целую неделю.
Лампочка под сводами еще мерцала, но она уже не освещала камеру: сквозь круглые амбразуры вверху уже просачивался бледный предутренний свет. И при этом тусклом освещении семьдесят восемь подобий человеческих существ, выстроенных вдоль стен полукругом в два ряда, выглядели особенно жутко, походя на привидения с того света или толпу нищих. Их одежда, изорванная еще в дни боев на фронте, за эти три месяца лежания на влажном полу пришла в полную негодность: гимнастерки свисали жалкими клочками, на плечах, на месте бывших погон, зияли дырки; штаны у всех были протерты на коленях; у некоторых еще сохранились сапоги, у других – лишь истоптанные опорки, без голенищ, а иные и вовсе щеголяли босиком.
Вчера тюремное начальство доставило в каземат семьдесят восемь комплектов новехонького обмундирования: чтобы арестанты выглядели на суде, как и надлежит, опрятно и не осрамили бы тюрьмы российского революционного режима. Но новенькие гимнастерки, штаны и сапоги так и остались сваленными в кучу, в углу: арестанты отказались по–праздничному наряжаться, и каждый из них взял из комплекта лишь чистую нижнюю сорочку. Что же касается гимнастерок, брюк и сапог, то авиатехник Королевич, по поручению всех заключенных, посоветовал администрации отправить все это добро землячкам на позиции: там, в окопах, справная одежда больше нужна – зима была уже не за горами.
В каземат из коридора вошел сам начальник тюрьмы, за ним еще с полдесятка офицеров; охранники – желтые кирасиры Временного правительства и богдановцы Центральной рады – выстраивались шпалерами от двери и до самого выхода во двор.
– По порядку номеров, – раздалась команда, – рассчитайсь!
– Первый, – негромко начал Дзевалтовский; он был правофланговый в первой шеренге.
– Второй, – бодро, как и полагается в строю, гаркнул Демьян.
– Третий, – откликнулся и Королевич. Он тоже стоял в шеренге: раны у него зажили, он мог держаться на ногах, и, хотя суставы еще ныли, Королевич наотрез отказался, чтобы его везли на тачанке, и даже забросил костыли.
Арестанты один за другим продолжали расчет: десятый, двадцать пятый, сорок первый, cемьдесят седьмой…
Все были здесь, все стояли смирно, и лица у всех – чисто выбритые – даже синели в предутренних сумерках каземата.
– Левое плечо вперед! Арш!
И они тронулись, по двое, тридцать девять пар – меж двух шеренг охраны – солдат, верных Временному правительству, и солдат, верных Центральной раде.
За порогом капонира их встретила предрассветная пора: уже занимался день.
И было все точно так, как и представил себе Демьян: купол ясного неба; чистый, влажноватый воздух сентябрьского утра; зеленая травка на склоне к Собачьей тропе; и – боже мой! Это же правда! – чирикали воробьи, дружно, стайкой гоношились вокруг двора на старых грушах, которые посадили для украшения cвoей тюрьмы еще пехотинцы Фастовского полка Муравьева–Апостола и Пестеля, а поливали саперы Жадановского и матросы с «Потемкина»… Багрец на небосводе все сильнее разгорался и уже ясным сиянием бежал к зениту.
Демьян видел, как по щеке прапорщика Дзевалтовского скатилась слеза. Одна–единственная, и больше не было. И вдруг Дзевалтовский громко запел:
Засияет нам солнце свободы,
Солнце правды и вечной любви…
Несколько голосов подхватили было его звонкий запев – и первым подхватил Демьян, которому и в самом деле хотелось запеть во весь голос, чтобы слышно было на весь мир, – но уже и справа и слева посыпались удары плетей кирасиров и богдановцев по плечам, по спине, по головам – и пение оборвалось.
– «Мы пойдем к нашим страждущим братьям…» – начал было, все еще уклоняясь от нагаек, Дзевалтовский, но ему тотчас же набросили на голову мешок. Тогда и он прервал пение и процедил сквозь плотную ткань: – Снимите мешок… Не буду петь… Хочу видеть свет…
Мешок сняли, и Дзевалтовский понуро зашагал впереди всех.
Так они и пошли – семьдесят восемь арестантов, гвардейцев–гренaдеров, семьдесят восемь героев, которые первыми восстали против войны и за мир, против власти буржуев и за власть Советов, – пошли по Госпитальной улице, по Чеpепановой гоpe, затем на Бассейную, через Бессарабку, по Бибиковскому бульвару на Владимирскую – и к присутственным местам: там, в зале Киевского окружного суда, и должен был состояться процесс солдат–повстанцев гвардии гренадерского полка во главе с их зачинщиком – прапорщиком Дзевалтовским.
Утро еще не наступило, даже заводские гудки не возвестили начала работы, самый сладкий предутренний сон еще держал киевлян в своих ласковых объятиях – и улицы были пустынны на всем своем протяжении. Лишь кое–где дремали, ежась, милиционеры ночной смены; дворники с метлами только–только начали появляться из подворотен, сердито позевывая; откуда–то с Васильковской донеслось бренчанье первого трамвая.
Господи! Как же красив и великолепен город именно в эту раннюю пору! В особенности если ты целых три месяца не видел дневного света.
Арестанты шли не спеша – им некуда было спешить: утреннюю порцию кипятку с черным сухарем выдадут в положенное время, суд тоже состоится тогда, когда ему надлежит, а там уже и безразлично: ведь вряд ли кого из них минует смерть.
Арестанты шли не в ногу, шаркая изодранной обувью, шлепая босыми ногами, зябко кутая плечи в лохмотья, – двигалась толпа жалких оборванцев. Но со стороны процессия выглядела импозантно: арестантов окружило каре тюремной охраны, затем – каре спешенных богдановцев с красными шлыками и, наконец, еще одно каре – конное, кирасиров с желтыми отворотами на мундирах, на горячих конях – на подбор белой масти. На семьдесят восемь немощных, безоружных людей было не менее трехсот солдат со штыками и обнаженными палашами.
4
И все–таки люди на улицах встречались. И были это не случайные прохожие, а группы людей, которые несомненно поджидали именно эту процессию. Это были рабочие в своих рабочих куртках, солдаты разных частей в шинелях внакидку, какие–то сердобольные женщины с платочками у глаз.
Они стояли группами по два, три, а то и по десять–пятнадцать человек чуть ли не на каждом углу; стояли молча, не проронив ни слова. И только в момент, когда колонна арестантов, окруженная тройным каре охраны, приближалась к ним, они снимали фуражки или срывали платки и долго приветственно махали ими, как машут на прощанье поезду, в котором отбывает в дальнюю дорогу кто–либо из родных или близких.
Сразу же у выхода с территории капонира, за воротами, почти у самой тюрьмы, на почтительном расстоянии друг от друга расположились двое мужчин. Стояли они, отвернувшись один от другого. Это были старик Иван Брыль и старик Максим Колиберда, которые добрых двадцать пять лет были задушевными друзьями, кумовьями и сватами, а с недавних пор стали непримиримыми врагами. Они вышли взглянуть, как будут вести на суд их давнего общего дружка, солдата Королевича, и шуряка Демьяна, а заодно и всех остальных, сердешных землячков. И Максим и Иван держали в руках узелки, авось удастся сунуть в руку нехитрый харч: пирожок, испеченный Мартой, два яблока с той самой яблоньки у сарая, которую Меланья самолично выпестовала. Но охранников было так много, что протиснуться к арестантам поближе не было никакой возможности. Убедившись в этом, Иван Антонович и Максим Родионович – каждый порознь – лишь безнадежно махнули рукой. Иван Антонович помахал фуражкой, а Максим Родионович – узелком с пирожками. И Демьян, и Королевич заметили стариков и в знак приветствия тоже подняли руки. Но тотчас же охранники, гайдамаки и кирасиры заслонили их, а за толпой других арестантов–оборванцев их и вовсе не стало видно.
Колонна прошла – лишь пыль тучей поднялась за ними на немощеной Госпитальной улице. Иван Антонович и Максим Родионович – каждый порознь – постояли еще какое–то время, грустно свесив головы, с ненужными узелками в руках, потом подняли головы и посмотрели издали друг на друга. Взгляды их встретились – тут бы и подойти им друг к другу, протянуть руку, а то и хлопнуть по плечу, но они сразу же поспешно отвернулись. А горячий, несдержанный Иван Антонович еще и плюнул со зла: старик Брыль, сторонник пролетарской солидарности, никак не мог простить старику Колиберде того, что он пошел на винниченковский съезд и предал, таким образом, международное единство пролетариата… Они пошли – разными тропинками – вверх, на свою Рыбальскую, так как приближалось время, когда им нужно будет спешить к гудку на работу, в один цех…
На углу Собачьей тропы, у ворот Александровской больницы, собралось около сорока человек, и на двух древках они развернули над головами красный стяг. Белым мелом на нем было на скорую руку начертано:
«Народ с вами, товарищи герои–гренадеры! Долой войну!»
Стяг держали Андрей Иванов и Ипполит Фиалек. Это организация печерских большевиков, почти в полном составе, собралась возле своего партийного клуба, чтобы приветствовать первых героев революционной борьбы и своим приветствием поддержать их перед суровым, неумолимым военно–полевым судом.
Отдельно к больничным воротам прислонился еще один человек – в белом медицинском халате. Он то и дело снимал и снова надевал на нос пенсне, затем другой рукой теребил бородку, а потом оставлял пенсне на носу и обеими руками хватался за голову.
Это был доктор Драгомирецкий. Как раз в эту ночь он дежурил в больнице, и вот – обалдевший от запахов ксероформа и стонов больных – выбежал за ворота посмотреть, что там творится на белом свете, ибo того, что творилось, он никак не одобрял. Он спрашивал: кого, куда и зачем ведут, а хотел услышать: когда же наконец наступит покой, когда же, господи боже мой, восторжествует справедливость, погибнет Ваал и вернется на землю любовь?
Вели дезертиров, солдат, которые не захотели воевать, военнообязанных, которые ушли с боевых позиций, – такого антипатриотического акта старик доктор одобрить никак не мог. Но вели их на суд, чтобы безжалостно покарать, – и сердце старого эскулапа падало в темную, холодную бездну: ведь его собственный сын, офицер русской армии, поручик–авиатор Драгомирецкий, тоже был дезертиром, тоже не захотел воевать, тоже убежал с позиций и теперь тайком, прикинувшись глухонемым сторожем–бахчевником, скрывался где–то за Бучей, под Ворзелем. Ну что, если и его обнаружат и потащат на суд – на суровый, неумолимый, военно–полевой суд?
Возле Бессарабки арестантов приветствовал еще один плакат:
«Буржуазия хочет послать вас на смерть, – так смерть же буржуазии!»
Это был молчаливый плакат – возле него не было слышно говора: его древко было воткнуто в землю меж камней булыжной мостовой. Конный кирасир взмахнул саблей и срубил плакат.
На углу Бибиковского и Владимирской, где арестантам нужно было сворачивать направо, стояла кучка казаков–богдановцев – с такими же красными шлыками на шапках, как и стража во втором каре вокруг арестантов. Эта была сотня, только что сменившаяся с поста возле здания Центральной рады и теперь направлявшаяся на отдых к себе в казармы на Сырец. Гайдамаки стояли понурые и мрачно посматривали, опершись на винтовки.
Уже совсем рассвело, и верхушки тополей вдоль бульвара золотились то тут, то там. Когда печальная и пышная процессия миновал группу казаков на углу, из этой группы раздалось вдогонку:
– Хлопцы! Землячки! Да отпустите же вы их: это же свой брат солдат!..
– Видишь, – сказал Дзевалтовский Демьяну, который шел рядом с ним, – даже гвардия Центральной рады…
Но он не закончил, и гайдамаки из богдановского каре закричали все разом:
– Тихо! Цыц! Молчать!
А офицер–кирасир прискакал на коне и огрел Дзевалтовского нагайкой по спине…
Впрочем, наиболее пышная встреча ожидала у Золотых ворот. Здесь, в доме за Златоворотским сквером, помещался штаб польского легиона, формировавшегося в Киеве для отправки на фонт – во имя обещанной Временным правительством независимости Польши. Несколько десятков польских легионеров – в форме русской армии, но с бело–малиновыми околышами, на странных квадратных фуражках – высыпали на тротуар из помещения штаба. Вели на суд изменников русской армии, и это вызывало сочувствие к ним у бойцов самостийницкого польского легиона. Но ведь эти предатели не захотели идти в наступление, которое должно было отвоевать и независимость Польше, и это вызывало враждебность к изменникам. Однако возглавлял арестантов офицер–поляк, и это вызывало одновременно и симпатию и враждебность.
– До дзябла Дзевалтовского! – послышалось из толпы легионеров. – Еще Польска не згинела!
– Hex згине панство! – не удержался и выкрикнул Дзевалтовский.
Нагайка кирасира снова огрела его по плечам, a охранники снова натянули ему на голову мешок.
Так, с мешком на голове, Дзевалтовский и шагал дальше. Демьян держал его за руку – чтоб не споткнулся о камень, другой рукой Демьян поддерживал Королевича – раненые ноги у него разболелись, и он начал отставать.
Но самая большая неожиданность ожидала арестантов в устье Владимирской, сразу за часовенкой святой Ирины, которая стояла посредине улицы, венчая вход на Софийскую площадь.
От ирининской часовенки до памятника Богдану Хмельницкому, расположившись двумя шпалерами, двумя стенами широкого коридора, в который теперь втягивалась колонна заключенных и их охраны, выстроилось не менее трех сотен бойцов с винтовками у ноги. И были это не солдаты, а просто вооруженные люди совершенно необычной для солдат внешности: они были не в солдатской одежде, а в гражданской – в пиджаках, бушлатах, полупальто, но подпоясанные пулеметными лентами, как ремнями; на головах у них были обыкновенные фуражки или кепки, но тульи фуражек и козырьки кепок опоясывали красные ленточки, на груди у всех цвели пышные красные банты, а левый рукав перетягивала широкая красная повязка.
Таких вооруженных людей Демьяну еще никогда не приходилось видеть.
Это выстроились рабочие отряды Красной гвардии. Они первыми в городе вооружились против корниловского путча, и теперь ни Временное правительство, ни Центральная рада не решались призвать их к разоружению.
И как только голова колонны арестантов втянулась в коридор меж двух вооруженных шеренг, в тишине притаившегося городского утра, нарушаемой лишь цоканьем копыт кирасирских коней и шершавым шарканьем нескольких сот пар ног заключенных и конвоя, – вдруг звонко прозвучала военная команда:
– На кра–ул!
И четко, упруго, быстро – в три счета – несколько сот винтовок сверкнули в воздухе сталью штыков и мгновенно застыли по обе стороны улицы серебристой щетиной.
До вчерашнего дня красногвардейцы знали только два приема – «на руку» и «на прицел»: поскольку они учились колоть штыком и стрелять из винтовок, то есть готовились только к бою, третий прием – на «караул» – был им ни к чему. И вот сегодня ночью, уже здесь, на площади, они старательно упражнялись в третьем приеме – чтобы взять винтовки «на караул» в честь братьев по классу, героев–гвардейцев. Демьян почувствовал, что на глазах у него выступили слезы: вместе с товарищами–арестантами он шел меж двух шеренг, вытянувшихся по команде «смирно», и это ему и его друзьям отдавали высшую воинскую почесть. Каждый из семидесяти восьми гвардейцев шел как генерал, принимающий парад.
И боже мой! Да ведь в шеренге вооруженных рабочих стояли и двоюродный – Данилка Брыль со своим дружком Харитоном Киенко – и они «ели» глазами Демьяна, как это полагается по команде «смирно, на караул!..».
Вот молодцы! Вот холеры! Вот оно, черт возьми, брылевское и нечипоруковское, ей–же–ей, рабоче–крестьянское семя!
Демьян не удержался и самовольно сорвал мешок с головы Дзевалтовского. Пускай и прапорщик увидит, что творится на белом свете!








