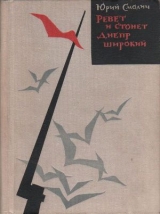
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 62 страниц)
ПО СТРАНЕ
1
Данила стоял правофланговым – в сорабмольской сотне «Третий Интернационал» он был выше всех ростом.
Мишко Ратманский – командир сотни – стоял чуть правее, два шага вперед.
– Смирно! – раздалась команда. – Направо равняйсь!
Тихий лязг оружия и амуниции пробежал по шеренге, сорабмольцы браво вытянулись, прижали винтовки к боку, повернули головы вправо, – ну прямо тебе юнкера!
Теперь Даниле своей колонны слева видно не было. Зато он видел все построение красногвардейцев: Печерский отряд, Демиевский, Железнодорожный, Шулявский, Подольский, Сводный центрального района. Сорабмольская сотня, тоже сводная, из молодых красногвардейцев всего города, стояла в строю последней. И атамана, принимавшего парад, со всей его свитой Данила мог разглядывать долго – пока обойдет и приветствует все отряды, добрых две тысячи человек.
Группа командования двигалась от ворот Софии по булыжнику площади, мимо красногвардейских шеренг, выстроившихся вдоль домов до самого Рыльского переулка. Бронзовый гетман высился как раз против фронта.
Это был первый после октябрьских дней смотр отрядов Красной гвардии – и понятное дело, красногвардейцам хотелось не сплоховать.
Атаман, производивший смотр и принимавший парад, был одет просто, по–военному: солдатская серая шинель без блестящих пуговиц, на крючках, даже без ремня поверх; солдатская защитная фуражка, только с суконным козырьком – «керенка»; из–под шинели видны юфтевые, хорошо начищенные сапоги. Оружия и амуниции – ни шашки, ни пистолета – на атамане не было.
Но многочисленная свита, толпой двигавшаяся за атаманом, выглядела пестро, цветисто и весело. Целый рой командиров, в одеждах пышных и красочных. Были там офицеры в шинелях светло–серого тонкого сукна с жарко надраенными золотыми пуговицами. Были гайдамаки в жупанах на сборках или чекменях с газырями, в смушковых шапках с красными, желтыми, синими верхами; сабли у них гнутые, казацкие и спущены с портупеи низко, так что бренчали ножнами по земле, точно гусарские палаши. Были и сечевики – в голубовато–серых австрийских шинелях или коротких куртках, подбитых мехом, вроде кожушков; на головах у них красовались кургузые мазепинки. Были там и штатские.
Атаман останавливался перед каждым отрядом и говорил:
– Приветствую славное боевое товариство!
– Здрасьте!.. – одним словом отвечал отряд.
– Хай живе революція і мати Україна!
– Ура! – одним духом отвечали красногвардейцы. Атаман отдавал честь и шел дальше. Свита двигалась следом.
Смотр киевской Красной гвардии производил – за отсутствием в это время отбывшего в действующую армию на фронт атамана всего украинского «вильного козацтва» генерала Скоропадского – наказной атаман боевого Звенигородского коша «вильных козаков» Юрко Тютюнник.
Вокруг – на тротуарах, под стенами Софии, вдоль здания присутственных мест – стояла толпа: уличные зеваки, делегации со знаменами, группы заводских – любопытствующие посмотреть на своих хлопцев в красногвардейском строю.
– Бравые ребята, да из прорехи вата! – слышались иронические реплики в толпе. – Не разберешь – биндюжники или казаки… А что? Им бы только одежду одинаковую – прямо были бы юнкера. Заместо тех, что на Дон драпанули… С одежонкой таки швах…
Критические замечания насчет одежды были вполне уместны. Одеты красногвардейцы были кто как – в свое; а какое «свое» у заводских да мастеровых? У кого потрепанная солдатская шинель, у кого ветром подбитое пальтишко, замасленный ватник, бушлат, кожаная куртка, кожушок, а то и просто пиджак – совсем не по сезону.
В кучках заводских раздавались реплики одобрительные:
– Боевые хлопцы! Обстрелянные… И ты погляди, когда только успели вымуштроваться? И в строю – как в бою…
Данила хмурил брови – и на приветливые и на колкие реплики из толпы… Ну что они понимают? Вот он, Данила, теперь понимает. Решительно все. С той минуты, как на холмике в Аносовском парке у пулемета погиб Харитон…
Данила сам видел, что теперь он совсем не тот, каким был еще месяц назад. Словно сто лет с тех пор прожил.
Сто лет тому назад и он, правда, думал так же, как вон те, что фыркают сейчас в толпе. Что такое был тогда, сто лет тому назад, для него солдат, военный? Мундир. Муштра. Оркестр музыки на параде. Что такое была для него тогда война? Георгий на груди. Шапка набекрень. А революция – что? Стрельба на баррикадах. А потом в кандалах по этапу. Тюрьма. Сибирь.
Теперь Данила понимал: не может быть, чтоб Харитон отдал жизнь только за то, чтоб стрелять из пулемета неведомо куда. Революция свершилась для того, чтобы все на свете изменить: сперва перевернуть вверх дном, а потом переделать так, как людям лучше. Своею собственной рукой. Бедные и богатые. Классовая борьба. Земля – крестьянам, фабрики – рабочим.
За это и умер Харитон.
Для этого и надо – первым делом – уничтожить в мире всякую контру.
Атаман Тютюнник поравнялся с тем местом, где стоял Мишко Ратманский, «Третьего Интернационала» командир.
– Здравствуйте, молодые герои восстания!
– Здрасьте!
– Хай живе революція і Україна! Ще нам, хлопці молодії, усміхнеться доля!
– Ура!
Тютюнник подмигнул. Его серые глаза сверкнули льдинкой.
Данила стоял взволнованный. Вон оно как – молодые герои восстания! Да здравствует революция! И Украина. Правильно! Что могло быть дороже революции и Украины? И пускай доля не только усмехнется, а смехом зальется!
Весело чтоб жилось людям на свете – не так, как раньше… Вот только горе – не усмехнется уже рыжий Харитон. Лежит в братской могиле, против царского дворца…
Атаман Тютюнник со всей свитой поднялся на пьедестал гетманова монумента. Сразу же с двух сторон появились двое казаков со знаменами: одно красное, другое желто–голубое – и склонили их над головой атамана. Из–за памятника маршем вышел оркестр и построился сбоку, трубачи с валторнами и геликонами, барабанщики с барабанами на животах; капельмейстер вынул из–за обшлага свою волшебную палочку.
Предстояла церемония.
Даниле стало весело. По каким только случаям не бывал он здесь, на Софийской площади, но чтобы вот так, в строю, да еще, как сказано, герой, – этого в его жизни еще не случалось.
Мишко Ратманский рядом хмыкнул себе под нос:
– А вырядились, как в театре Садовского…
– Вольно! – прозвучала команда.
Тютюнник высоко поднял руку и заговорил:
– Славное украинское революционное козацтво! Славные герои победоносных боев за революцию и свободу, за самостийность Украины!..
Речь атамана была недолгой – какой–нибудь десяток фраз. Он воздавал хвалу киевским пролетариям за героические дела в боях против угнетателей Украины, поздравлял с завоеванием революционной государственности – крестьянско–рабочей и украинской, провозглашал «многая лета» Украинской народной республике и под конец объявил:
– Отныне славную Красную гвардию украинского пролетариата принимаем под высокую руку народного братства «вильных украинских козаков», освящаем боевыми знаменами: красным – революции, желто–голубым – нации и присваиваем наименование «Пролетарского коша вильных козаков»…
– Фью!.. – чуть не задохнулся Мишко Ратманский.
В руках Тютюнника появился бумажный свиток, развернувшийся до самой земли.
– В ознаменование сего оглашаю атамана всего «вильного козацтва» на украинской земле грамоту.
По рядам красногвардейцев прокатился шорох, в толпе вдруг зашумели.
Данила тоже удивился. Ишь ты! Так теперь, выходит, будем «вильными козаками»! А красногвардейцами уже нет? В «вильные козаки» – туда, где Флегонт. Значит, опять будем вместе!..
И тут же он увидел перед собой Флегонта.
Флегонт стоил в толпе на краю тротуара у присутственных мест и, должно быть, давно уже заметил Данилу, потому что яростно махал ему рукой. На лице его сияла радостная улыбка.
Тютюнник между тем начал читать грамоту:
– «Славное и преславное украинское вильное козацтво! Сим оповещаем наше вольное и охочекомонное братство именем нашей верховной сечевой рады атаманов и старшин вильноказацких кошей и куреней всей украинской земли, что с сего дня и месяца лета господня тысяча девятьсот семнадцатого принимаем в боевое свое содружество отдельным кошем славных украинских пролетариев, которые…»
По колоннам красногвардейцев – от головного, Печерского отряда и до последнего, Сорабмольского – катился, усиливаясь и ширясь, гул, и чей–то звонкий голос крикнул:
– А где же наш красногвардейский штаб? Почему от его имени нет грамоты?
С тротуара, из толпы заводских тоже закричали:
– Разве «вильные козаки» подымали восстание?.. А как же с пролетарской революцией будет?
И еще:
– Почему красногвардейский штаб молчит?
Красногвардейский штаб молчал. Потому что его на площади не было. Его как раз вызвали к секретарю военных дел УНР – на совещание; мол, для установления контакта между штабом Красной гвардии и военным командованием. Лишь после того должен был состояться смотр красногвардейским отрядам: парад должны были принимать вместе – военное командование и красногвардейский штаб. Но процедуру умышленно начали раньше – покуда штаб, руководство изолировано от бойцов…
Тютюнник взмахнул свитком грамоты, призывая к тишине, и продолжал читать:
– «…Которые кровью, пролитою за свободу неньки Украины…»
– За пролетарскую революцию кровь проливали! За власть Советов! – закричали тут и там – и в рядах красногвардейцев, и в толпе заводских. – Долой грамоту криводушной Центральной рады!..
Кто–то заложил пальцы в рот и свистнул.
Перед глазами Данилы встала картина: пригорок в Аносовском парке, Цепным мостом через Днепр, с винтовками на руку бегут… «вильные козаки»… «Вильные козаки», быть может, вот этого же самого Звенигородского коша… Харитон стреляет, а он подает ленту в магазин. Харитон падает мертвый, а он припадает вместо него к пулемету…
– Фьюить! – раздался совсем рядом с ним свист. Свистел, заложив пальцы в рот, Мишко Ратманский. Мишко, с которым плечом к плечу бежали в цепи против юнкеров.
– Долой! – звучало уже со всех сторон. – Не хотим в «вильные козаки»! Да здравствует Красная гвардия! Долой приспешников контрреволюции! Да здравствует власть Советов на Украине!
Бледное как полотно лицо Флегонта стояло прямо перед глазами Данилы.
Данила переложил винтовку из правой руки на согнутый локоть левой, чтоб было удобнее, и тоже сунул пальцы в рот.
Из устья Владимирской, от Ирининской часовни, вылетело на конях с полсотни гайдамаков с черными шлыками – из личной охраны Петлюры. То ли сам Петлюра спешил на парад, то ли гайдамаки сейчас обнажат шашки и ринутся в сечу?
Данила набрал полные легкие воздуха и свистнул что было сил. А свистел он громче всех на Печерске.
– Фьюить!.. Фьюить!.. Фьюить!.. – неслось уже со всех сторон.
– Долой! – ревели две тысячи красногвардейских глоток.
Кое–кто с пылу хватался и за винтовку. Но тут же и оставлял. Ведь на смотр генеральный секретарь приказал выйти как на парад: с пустыми патронташами, с незаряженными винтовками.
2
Попытка Центральной рады объявить пролетарские отряды красногвардейцев сотнями и куренями «вильных козаков» дала, оказывается, совсем противоположный эффект.
Штаб киевской Красной гвардии выпустил воззвание:
«Товарищи рабочие всех заводов, фабрик и мастерских! Открывайте запись в Красную гвардию!.. Да здравствует народовластие!»
И вот снова прокатилась по Киеву волна митингов. Это были многолюдные и бурные митинги, и решение на митингах принималось только одно, совсем короткое!
– Оружия!
Вооруженное восстание окончилось, но сейчас оружие оказалось чуть ли не более необходимым, чем во время самого восстания.
Впрочем, дело обстояло совсем не просто.
«Ридный курень», еще летом созданный Центральной радой из рабочих, почти в полном составе принимал участие в восстании против Временного правительства, но теперь по призыву Центральной рады объявил себя рабочей сотней «вильных козаков».
Иван Брыль и Максим Колиберда, разумеется, тоже пришли на арсенальский митинг.
Сперва они смирно стояли в сторонке: Красная ли гвардия или «вильные козаки» – все равно проливать кровь, а они были только за полный мир на земле. Да и неловко было как–то смотреть людям в глаза, особенно тем, с кем в цехе рядом стояли у станков. Иван Антонович отводил взгляд от тех, кто принимал участие в восстании. Максим Родионович отворачивался от тех, которые теперь шли в «вильные козаки»: были ведь когда–то вместе в «Ридном курене».
Только когда новоявленные «вильные козаки» – набралось их и среди арсенальцев с полсотни – построились и с винтовками на плече промаршировали с заводского двора, старый Брыль не выдержал и крикнул им вдогонку:
– Раскольники пролетарского единства!
Митинг вслед новоиспеченным «вильным козакам» свистел и кричал «долой».
С этим вопросом, следовательно, покончено – и Максиму с Иваном сразу стало легче. Впрочем, им и вообще было сейчас легче: ведь они снова вдвоем, вместе, снова неразлучные друзья и побратимы.
Вторым вопросом на митинге стоял созыв съезда.
Иванов – бледный, почти прозрачный, едва держась на ногах после приступа болезни, – докладывал: терпеть над собой власть Центральной рады, поскольку она состоит преимущественно из буржуазных деятелей и представителей соглашательских партий, а большевиков, которые вели за собой народ в октябрьском восстании, в ней и вовсе нет, – невозможно! Пускай высший орган власти на Украине и называется Центральной радой, как–то он должен же называться, но признает ее народ лишь в том случае, если она будет рабоче–крестьянской. Партия большевиков, Совет фабрично–заводских комитетов и Центральное бюро профессиональных союзов сказали уже свое слово. Теперь обращаемся к вам, товарищи пролетарии, – пускай каждый спросит у своего сердца и классового сознания: быть или не быть на Украине съезду Советов для избрания верховного органа власти – хотя бы и вопреки проискам нынешней Центральной рады?
Иван Антонович толкнул под локоть Максима Родионовича:
– Как полагаете, кум–сваток?
– А какая будет ваша думка, сват–куманек?
Теперь, после примирения, Иван Антонович и Максим Родионович были предельно внимательны и предупредительны друг к другу: ныне, прежде чем что–нибудь решить, они непременно спрашивали друг у друга совета.
– Да нет же! – настаивал Иван Антонович. – Уж скажите, прошу вас, кум, вы!
Во имя возрожденной дружбы Иван Антонович готов был поступиться даже своим непререкаемым меж них прежде авторитетом.
Максим Родионович затоптался на месте, словно намереваясь куда–то бежать: принимать решения, да и высказывать свои мысли первым было для Максима Родионовича делом вовсе не простым. Но кумова толерантность ему льстила.
– Что ж, – задергал он то одним, то другим плечом, – дело вроде честное: мир – большой человек! А съезд – оно же вроде самый большой мир. Да и мирное это дело – съезд… Хотя, с другой стороны, если взглянуть, так сказать, научно на исторический процесс, то Всероссийский съезд видели, кум–сваток, какой кутерьмой закончился – с пролитием крови.
Иван Антонович почесал затылок. Кум был прав. Ну, пускай в Петрограде большого кровопролития и не было, но вот, скажем, в Москве, в Киеве или в Виннице таки покропили мостовые пролетарской кровью.
Иван Антонович и Максим Родионович переглянулись: вспомнилось каждому из них, как муторно им стало, когда все пошли с оружием, чтоб принять участие в восстании, а они двое рыдали друг у друга на груди – одинокие, всеми покинутые…
Но частное совещание между старыми друзьями затянулось, а митинг уже гремел выкриками:
– Требуем съезда!.. Переизбрать Центральную раду!..
Иван Антонович с Максимом Родионовичем тоже закричали:
– Да здравствует социал–демократия! Созвать съезд Советов и пролетарского единства!
И митинг продолжал бурлить. Ораторы один за другим выходили на трибуну и припоминали Центральной раде все ее грехи: предала пролетарское восстание, вместо Советов на местах признает старые земские органы, пропускает на Дон, к контрреволюционному генералу Каледину, вооруженных юнкеров и офицеров.
В резолюции митинга арсенальцы записали следующее:
«Мы, арсенальцы, пролили кровь во имя власти Советов и клянемся теперь всеми силами поддерживать и отстаивать советскую власть. Да здравствует пролетарско–крестьянская революция! Да здравствует социализм!»
3
Но митинги бурлили не только на заводах и фабриках Киева – бурлили они и в частях Киевского гарнизона. Ибо генеральный секретарь военных дел Симон Петлюра издал уже и приказ № 6.
Согласно этому приказу, все неармейские вооруженные группировки, кроме «вильных козаков», должны были передать оружие украинизированным армейским частям, а себя с этого момента считать распущенными. Вторым пунктом приказа объявлялось увольнение из армии солдат русских по национальности.
Корреспонденты газет сразу бросились за интервью: демобилизация? Во время войны? Неслыханно!
Петлюра заложил руку за борт френча и сделал три заявления.
Корреспондентам центральных, российских газет:
– Этим актом свидетельствуем наши дружеские чувства соседнему великоросскому народу. Пускай измученные войной великороссы расходятся по родным домам, где их ждут не дождутся матери, жены и дети. Тяжесть борьбы за нашу неньку берем целиком на свои, украинские плечи.
Агентствам заграничной прессы:
– За украинское дело будем проливать свою собственную, украинскую, кровь. В чужой крови не нуждаемся. На Украинском фронте будут воевать только украинцы…
Сотрудникам украинских газет Петлюра заявил:
– Украина для украинцев. Этим сказано все. Вы свободны.
Немедленно раздался телефонный звонок из расположения франко–бельгийского гарнизона в Дарнице. На проводе был полковник Бонжур.
– Мон женераль! – услышал Петлюра испуганный возглас. – Как понимать, что в такой напряженный момент вы отпускаете из–под ружья половину ваших солдат?
Петлюра ответил:
– Мосье полковник, для того, чтобы вторая половина стала более боеспособной. Чтобы русские – а они все сплошь большевики – не деморализовали нашy украинскую армию.
Полковник Бонжур подумал минуту и сказал:
– Склоняюсь! Это – ва–банк, но понимаю: здесь не каприз игрока, а дальновидность стратега…
– Очень приятно! – промолвил Петлюра. И ему в самом деле стало приятно. – Адьё! Собственно, я хотел сказать: до счастливой встречи, мосье полковник…
И вот волной покатились митинги по всем воинским частям.
Конечно, были и такие, что радовались: ведь четвертый год на позициях, и вдруг – домой!..
Но остальные держались другого мнения:
– Петлюра хочет поссорить между собой солдат украинских и русских!
В Третьем авиапарке митинг был особенно бурным. Объявление приказа обставили здесь тоже особенно пышно: его прочитал специальный представитель Центральной рады.
После оглашения приказа на лафет орудия, из которого в октябрьские дни стреляли по цепям донцов и юнкеров, взобрался авиатехник Федор Королевич.
Федор Королевич сказал:
– Мы выслушали приказ господина Петлюры. Мы выслушали и представителя Центральной рады, который разглагольствовал тут о том, будто бы в нашем авиационном парке идет свара между солдатами украинцами и великороссами. Но вот уже четвертый год мы, солдаты авиации, воюем плечом к плечу, и кто разберет – где здесь украинец, а где русский. Все до одного участвовали мы, авиапарковцы, в восстании против контрреволюционного Временного правительства и все вкупе, вместе с киевскими пролетариями, боролись за победу власти Советов. А до того триста лет вместе ходили в царском ярме.
Королевич обратился к тысячной солдатской толпе, сгрудившейся на площадке вокруг орудия:
– Что мне ему еще сказать, товарищи?
– Долой! – в один голос ответила тысяча голосов.
– Уходи! – сказал Королевич.
Общее собрание солдат Третьего авиапарка постановило:
«B нашем Третьем авиапарке нет никакого раскола между украинцами и великороссами. В революции и свободе равно заинтересованы и украинцы и великороссы. Наш парк сплочен в одну большую семью без национальных разногласий. И украинец, которому дороги интересы рабочего класса, не позволит считать великороссов только гостями в своей стране и вообще, а особенно сейчас, в пору осуществления завоеваний революции.»
Авиапарковцы–русские отказались демобилизоваться.
Авиапарковцы–украинцы дружно крикнули: «Ура русским!»
4
Петлюра в это время беседовал с поручиком Александром Драгомирецким.
Петлюра сидел за столом, Драгомирецкий стоял перед ним навытяжку, перепуганный: зачем его позвали?
Когда Алексаше передали приказ явиться к генеральному секретарю лично, первой его мыслью было – бежать! Вне всякого сомнения, Петлюре стало известно его украинофобство – еще в те времена, когда был он офицером для поручений при командующем военным округом, – и сейчас ему будет каюк. Но это предположение Алексаша сразу и отбросил. Если б дело обстояло так, Петлюра не стал бы сам, лично, с ним канителиться: просто вызвали б в контрразведку, а уж там – либо шомпола, либо Косый капонир, а не то и пуля «при попытке к бегству».
А ведь все складывалось так хорошо! Алексаша подал рапорт, как это делали все офицеры: так и так, желаю выехать на Дон. Через два–три дня надо было прийти за пропуском и – адьё–люлю, гудбай, ауфвидерзеен!.. Но когда он еще раз пришел в комендатуру, адъютант коменданта сказал:
– Вам приказано явиться лично к генеральному секретарю. Машина связи отбывает через полчаса. Садитесь и ждите.
Хоть бы и хотел сбежать, так теперь – дудки!
И вот Алексаша стоит в кабинете командующего на Банковой. Боже мой! Сколько раз он заходил сюда, вытягивался «смирно» у порога и рапортовал; «Поручик Драгомирецкий по вашему приказанию прибыл! Разрешите доложить: демонстрация разогнана, бастующие усмирены. Двести человек отправлено в Лукьяновскую тюрьму…» – и вытягивался, гордый выполненным патриотическим поручением и в сладкой надежде на награду… И вот он опять у того же порога, и опять вытянувшись как струна – да только сердце у него стынет и ноги подгибаются, точно ватные. И перед ним не генерал Обручев, Оболешев или Квецинский – он их всех здесь пережил, а генеральный секретарь Симон Петлюра, самый главный хохлацкий главковерх.
Лицо Петлюры темными впадинами щек напоминает лицо аскета, под скулами перекатываются шарики желваков, глаза воспалены от бессонницы и пылают сухим фанатическим огнем.
– Садитесь, – сказал Петлюра. – Я хорошо запомнил вашу фамилию после нашей с вами первой встречи.
С минуту Петлюра внимательно разглядывал офицера.
– Скажите мне, господин поручик, откровенно: почему вы решили ехать к атаману Каледину на Дон?
Алексаша молчал и хлопал глазами. С перепугу у него отнялся язык.
Петлюра поощрительно улыбнулся:
– Не бойтесь, господин по… сотник, – Петлюра подчеркнул новое звание офицера в армии Центральной рады, – наш с вами разговор будет дружеским, и позвал я вас только потому, что исполнен к вам доверия.
Алексаша, ошарашенный, молчал. С чего бы это главному украинскому националисту питать к нему, махровому украинофобу… дружеские чувства?
Петлюра подождал минутку, потом решил прийти очумевшему офицеру на помощь:
– Видите, поручик, скажу наперед: я вполне понимаю… гм… как бы это сказать – ваши чувства доблестного офицера, верного присяге и своему офицерскому долгу… Словом, и имею в виду те лозунги, под которыми собирает вокруг себя офицерство атаман русской армии Каледин.
Алексаша смотрел на Петлюру. Заговорить он не мог и не осмеливался.
– Мне только хотелось бы знать, остаются ли в вашей душе неизменными и ваши… гм… чувства к нашей с вами неньке Украине? Имею в виду ту ночь, когда надо было решать – либо так, либо так: против Украины или с Украиной, – и вы смело взяли оружие и стали на защиту интересов украинской государственности.
Алексаша заморгал: речь ведь шла о ночи, когда восставшие уже потурили штаб, и надо было решить только одно – бежать с побежденными или остаться с победителями; погибнуть или – для видимости – прикинуться, что и ты с этими самыми… пускай презираемыми, однако же… не большевиками.
– Я человек широких взглядов, – продолжал Петлюра, опять не дождавшись ответа. – Понимаю, что в наше сложное время ломки старых, привычных, форм жизни и становления новых, еще не изведанных, возможно такое смешение чувств, покуда сознание в них еще не разобралось. Офицер, воспитанный в духе общероссийского патриотизма, видит угрозу родине со стороны иноземного врага, считает своим священным долгом и так далее. Но в душе его пускай на самом донышке… живет уснувшее, возможно, только чуть шевелится чувство горячей любви к своему истинному отечеству, пускай еще и не осознанное до конца. А, пан сотник Драгомирецкий?
Алексаша наконец разомкнул губы:
– Шевелится…
– Что вы сказали?
– Шевелится чувство, пан головной атаман!
Алексаша произнес это уже в полный голос: в конце концов, здесь он ничем не рисковал. Петлюра одобрительно кивнул:
– Я так и думаю, пан сотник, что шевелится. Вы курите?
Алексаша с радостью схватил папиросу, зажег и жадно затянулся.
Петлюра тоже закурил и пустил клуб дыма. Склонившись над столом, он заговорил уже совсем доверительно:
– Когда в списке офицеров, желающих получить разрешение уехать на Дон, я прочитал вашу фамилию, я сразу вспомнил ваш рапорт в ту славную ночь: «Пан головной атаман, хай живе ненька Украина!..» И, признаюсь, в первую минуту был поражен. Но в следующую… мне пришли на ум эти соображения о возможности двойственных чувств в наше сложное переходное время… И тогда я приказал, – при слове «приказал» голос Петлюры зазвенел металлом, – приказал дать мне ваш формуляр и вообще… представить сведения… о вас и вашей жизни…
У Алексаши опять захолонуло сердце.
– Контрразведка представила мне сегодня ваше личное дело.
Алексаша бледнел. У него захватило дыхание. Ему хотелось плакать.
– Вы были на позициях, имеете орден, в тылу исправно несли службу при вашем начальнике. Пользовались даже особым доверием – контрразведка имеет сведения, что в самые напряженные дни вас командировали со специальным поручением в ставку…
Теперь Алексаша был твердо уверен, что в живых его уже нет. Голос Петлюры доносился к нему словно из потустороннего мира:
– Персональные данные о вас: из порядочной семьи интеллигента украинского происхождения, сестра – молодая, но уже хорошо известная деятельница на поприще распространения украинской национальной культуры через органы «Просвиты» – это делает и ей и вам честь. Что же до…
Упоминание о сестре и ее преданности национальному делу солнечным лучом сверкнуло в сознании уже помертвевшего Алексаши, и он нашел в себе силы ухватиться за этот лучик, как за соломинку:
– Пан атаман, уверяю вас, что мой брат…
Но перебивать речь начальника – это нарушение воинской субординации, и Петлюра повысил голос:
– Брат! Что ж, это, конечно, горе – потерять родного брата, но, – Петлюра развел руками, – что ж поделаешь: жестокий закон войны!.. Раз ваш брат погиб, выполняя приказ высшего командования, пускай и генерала Корнилова, память о нем всегда будет жить в сердцах его родных и… вообще в сердцах…
Алексаша вмиг словно заново на свет родился: петлюровской контрразведке не известно, что Ростислав дезертировал, что принимал участие в восстании, а сейчас якшается с Красной гвардией!
Алексаша глубоко затянулся дымом и выпустил его колечками: лафа! А он, дурило, собирался драпать из комендатуры, когда услышал, что его зовут к самому Петлюре!..
– Вы едете к Каледину, – сказал Петлюра, и это утверждение отрадно было услышать Алексаше, – и я решил поручить вам… небольшое дельце, которое я не могу доверить… гм… телеграфной ленте и другим способам официальной связи.
Алексаша насторожился: матерь божья, он будет доверенным лицом.
– Понимаете, господин Драгомирецкий, – говорил Петлюра, уже совершенно интимно, не прибегая даже к рангам и титулам, – мы не признаем за Советом Народных Комиссаров прав центрального правительства и стоим – это тоже ни для кого не секрет – за создание центрального правительства Российской федерации из представителей правительств всех национальных республик, появившихся на территории бывшей Российской империи. Но атаман Каледин должен знать, что для достижения этой цели мы готовы на… крайние, чрезвычайные, я бы сказал, формы совместных с донским правительством действий! Вы поняли меня, господин Драгомирецкий?
Алексаша не решился сказать «нет», но и сказать «да» он тоже не отважился.
– Я говорю – крайние и чрезвычайные формы! – подчеркнул Петлюра. – Договоры, переговоры и всякую дипломатическую болтовню я отбрасываю. Как командующий вооруженными силами, я вижу только одну целесообразную – крайнюю форму борьбы… Вы меня понимаете?
Алексаша не решался сказать ни «да», ни «нет».
– Вооруженную! Военные действия, господин Драгомирецкий!
– Понимаю.
– Я хочу, чтоб вы так и передали атаману Каледину! В официальных выступлениях я не могу об этом говорить. Вы меня понимаете?.. Вы должны указать атаману, что мы уже фактически начали эти действия: мы отпустили с Украины все полки донских казаков – двенадцать полков! Мы свободно пропустили на Дон и киевские военные училища – шесть тысяч штыков! Мы разрешаем беспрепятственно уезжать с Украины к атаману Каледину всем господам русским офицерам… Это – доказательство нашего желания действовать сообща с атаманом Калединым. И это фактически начало военных действий против Совета Народных Комиссаров, потому что одновременно мы задерживаем красногвардейские отряды, направляемые против войск донского правительства из России, из Харькова и Донецкого бассейна… Все это вы должны особо подчеркнуть в разговоре с атаманом Калединым!
– Понимаю! – Алексаша заморгал. – Но не понимаю, как…
– Чего вы не понимаете?
– Как я попаду к самому атаману? Меня могут к нему не допустить.
Петлюра взглянул на офицера с усмешкой:
– Господин поручик, нашей контрразведке отлично известно, что к генералу Корнилову со специальным поручением вы ездили не от… штаба Киевского округа, а от… группы членов союза офицеров Юго–Западного фронта, которая присвоила себе название… гм… «Организация тридцати трех»…
Алексаша снова – в который уже раз – начал бледнеть: этот проклятый барон Нольде знал все ж таки слишком много.
– Вас принимал адъютант Корнилова герцог Лихтенбергский?
– Д… да.
– А посылал… штабс–капитан Боголепов–Южин?
– Д… д… да.
– Герцог Лихтенбергский вместе с генералом Корниловым на Дону. Штабс–капитан Боголепов–Южин тоже на Дону. Вместе с бывшим помощником Керенского, эсером–террористом Борисом Савинковым, они находятся при атамане Каледине и формируют офицерские части из… не донцов. Вам все понятно, господин поручик?
– Все!
Алексаша вскочил, вытянулся, щелкнул каблуками:
– Разрешите выполнять?
– Садитесь, поручик, еще два слова.





