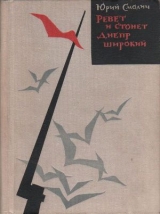
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 62 страниц)
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ОКТЯБРЯ
1
Свое обещание посетить больного доктор Драгомирецкий выполнил точно: сразу после ночного дежурства он был уже снова на Виноградном, 6.
Встретила его растерянная и встревоженная Мария Иванова.
Мария сообщила: весь вечер больной добросовестно выполнил все медицинские назначении – лежал в постели, принимал по столовой ложке кальция–хлорати, пил холодное молоко со льда. Но между приемом лекарства и приемом пищи к больному забегали товарищи – проведать или по неотложным делам, и где–то в четвертом часу, под утро, положив в карман пузырек с остатком кальция, больной с постели поднялся, надел бекешу и ушел.
– Куда? – перепуганно воскликнул Гервасий Аникеевич.
– В Тритий авиапарк.
– Зачем?
– Поднимать восстание.
– У него же может подняться температура!
Доктор Драгомирецкий схватился за голову. Нет, эти большевики были совершенно невозможными людьми! Мало того, что ломали все привычные нормы жизни и поднимали бунт против существующего строя – они еще и не выполняли абсолютно категорических медицинских предписаний! А людей, которые не выполняли предписаний врача, доктор не уважал, презирал – таких людей он просто ненавидел.
– Это безобразие! – задохнулся Гервасий Аникеевич.
И это было и в самом деле безобразие: ведь кровь могла хлынуть вновь, мог начаться скоротечный процесс в легких, больной мог сгореть в огне лихорадки за несколько часов!
Проклиная свою злосчастную профессию и свой врачебный долг, заявив, что ноги его больше не будет у постели такого наглого пациента, доктор Драгомирецкий пулей выскочил вон.
Впрочем, не добежав до калитки, доктор возвратился.
– Где этот идиотский авиапарк? – задыхаясь от злости, выпалил Гервасий Аникеевич, забыв, что авиапарк был почти рядом с его домом и его собственный сын, поручик–пилот, служил там два года. – Где там можно начти вашего благоверного?
– Спросите, где большевистский комитет…
Доктор Драгомирецкий побежал не к калитке на улицу, а напрямик черев садик, к тропинке на Кловский спуск: ведь на данном этапе проистекания болезни и для больного и для врача дорога была каждая минута. Пробираясь через цепкие чащи шиповника, спотыкаясь о стебли сухой полыни, скользя по мокрой и липкой глине, Гервасий Аникеевич кубарем скатился в яр и начал карабкаться по противоположному склону снова, вверх, на Рыбальскую. Обращая свою речь к моросящему дождику, к мрачным серым тучам, доктор Драгомирецкий сердито ворчал, что он не позволит обращаться с ним, как с мальчишкой, что большевики варвары и дикари, и долг всякого больного – следить за собой и беречь самое драгоценное, что ему дано, – жизнь, какие вы ни происходили в мире события.
2
А события, предшествовавшие исчезновению пациента, были такие.
Первым – только опустился ранний осенний вечер – к больному Андрею Иванову прибежал Иван Федорович Смирнов.
Смирнов был в пальто, но без шапки и с одной калошей на правой ноге: вторая калоша осталась где–то в размокшей глине немощеной Собачьей тропы, шапку сбил нагайкой какой–то казак, когда Иван Федорович перебегал через Крещатик, пробиваясь с Думской площади на Печерск. Сведения, принесенные Смирновым, были совершенно неутешительными. Час назад на типографию большевистской газеты «Голос социал–демократа», где печатались листовки ревкома, нагрянула орава юнкеров, печатный набор рассыпали, станки поломали, а отпечатанные уже материалы выбросили на улицу и сожгли на костре. Что касается самого ревкома, то исчерпывающей информации о нем Иван Федорович не имел. Он знал только, что юнкера и казаки напали на царский дворец и разгромили помещение Совета.
– Что будем делать, Андрей Васильевич? – спрашивал Иван Федорович. – Без организующего центра все наши усилия напрасны: нас уничтожит по частям, а потом в общем и целом. Бежим в университет, в райком городского района: ты председатель совета фабзавкомов, бери дело в свои руки!.. Ах, да, ты же болен и не можешь встать…
– Вот что, Иван Федорович, – слабым голосом сказал Иванов, с трудом садясь в постели, – раз с организующим центром положение темное, то давай будем действовать каждый на свою ответственность. Я беру на себя Печерск. Ты профсоюзный руководитель, вот и бери на себя профсоюзы. Каким способом могут профсоюзы парализовать действия аппарата Временного правительства в городе?
– Забастовкой! – сразу же вскочил Смирнов. – Только забастовка! Если остановятся все заводы, если прекратят работу учреждения…
– Верно, Ваня! Только забастовка! – голос Иванова окреп, он подвинулся выше на подушке. – Как организовать забастовку, тебя, профессора по забастовкам, учить не приходится. – Иванов попытался пошутить, но усмешка у него получилась кривая. – Дело, конечно, трудное: районы разобщены, между союзами тоже не наладишь связи. Но все равно, что бы там ни было, – Иванов стукнул кулаком по матрацу, – должен забастовать весь город! Понимаешь? Чтобы люди пришли на работу, но вместо того, чтобы становиться к станкам, взяли в руки оружие. Всеобщая и вооруженная забастовка! Такого в твоей практике, пожалуй, еще не бывало? – Иванов снова улыбнулся, и на этот раз улыбка вышла у него вызывающая. – Беги! Делай! Впереди у тебя целая ночь! Прежде всего разыщи нашего председателя союза металлистов Горбачева. Металлисты должны забастовать первыми! Горбачева разыщи прежде всего!..
Смирнов был уже у порога.
– А это что за девчушка? – Иванов кивнул на девушку, которая пришла вместе со Смирновым и теперь жалась у порога, кутаясь в дырявый платок.
– Это Шура, из Союза рабочей молодежи. По Александровской улице на Печерск невозможно было проскочить, так она взялась провести меня через овраг у Собачьей тропы.
– Хорошо. Пускай остается здесь. Для тебя, Шура, тоже найдется дело, Беги, Ваня! Не теряй ни минуты…
Смирнов выбежал за дверь, и между Ивановым и девушкой в рваном платке произошел такой диалог:
– Итак, Шура, ты из большевистской молодежи?
– Из Союза «Третий Интернационал».
– А сама чья?
– Ситниченкова. С Соломенки.
– Родители есть?
Лицо Шуры омрачилось.
– Есть. Только это все равно что нет…
– Как это?
– Ушла я из дома…
Шура плотнее куталась в свой дырявый платок.
– Почему ушла?
– Брат у меня… против нас: сказал, что будет бить, ежели я буду с большевиками водиться…
Шура посмотрела на Иванова сердито и с вызовом: щупленькая, хрупкая, она выглядела лет на четырнадцать и, словно бы презирая свой слишком молодой возраст и оговаривая свои права на самостоятельность в жизни, она торопливо добавила, сурово сводя брови:
– Мне уже семнадцатый! Сама умею разбираться, что и к чему.
– Н–да, – сказал Иванов, и лицо его снова озарилось улыбкой. – Это ты, Шура Ситниченко, права. Так вот, давай и будем действовать по–большевистски. Получай от меня поручение: пойдешь в разведку.
– Хорошо! – Сердитые морщинки на лбу девушки разошлись. – Что разведать?
Иванов тихо засмеялся:
– Только чур: таким гневным взглядом ни на кого не смотри! И не кичись, что тебе уже семнадцатый. Наоборот: прикинься еще меньшей. Пускай все думают, что тебе и пятнадцати еще нет! Помнишь, как у Тараса Шевченко сказано: «Тогда мне лет тринадцать было, за выгоном я пас ягнят. И то ли солнце так светило, а может просто был я рад невесть чему…» Понимаешь?
– Понимаю… – зарделась Шура.
– Ну вот. Маленькая девчонка всюду прошмыгнет, где взрослому не пробиться. Ежели что – плачь: домой, дескать, возвращаюсь, пустите, дяденька, мни как раз на ту сторону, через патрулей, нужно… Поняла?
Шура снова нахмурилась.
– Давно поняла! – Она сказала это нетерпеливо, даже притопнула, ногой. – Говорите уж: куда и зачем нужно идти?
Тогда Иванов подозвал ее поближе и усадил на кровать подле себя:
– Пойдешь в царский дворец. Сквозь все заставы и заслоны. Узнаешь, что с ревкомом: живы или нет. А если увидишь кого–нибудь из ревкомовцев, скажешь: Иванов спрашивает – что делать? Когда восстание? Кому руководить? Поняла? И сразу же – назад. За час–два чтобы обернулась туда и обратно, – закончил он сурово, уже без улыбки.
Шура сразу же встала и закуталась в свой изорванный платок.
– Через час буду здесь. Можете мне верить.
– А я и верю, Шурок! Ибо вижу, что ты в революцию веришь. – Иванов говорил с девушкой, как со взрослой, но под конец снова не удержался от улыбки: – Гляди же, дивчина, теперь революция в Киеве от тебя зависит.
Когда хрупкая девушка скрылась за дверью, Иванов некоторое время еле поглядывал на темный, еле приметный в густых сумерках квадрат дверного косяка, словно старался увидеть сквозь дверь как девчонка с острыми плечиками и длинными и худыми, как у подростка, ногами вприпрыжку перебегает дворик, прыгает через заборчик, ныряет в чащу шиповника и сухой полыни на круче, исчезает в ночной темноте, а потом карабкается, садня голые коленки, через высокую каменную ограду губернаторского дома, чтобы поскорее проскочить на Александровскую и к царскому дворцу.
Дверь скрипнула – Мария внесла холодное молоко со льда. Видение девочки на каменной ограде, утыканной поверху битым стеклом, исчезло.
– Мария! – попросил Иванов. – Подай мне, пожалуйста, вон ту книжку в синей обложке с золотом: справочник скорой помощи.
Мария побледнела, Всплеснула руками;
– Тебе хуже? Ты хочешь вызывать скорую помощь?
Иванов виновато оправдался:
– Прости, и тебя напугал? Нет мне лучше. Но там, в справочнике, есть план нашего Киева.
Оправившись от испуга, Мария подала ему книгу.
Иванов развернул огромный лист схематического плана города. Расстелив лист на коленях, он минутку рассматривал карту, щуря глаза, чтобы прочесть мелкие надписи на улицах города. Потом взял карандаш и начал чертить.
Против царского дворца он вычертил дугу – со стороны Александровской улицы. Эта дуга своими концами упиралась в крутой обрыв над Днепром. Такую дугу практически можно считать кольцом: Совет и ревком были зажаты со всех сторон… Вторую дугу Иванов вычертил против «Арсенала» – со стороны Московской: казаки и «ударники» заходили с этой стороны. Немного подумав, он нарисовал и третью дугу – против «Арсенала» же, от Косого капонира, там стояли два военных училища: юнкера. Поколебавшись, Иванов вычертил еще одну дугу против «Арсенала» – от Бутышева переулка: пятая школа прапорщиков. Эти три дуги своими концами почти сходились, оставались лишь узкие щелочки против арсенальской «задней линии» – с Собачьей тропы, вдоль ипподрома, до авиапарка, да еще с Никольской на казармы понтонеров.
Иванов задумался надолго, грыз кончик карандаша, посматривал в потолок: проходы или… ловушка? Ведь по Александровской, Московской и Кловскому спуску казаки, «ударники» и юнкера могли соединиться. Наконец неясными точками – через Александровскую, Московскую и Кловский спуск – Иванов поставил пунктир. Потом тремя решительными движениями начертил три широкие стрелы: поперек Александровской, поперек Московской и в стык Кловского спуска и Собачьей тропы. В эти три пункта надо было направить удары, удары боевых групп прорыва: рассечь силы противника и открыть «Арсеналу» сообщение с авиапарком, а затем открыть путь для фронтального наступления – Мариинским парком справа и через губернаторскую усадьбу на дворец.
Итак… война дворцам?
Тогда, точно так же сразу и решительно, одним движением, Иванов вычертил жирный круг, пересекающий Левашевскую, Банковую, Софийский сквер, Лютеранскую и снова Левашевскую: штаб! От Виноградной, почти от своего дома, от Кругло–Университетской, Николаевской и Институтской Иванов нацелил на это кольцо четыре быстрые, короткие стрелки: так должны бы ударить на штаб красногвардейские отряды.
За мир – хижинам!
Боже мой! Все это нужно было проделать еще вчера! Пока штаб не стянул своих сил. Только наступление, а никакая там «активная оборона» по стратегии председателя Совета и председателя ревкома Юрия Пятакова!.. А теперь вот уже поздно…
Нет, не поздно! Поздно было бы на фронте, в позиционной войне – так действуют непреложные законы полевой тактики и военной стратегии, а делать революцию никогда не поздно!
Резким движением Иванов поставил точку в центре круга на штабе, и острие карандаша, пробило жесткую бумагу карты насквозь.
Именно в эту минуту дверь резко открылась и в комнату ввалился Затонский.
Владимир Петрович тяжело дышал, запыхавшись, и вид у него был странный. На голове «мономашка» – поповская бобровая шапка с изостренным бархатным верхом, на плечах купеческая шуба с таким же бобровым воротником, на ногах глубокие, профессорские калоши. В такой одежде разгуливали по Крещатику в лютые январские морозы премьеры оперного театра. Вчера был осенний холодный, промозглый, однако бобры и шуба были никак не по сезону. По лицу Владимира Петровича катился обильный пот, стеклышки очков густо запотели. Затонский сорвал очки, близоруко прищурился на керосиновую лампу и закричал:
– Катастрофа, а ты валяешься! Тоже мне – нашел врем отлеживаться!
Он снова напялил очки – они быстро отпотевали в нетопленной комнате – и грозно взглянул своим тигриным взглядом. Но взгляд его сразу наткнулся на капли засохшей крови на рубашке Иванова.
– Боже! – вскрикнул Затонский. – Кровь! Ты ранен? Где? Когда? Куда? Пуля извлечена или навылет?
– Ерунда, – отмахнулся Иванов, – небольшое кровотечение из легких. Ты же знаешь, что такое тбц?.. А чего что ты так нарядился?.. Словно сам Балабуха или тенор Собинов?
Но Затонский вопроса не услышал. Он швырнул проклятую шапку Мономаха в угол, ногой придвинул табурет, плюхнулся на него и сразу ухватил пальцами запястье Иванова. Другой рукой извлек часы из жилетного карманчика, щелкнул крышкой и начал отсчитывать пульс:
– Пятнадцать… двадцать пить…. сорок…
Иванов выдернул руку:
– Да брось ты! Какой из тебя врач? Ты же химик! И вообще – прошло уже. Зажило. Я здоров. Сейчас встаю.
Он решительным движением сел, поджав колени. Карта Киева с тихим шелестом спланировала на пол. Затонский посмотрел на нее. Дуги вокруг дворца, вокруг «Арсенала» сразу же привлекли его внимание:
– А! Тебе уже доложили! И даже вычертили дислокацию их сил! Интересно! – Затонский поднял карту. Кольцо вокруг штаба поразило его. – А это что? Кто окружает? Слушай, это не соответствует действительности! Я прямо оттуда! Из штаба. Пять минут назад. Они выставили круговую оборону, но наших против них… нет! Это фантазия!
Иванов пододвинул карту к себе и начал ее сворачивать.
– Фантазия! – подтвердил он. – Моя! Фантазировал, лежа в постели. Обольстительные мечтании, так сказать. Но ты говоришь – из штаба? Как ты туда попал? Что там? Да говори же скорее!
И Затонский, теребя бороду, свирепо поглядывая вокруг, рассказал. Он и в самом деле только что был в штабе, оплоте контрреволюционных войск, а бобровая шапка, купеческая шуба и «профессорские» калоши – это был только камуфляж для проникновения в лагерь врага: Затонский ходил в разведку.
3
Дело было так.
Когда ревком начал заседать, Затонский выл в большевистском комитете. Когда движение частей штаба к дворцу усилилось, а телефон вдруг перестал действовать и стали невозможным узнавать, что происходит по ту сторону линии осады, дежурный по комитету Лаврентий принес эту шапку, шубу и калоши и сказал Затонскому:
– Владимир! Очки у тебя профессорские, борода купеческая, да и по паспорту ты приват–доцент Киевского политехникума, надворный советник. Эту шапку, шубу и калоши я одолжил, так сказать, на часок у попа – он с перепугу спрятался сюда на случай боя: тоже мне, божий сын, нашел куда прятаться! Но ты в этом облачении будешь выглядеть настоящим недорезанным буржуем, Иди, присмотрись. В такой шубе тебя не могут не пропустить: скажешь, что проживаешь на Печерске. Словом, пока Пятаков будет излагать ревкому свои бредовые теории активной и пассивной обороны, мы сможем получить реальные сведении о положении вещей.
И Затонский пошел. Заслоны и заставы, в самом деле, пропустили его, даже не спросив документов: шапка Мономаха и поповская шуба действовали убедительнее всяких удостоверений. Александровская улица была забита войсками: казаки, «ударники», юнкера, георгиевские кавалеры. От царского дворца до Крещатика стояло самое малое тысяч пять войска. А Липки… В Липках вокруг штаба войск, должно быть, никак не меньше. Затонский свернул на Левашевскую. Тут были возведены баррикады из афишных тумб, фонарных столбов и всякой рухляди. Ого–го! Научились уже и баррикадироваться! Овладевают наукой уличных боев революционеров против царизма… В просветах баррикады выглядывали дула и щитки пулеметов, за баррикадой, до самого угла Лютеранской, видны были большие группы военных: только на улице добрая тысяча штыков. А сколько их еще притаилось во дворах? Затонский пошел прямо на баррикаду. Минуя Институтскую, он посмотрел направо. Вниз, до самого Крещатика, выстроились кони, а при них чубатые казаки. А перед поворотом на Банковую снова баррикады, и за ней жерла орудий. Самое малое – около двух тысяч сабель и… артиллерия.
За баррикаду его пропустили свободно, однако только он прошел, его сразу же схватил десяток рук:
– Ваши документы, папаша?
Шуба и борода и здесь произвели впечатление, но паспорт попросили предъявить. Затонский постарался развернуть паспорт не на первой странице – фамилия Затонского, депутата Сонета, члена большевистского комитета, слишком часто фигурировала в газетах, и юнкерам она могла быть известной. Он развернул паспорт сразу на четвертой странице; там значились: приват–доцент, преподаватель Киевского политехникума, надворный советник.
– Профессор! Господин профессор, вы выбрали совершенно неподходящее время для прогулок по городу. Откуда идете, и куда направляете ваши стопы?
Затонский отвечал солидно:
– Я проживаю на Печерске и направляюсь на лекции в Политехникум.
Это было сказано совершенно неосмотрительно. Толпа юнкеров, вчерашних гимназистов и студентов, разразилась хохотом. Хохот был веселый, и остроты посыпались тоже задиристые: не так уж часто случается посмеяться над вершителями судеб в студенческих матрикулах и гимназических недельных сведениях:
– Единицу за внимание и прилежание!.. На три часа без обеда!.. Господа, он не от мира сего – вероятно, преподает богословие! Просто старый пентюх: посмотрите только, какие ни нем калоши!.. Ну, что вы, все великие ученые умы рассеяны, это же известно, – поглядите, их превосходительство напялили шубу, полагай, что сейчас сорок градусов мороза!
Юнкер тихого нрава сочувственно покачал головой:
– Господин профессор! Разве вам неизвестно, что в Политехникуме уже пять дней, как нет лекций? Ведь помещение Политехникума захватили большевики и там расположился штаб шулявской Красной гвардии под командой нашего же студента Довнар–Запольского? Вам придется возвратиться домой…
– Как так – домой?! – завопил другой, угрюмого нрава. – Абсолютно ясно, что это шпион! Пробирается в Политехникум за помощью для ревкома! К стенке его!
К счастью, прочие юнкера не поддержали предложения своего горячего товарища: шапка Мономаха, шуба и калоши вызывали у них почтение. Решено было отправить задержанного в штаб – пускай там разбираются сами.
Под конвоем двух юнкеров – тихого нрава и нрава угрюмого – Затонский вынужден был идти в штаб. Они тронулись напрямик через проходные дворы, и Затонский мог убедиться: по дворам выло сосредоточено еще около двух тысяч юнкеров, казаков и «ударников». Восемь–десять тысяч отборного, вымуштрованного войска осаждали дворец с ревкомом с трех сторон. С четвертой кольцо осады замыкал обрыв над Днепром.
Как же пробиться ему потом назад, во дворец чтобы известить об этом товарищей?
В штабе царил полнейший беспорядок – всюду толпились офицеры, приходили и уходили вестовые, кого–то куда–то вызывали и кого–то куда–то посылали, – и караульный начальник передал арестованного своему помощнику, а помощник карнача представил его не непосредственно коменданту, a его адъютанту. Когда через полчаса Затонский наконец оказался лицом к лицу с дежурным по оперативной части полковником, то причина его появления здесь, в кабинете занятого подготовкой боевых действий на улицах города старшего офицера, уже никому не была известна.
Полковник осушил влажную лысину белоснежным платочком и поднял усталый взгляд на непонятного посетителя в роскошной шубе с бобровой шапкой в руках.
– Прошу садиться, милостивый государь. По какому делу? Только прошу кратко, – полковник сделал жест извиняясь, – должны понимать: свободного времени для длинного разговора у меня, к величайшему сожалению, нет.
Затонский решил довести до конца навязанную ему роль чудака–профессора.
– Господин полковник, – сказал он, – у меня к вам просьба цивилизованного человека к человеку цивилизованному. По всем признакам в городе вот–вот должен начаться бой. Сам я никогда не был в бою, но представляю себе, что, когда начнут стрелять из всех мортир и митральез, – нарочно ляпнул эти «мортиры и митральезы» (которых и на вооружении русской армии четверть века уже не было), чтобы подчеркнуть свою абсолютную оторванность от жизни, – то бомбы и пушечные ядра, – снова «бомбы» и «пушечные ядра», – могут доже разрушать дома. В ноем особняке собрана драгоценнейшая коллекция манускриптов и инкунабул. Их гибель была бы катастрофой для цивилизованного мира! Я пришел просить вас, чтобы ваши солдаты, когда будут стрелять из митральез и мортир, стреляли бы мимо моего особняка. За сохранность исторических ценностей буду благодарен не только я, вам будет благодарна вся мировая научная общественность.
Полковник смотрел, хлопая глазами. Перед ним был чудак не от мира сего. Неплохой сюжетик для анекдота – в минуту досуга, после боя, когда уже будет покончено со всей этой большевистской сволочью. Усмешка тронула утомленные уста полковника, но он поторопился сдержать ее. Полковник поднялся со своего кресла и даже щелкнул шпорами:
– О, господин профессор, могу вас заверит!.. Можете спокойно отправляться домой: ваши манускрипты и инкунабулы будут сохранены для потомства. Я сейчас же дам соответствующие распоряжение: мы будем стрелять именно так, чтобы наши снаряд и… гм, гм… облетали вашу резиденции, и вы бы чувствовали себя как у Христа за пазухой. Честь имею!
Затонский поклонился.
– Именно такой ответ я и рассчитывал услышать от доблестного офицера нашей непобедимой армии!
4
Итак, картина была ясна. Добрый десяток тысяч войск, еще и с артиллерией. Это только на Печерске. А на Подоле, на Шулявке? А на Сырце войска Центральной рады, позиция которых до сих пор окончательно не определена: они как будто бы против Временного правительства, но поддержат ли они восстание за власть Советов?
Иванов с Затонским молчали. Тихо было в комнате – лишь потресковал фитилек коптилки; сквозняк колебал хилый язычок пламени, и две огромные тени шевелились на стене; человек, лежащий на спине, закинув голову назад и гладя вверх, и человек, который сидя склонялся на руку в тяжелом раздумье. Тихо было и за стенами комнаты, на дворе: Виноградный переулок был в трех–четырех кварталах от царского дворца, но это были наиболее глухие кварталы города, и бурные события сегодняшнего дня сюда еще не докатились.
Как же спасти ревком и всех товарищей во дворце?
Они молчали, ибо не знали, как ответить из этот вопрос.
Но ответ вдруг пришел. Его принесла Шура.
Дверь открылась, и девушка и платке метнулась через порог:
– Ревком арестован! Под конвоем его только что повели в штаб на Банковую. Все солдаты и красногвардейцы, находившиеся во дворце, разоружены, матросы подались на Подол…
Иванов сел в постели. Затонский поднялся и стал застегивать свою долгополую шубу. Шура стояла на пороге, теребя кончик платка, глаза ее испуганно перебегали с Иванова на Затонского, с Затонского на Иванова.
– Что будем делать, Андрей? – спросил Затонский.
Иванов опустил ноги с кровати на пол.
– Думаю, Владимир, что нужно поднимать восстание.
– Все–таки?
– Все–таки. Когда ты был еще в комитете, от Бош из Винницы вестей не было?
– Не было.
– Нужно найти способ связаться с Винницей: когда можно ждать гвардейцев и… ждать ли их вообще?
Иванов положил руку себе на лоб – после потери крови, после неподвижного лежания в постели у него кружилась голова.
– Но ведь ревком арестован! – вскрикнул Затонский. – Ревкома нет, нет организующего центра!
– Ревкома нет, нет организующего центра, – повторил Иванов, – значит, организующим центром, ревкомом будем мы.
– Кто – мы?
– Ну я, ты, товарищи из «Арсенала»… Сними мы сейчас свяжемся.
Иванов поднялся на ноги, но качнулся и упал бы, если бы не подскочила Шура и на подхватила его под локоть, Затонский поддержал его с другой стороны. Иванов с благодарностью кивнул Шуре и бледно улыбнулся:
– Спасибо, дивчина. Сейчас пройдет. Просто долго лежал…
– Ho ведь ты болен, тебе нельзя никуда идти! – закричал Затонский.
– Просто долго лежал сейчас пройдет, – повторил Иванов громче и тверже. – Шура, кликни, будь добра, мою Марию: она мне поможет.
Шура неуверенно топталась на месте, поглядывая на Иванова. Взгляд ее умолял: больному нужно лечь в постель, больному никуда идти нельзя.
– Позови Марию! – уже приказал Иванов. – Нужно торопиться!
Шура кинулась за порог – Затонский поправлял очки на носу, теребил бороду, потом начал расстегивать шубу.
– Я не могу позволить тебе, – заговорил наконец Затонский.
Но Иванов огрызнулся:
– Хватит! Подай мне, пожалуйста, сапоги, они в том углу: не хочу ходить босиком по холодному полу. – Потом добавил, пока Затонский подносил сапоги: – Итак, будем действовать следующим образам: сейчас идем в «Арсенал».
– В «Арсенал» не пробиться! – откликнулась с порога Шура, она уже возвращалась, Мария спешила за ней. – Вдоль «задней линии» юнкера!
– Андрей, что ты! – умоляюще прижала руки к груди Мария. – Ты же болен, тебе нельзя…
Иванов натягивал сапоги и говорил:
– Тогда в авиапарк. По тропинке на Рыбальскую можно проскочить?
– На Рыбальскую, думаю, можно… – прошептала Шура.
– Не волнуйся, Мария, – Иванов положил руку жене на плечо, – все будет хорошо. Понимаешь – нужно! Ревком арестован, необходимо немедленно… – Он не закончил и снова обратился к Затонскому: – В авиапарке создадим новый ревком. Поищем способ связаться с Винницей, с Бош. Тем временем связываемся с Шулявкой – с Довнар–Запольским и Горбачевым, с Подолом – Ливером и Сивцовым. На железную дорогу уже помчался Боженко… Мария! – снова обратился он к жене, которая помогала ему обуваться. – Всех товарищей, которые будут приходить сюда, направляй в авиапарк.
Он уже был в сапогах и приподнялся на носки, затем качнулся на каблуки, чтобы размять портянки на ноге. Мария подавала ему гимнастерку.
Шура все еще смотрела на Иванова большими, перепуганными глазами.
– Андрей Васильевич, – прошептала она, – я по дороге позвала нескольких наших хлопцев из «Третьего Интернационала», которые тут поблизости живут, может, нужно будет что–нибудь разведать или еще чего?..
Иванов порывисто обернулся к ней, но зашатался – от резкого движения голова у него снова закружилась, и Мария поспешила подхватить его. Иванов схватил Шуру за руку и привлек ближе к себе:
– Дивчина, милая, какая же ты умница! – Он не удержался и поцеловал ее в лоб. – Это же как раз то, что нам нужно! Где твои хлопцы?
– Они будут ждать меня на Собачьей тропе. Возле ворот больницы – там безопаснее всего: ежели что, можно сказать – отец или мать в больнице, хочу передать записочку.
Иванов восторженно смотрел на девушку в изорванном платке.
– Умница! Ты и будешь у нас сейчас начальником разведки. Сразу же беги к хлопкам. Приказ комитета… нет – приказ ревкома: пробраться на Подол, на Шулявку, на Демиевку, в штабы красногвардейцев. Пускай мигом налаживают связь с авиапарком! Поняла?
– Поняла.
– Авиапарк – центр восстания! Поняла?
– Поняла.
– И сама – сразу же в авиапарк: получишь новое задание. Мигом!
Шура бросилась к порогу, но еще вернулась, подбежала к Иванову, на минутку приникла к его груди, затем взмахнула платочком и исчезла за порогом.
Иванов весело посмотрел на насупившегося Затонского:
– Выше голову, Владимир? Победа будет за нами! Разве можем мы не победить, когда о победе хлопочут такие вот девчатки? Пошли.
Он крепко обнял Марию, застегнул бекешу, сунул флакон с кальцием–хлорати в карман, надвинул кепку залихватски набекрень и сразу же двинулся к двери. Затонский побрел за ним в своей длиннополой шубе, полами он заметал мусор с пола.
Влажная ночь окутала их тьмой, как только они ступили за порог. Но Иванов уверенным, твердым шагом свернул вдоль стоны дома направо.
– Сюда, Володя! Пойдем по тропинке, а затем a Рыбальскую.
Они вынырнули из–за стенки, из тени дома, и сразу – с голого холма – перед ними возникла панорама ночного города. На миг Иванов остановился на краю обрыва, в кустах шиповника, и посмотрел вокруг.
Город внизу был такой, как вчера, как позавчера, как всегда ночью. Прямо, на вершине Черепановой горы, по Госпитальной улице, мигали огоньки в оконцах домишек. Внизу, под горой в овраге, ярче светились сигнальные фонарики в сторожевых будках, возвышавшихся в четырех углах лагеря военнопленных. Справа тянулась цепочка фонарей – Бассейная улица – до Бессарабки. Далее, за Бессарабкой, вставало тусклое зарево от огней в центральной части города. Город был такой, как и всегда ночью – кал позавчера, как вчера. Он ничем не проявлял своей жизни, никак не выдавал тайн, скрывавшихся в каждом квартале, в каждом доме, не поднимал завесы над неизвестностью, которая ожидала его завтра.
Иванов посмотрел налево. «Заднюю линию» «Арсенала» поглотила темнота, но в корпусах цехов почти все окна были ярко освещены.
– Наши не спят, – тихо промолвил Иванов. – Наши в цехах. Ночная смена? Или…
Он прислушался, словно хотел услышать: шелестят ли трансмиссии, стучат ли молотки, грохочет ли огромный молот в кузнечном? Но и в ясную погоду звуки из цехов не доносились сюда череда обрыв и холмы, а сейчас, сквозь осеннюю изморось, и подавно ничего не было слышно.
Иванов глубоко вздохнул, и набрал слишком много воздуха в больные легкие и закашлялся.
Откашлявшись, он украдкой посмотрел на платок: нет ли крови? Но вокруг была черная тьма, и он ничего не мог разглядеть.
– Пошли! – молвил, он тихо, сдерживал новый позыв к кашлю.
Он шагнул с пригорка, вниз по крутой тропинке, едва видневшейся под ногами, и сразу тьма поглотила его.
Затонский полез вслед за ним, спотыкаясь и недовольно ворча, – тяжелая шуба клонила его к земле, а полы цеплялись за шиповник и сухую полынь.
5
Это был первый бой, в котором пришлось принимать участие Евгении Бош. И вообще это был едва ли не первый бой не на фронте, а в тылу, на своей земле, между частями армии, которая еще вчера была единым целым. Гвардейцы залегли цепью, наспех зарываясь в землю, а неизвестный противник наступал тоже цепью, с перебежками, залеганием и пулеметной поддержкой с флангов.





