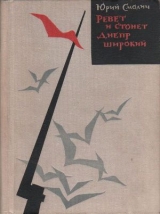
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 62 страниц)
– Пристрелить этого москаля! Нет, канчуками!..
Затонский подумал, что, пока придет начальник, угрозы, чего доброго, будут приведены в исполнение, так что надо, елико возможно, протянуть время.
Он поправил очки и приготовился произнести речь. Или хотя бы завязать дискуссию. Для начала он сказал:
– Вы ошибетесь, панове–товарищи! Я не великоросс, или, как вы презрительно и отнюдь не доброжелательно говорите – москаль, а такой же украинец, как вы…
– Брешет! – крикнул кто–то, хотя украинская речь парламентера уже произвела впечатление: кое–кто примолк.
– И, как видите, я, украинец, являюсь парламентером от революционного комитета. Так что вы, хлопцы, имеете дело с восстанием именно украинского народа. Не без того, что в восстании этом принимают участие люди и другие национальностей, ибо классовая борьба интернациональна, она – против помещиков и буржуазии.
– Да что с ним говорить! Заткнуть ему глотку! Большевистскую агитацию тут разводит!..
В это время среди стрельцов, толпой окруживших Затонского, пробежал шелест, они подтягивались по форме, щелкали каблуками:
– Пан чотарь!
В свете фонаря «летучая мышь», который держал стрелец, Затонский увидел начальника, приближавшегося к их группе. Это был статный худощавый молодой человек – с чудной, точно нарочно приклеенной к юному лицу русой бородкой.
Вокруг Затонского сразу образовалась пустота, и начальник шагнул ближе. Он приложил руку к козырьку – два пальца, как в австрийской армии, и вежливо отрекомендовался:
– Комендант охраны, начальник штаба куреня украинских «сечевых стрельцов» чотарь Андрей Мельник. С кем имею честь?
Затонский ответил.
– У пана–товарища есть легитимация [6]6
Легитимация – удостоверение (западноукр.).
[Закрыть]?
– Никакой. – Затонский улыбнулся. – Бой! Какие тут могут быть легитимации?
– Это верно! – вежливо согласился чотарь Мельник и тоже улыбнулся.
– И прошу вас, – настойчиво сказал Затонский, – не мешкать: во время боевых действий важна каждая минута…
– Это верно, – еще раз согласился Мельник и вдруг добавил: – Вы говорите хорошим украинским языком!
– Говорю языком моего народа, как умею, – ответил Затонский. – На этом языке матери учили говорить своих детей – тех самых, что сейчас подняли оружие против эксплуататоров и грабителей…
Мельник какое–то мгновение внимательно разглядывал собеседника, стрелец, стоявший рядом, светил ему фонарем «летучая мышь». Потом Мельник сказал:
– Это хорошо, очень хорошо, что украинцы проявляют себя среди большевиков.
У Затонского забилось сердце: кто он – друг? Если yкраинец радуется, что есть большевики–украинцы…
Мельник между тем продолжал:
– Чем больше украинцев признает себя большевиками, тем легче будет… изъять их и уничтожить большевизм на Украине! Пан–товарищ знает легенду о троянском коне?
О нет! Перед ним был лютый враг. Злобный и коварный.
– Прошу! Проходите! Идите вперед, я пойду сзади!..
В первую минуту Затонский хотел отказаться и не идти: пусть приказывает стрельцам расстрелять на месте… Но сразу же овладел собой: ведь он же шел отнюдь не к друзьям, а… в стан врагов! Разве от врага услышишь что–нибудь хорошее? Горе тебе, если в словах врага тебе почудится благо! И он решительно двинулся вперед. Грушевскому в Центральной раде он сказал:
– Я пришел с ультиматумом: или вы с нами, или против нас. В нашем ультиматуме три пункта, но действовать начинаем сразу, если вы не примите первого. Пункт первый такой: немедленно освободить арестованный ревком…
– Но помилуйте, Владимир Петрович, – воздел руки и взмолился Грушевский. Он никогда не запоминал имени–отчества, а тут вмиг припомнил. – Да ведь ревком арестован штабом, a не Центральной радой!
– Вот и звоните в штаб и требуйте немедленного освобождения арестованных. Только после этого я изложу остальные два пункта. Имейте в виду, тяжелой артиллерии в Дарнице отдан приказ: если через полчаса ревком не будет освобожден, артиллерия начинает обстрел – и штаба и Центральной рады…
– Да вы с ума сошли! – завопил Грушевский. – Владимир Петрович, дорогуша!..
В это время над куполом здания Педагогического музея что–то просвистело, и вдруг совсем близко, где–то в парке Терещенко, грохнул разрыв. Стекла в окнах кабинета Грушевского зазвенели, закачалась темная люстра на потолке, в открытую форточку ворвалась волна воздуха и, казалось, даже вонь динамита: разрыв был совсем близко.
Грушевский вскочил с места и побледнел:
– Что это?.. Это… это… Неужто уже нас обстреливают?
Нет. То не был обстрел. То был какой–то шальной снаряд. Во–первых, полчаса еще не истекли, только начинались. Во–вторых, приказа тяжелой артиллерии – обстреливать раду и штаб – вовсе не было. Затонский пригрозил так… на всякий случай.
Но, взглянув на ошалевшего профессора, он вынул из кармана часы, внимательно посмотрел на них и сказал:
– Гм!.. Очевидно, мои часы отстают по сравнению с часами… начальника артиллерии…
Грушевский закричал:
– Панна София! Панна София! Свяжите меня немедленно со штабом!
8
Когда Иванов переступил порог подвального помещения – оно освещалось велосипедным ацетиленовым фонарем, подвязанным бечевкой к шнуру мертвой электрической лампочки под сводами, – его встретили удивленные и радостные возгласы: «Иванов!.. Андрей!.. И вас: захватили?..» – и сразу со всех сторон потянулись руки товарищей: Картвелишвили, Гамарник, Леонид Пятаков…
Лаврентий кричал:
– Ну, теперь ревком в полном составе, и мы можем всем кворумом пересмотреть наши предыдущие решения…
Со всех сторон посыпались вопросы:
– Что в городе? Как восстание? Почему сейчас не слышно стрельбы? Разве бой прекратился? А как в Петрограде? В Москве?.. А на фронте? Говори скорее: как там фронт?..
Иванов поворачивался туда и сюда – каждый спрашивающий тянул его к себе, – он улыбался и наконец замахал руками:
– Тише, тише, товарищи! Все расскажу! Только коротко! Я не арестованный, а парламентер, в нашем распоряжении всего десять минут…
Но его снова и снова засыпали вопросами: товарищи третьи сутки были отрезаны от внешнего мира толстыми стенами здания штаба и непробивной стеной стражи из разъяренных офицеров и юнкеров.
Наконец Иванову с помощью комиссара Кириенко, который стоял рядом с видом начальника тюрьмы, приведшего к заключенным родственника на короткое свидание, – удалось утихомирить товарищей, в нескольких словах сообщил о положении в городе: восстание продолжается, бой лишь притих, что–то вроде краткого перемирия, дальнейшие события покажут, каков будет финал. Сейчас еще рано об этом говорить. Хотя…
Он указал глазами на своего спутника: не при нем же!
Комиссар Кириенко перехватил движение Иванова и сердито сказал:
– Да–да! Прошу к делу и – поскорее! Генерал разрешил только десять минут для… обмена мнениями.
Тут–то и вырвался вперед Юрий Пятаков.
Сердито сверкнув глазами, он почти прошипел в лицо Иванову:
– Вот вам пожалуйста! Теперь убедились? Три дня и три ночи льется кровь – и сейчас еще рано говорить о результатах! Теперь вы наконец убедились, что это была авантюра?
Иванов почувствовал, как по телу его пробежала дрожь. Неужто и в самом деле предал?..
Но Иванов сдержался. Холодно, однако весь клокоча гневом, он ответил:
– Если б не твоя… бабья позиция, если б мы сразу приняли решение о восстании, мы бы успели подготовиться и все бы уже давно закончилось… нашей победой… В частости, Второй гвардейский с Евгенией Бош был бы уже здесь!..
Не были бы и вы арестованы!
Но комиссар Кириенко затопал ногами:
– Никаких разговоров о дислокации войск! Если речь коснется военных тайн, свидание будет прервано немедленно!..
Иванов овладел собой:
– И в самом деле – к делу. Я пришел в штаб с ультиматумом, товарищи. Наши требования: штабу – прекратить боевые действия и сложить оружие, всем военным и гражданским учреждениям Временного правительства – признать власть Советов! Но предварительно – первое условие – освободить вас, незаконно арестованный революционный комитет, избранный по всем законам демократии – Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Среди ревкомовцев пробежал гомон. Раздались радостные возгласы. Только Лаврентий страстно и возмущенно крикнул:
– Нелепость! Это – первое условие?! Раз вы действуете, раз восстание идет – не имеет значения, в рядах ли мы восставших или здесь, в каземате! С нами пусть поступают как хотят! Это не должно быть помехой для самых решительных действий!..
«Вот уже и ответ» – с облегчением вздохнул Иванов.
И у него сразу стало спокойно и легко на душе. Ну конечно же – товарищи просто не придают значения своей личной свободе, не хотят принимать ее от штаба ценой каких бы то ни было уступок, а штаб подло толкует это как нежелание выйти на волю.
– Это хороший ответ, друг Лаврентий! Ты говорил за всех? – Иванов пробежал взглядом по лицам окружающих. – Но все равно это требование будет стоять первым, самым первым среди всех наших требований. Потому что это – требование революционной законности!
– Правильно! – послышались голоса. – Наша судьба и наша жизнь не имеют значения, но раз условие поставлено – не идти ни на какие уступки! Добиваться полного удовлетворения всех требований!
– Я думаю, – крикнул Гамарник, – что наша судьба тоже имеет значение: если мы выйдем на волю, мы сможем принять участие в восстании. А ведь мы – руководство!
Его иронически прервал Картвелишвили:
– Как видишь, нашлось руководство и без нас! Мы – всего лишь десяток бойцов, и если…
Но тут вмешался Юрий Пятаков:
– Товарищ Лаврентий прав: мы – только десять бойцов, а сейчас… – он саркастически улыбнулся, – десять заключенных. Что мы можем? И пускай восстанием руководит тот, кто его поднял…
– Я совсем не то имел в виду, – сердито возразил Картвелишвили, – я о том, что если вопрос о нашем освобождении будет в какой–то мере связывать действия восставших, то незачем думать о нашей судьбе и считаться с нашей жизнью.
– Правильно! Правильно! – закричали товарищи.
Гамарник пожал плечами:
– Но ведь мы – ревком, нам поручено возглавить…
– Нам поручено воевать, а не возглавлять! – взорвался наконец Леонид Пятаков, до сих пор угрюмо и молча стоявший в стороне.
Юрий Пятаков подхватил:
– Верно! – Он туг же поправился. – Собственно, я сказал – верно в ответ на слова товарища Лаврентия: мы должны сперва взвесить, что выгоднее: выйти нам на волю или…
Картвелишвили вскипел:
– Я не о том, что кому выгоднее! И не на волю выходить нам, а в бой!
– Тише, товарищи! – сказал Иванов, тревога снова защемила в его сердце: не было единомыслия среди товарищей, и Пятаков… Пятаков, пожалуй… способен предать. – Я не сообщил вам еще императивной части нашего ультиматума штабу.
Товарищи притихли. Только Юрий Пятаков фыркал и ворчал: он не терпел, когда его прерывали на полуслове, да и вообще был несогласен со всем, что здесь говорилось, так же как и с самим фактом восстания – безусловно преждевременного, безусловно сепаратного, да еще с кровопролитием! Когда дело дойдет до мировой революции, тогда – иной разговор. Но без межпартийного блока он осуждал восстание категорически. Картвелишвили из своего угла гневно поглядывал на него горящими глазами.
– Императивная часть нашего ультиматума такова: полчаса на размышление, после этого мы разворачиваем бой по всему фронту и, в частности, силами восставшей вместе с нами артиллерии стираем с лица земли штаб… Вот это здание, где находитесь сейчас и вы…
– Запрещаю! – взвизгнул комиссар Кириенко. – Запрещаю дальнейшую информацию! Содержание… предложений восставших – военная тайна!..
Но крик меньшевистского комиссара потонул в возгласах арестованных. Кроме того, в эту минуту в дверь вошел Боголепов–Южин и, наклонившись к Кириенко, что–то стал ему говорить. Кириенко слушал почтительно и со вниманием; по лицу его можно было понять, что офицер для особых поручений передает ему приказ генерала.
Иванов еще успел только крикнуть:
– Но мы не можем пойти на обстрел штаба, пока вы здесь! Восставшие не согласятся на убийство своих товарищей…
Тогда сорвался с места и выбежал вперед Леонид Пятаков.
– А мы требуем, чтоб ультиматум был принят целиком! Если штаб отклонит – стирайте его с лица земли. Вместе с нами! Наша судьба не имеет значения! Требования восставших должны быть удовлетворены полностью! Мы настаиваем на этом!
– Леонид! – завопил Юрий Пятаков. – Ты экстремист! И тебя никто не уполномочивал! – Юрий Пятаков был бледен, губы у него дрожали. – Пункт о нашем освобождении вообще должен быть снят: кто заварил кашу, тот пускай ее и расхлебывает! Вопрос о нашем аресте – совсем особый вопрос: его рассмотрит прокуратура! Императивную часть надо снять вовсе! И для чего обстрел штаба? Еще больше пролить крови?.. Мы требуем, чтоб нас эвакуировали отсюда в… помещение тюрьмы и рассмотрели наше дело судебным порядком…
Картвелишвили медленно поднялся со своего места и двинулся к Пятакову. Глаза Лаврентия так и впились в его лицо – с гневом, с ненавистью. Казалось, он сейчас кинется на Пятакова. Но в эту минуту снова закричал комиссар Кириенко – Боголепов–Южин уже закончил свое сообщение и теперь стоял рядом, высокомерно улыбаясь.
Кириенко насмешливо кричал:
– Товарищи! Вы не на заседании ревкома! Дебатов никто не открывал! Прошу замолчать! Тем паче, что штабс–капитан, – он кивнул в сторону Боголепова–Южина, – только что передал мне предложение генерала относительно вас.
Все притихли. Предложение генерала? Какое ж это предложение генерала? Соглашается? Или отклоняет ультиматум восставших?
– Генерал согласен! – крикнул Кириенко. – Командование даст свое согласие… освободить вас…
– Согласен? А ультиматум?.. А остальные пункты? – послышались голоса.
– Позвольте! – закричал Юрий Пятаков. – Мы требуем следствия нормальным судебным порядком!.. Мы не выйдем!
– Командование, – продолжал Кириенко, – согласно произвести освобождение на основе обычного, широко применяемого в условиях боевых действий… обмена военнопленными…
Стало совсем тихо. Ацетиленовый фонарь покачивался вверху под сводами на электрическим шнуре, и белый круг света маятником скользил по каменному полу – взад–вперед. Он освещал то комиссара Кириенко с офицером для особых поручений рядом, то Иванова в центре каземата, то арестованных ревкомовцев на нарах вокруг. На нары были брошены охапки соломы – каземат как каземат.
– То есть? – крикнул Картвелишвили.
– Простите, что – то есть? – переспросил Кириенко.
– Условия обмена?
Комиссар пожал плечами. Потом вопросительно посмотрел на офицера рядом.
Боголепов–Южин с презрительной гримасой сказал:
– Все пленные на всех пленных.
– Непонятно! – крикнул Леонид Пятаков. – Сколько у вас пленных?
Штабс–капитан повел плечом:
– Количество военнопленных – военная тайна.
– А сколько у нас?
Комиссар Кириенко завопил:
– Я запрещаю отвечать на этот вопрос: это тоже… военная тайна!
– Простите, – улыбнулся Иванов, – но восставший народ не имеет тайн. У нас…
– Запрещаю! – еще громче завопил комиссар.
Но Иванов все–таки успел сказать:
– Сдались три офицерских школы… несколько сот юнкеров…
– А у вас – только мы, десять человек? – насмешливо спросил Картвелишвили.
Юрий Пятаков вскочил со своего места.
– Мы согласны! – крикнул он. – Мы принимаем предложение командования!
Все смотрели на него с удивлением. Но Юрий Пятаков не обращал внимания на осуждающие взгляды товарищей – он слишком волновался. Черт побери, ведь он категорически возражал против восстания! Но раз оно уже произошло и раз… Словом, лучше выйти на волю, пускай и в разгар восстания, которое ты принципиально осудил и продолжаешь осуждать, нежели сидеть здесь, когда вот–вот начнут гвоздить по тебе снарядами из тяжелых орудий.
– Мы согласны! – сказал Юрий Пятаков. – Мы принимаем.
– Нет, мы не согласны! – вскочил Леонид Пятаков. – Мы не принимаем! Обменять десять бойцов на несколько сот – это бессмыслица, это предательство. Ведь мы этим умножаем силы противника. Если обмен, то один на одного. Я категорически против. И я не выйду!
– Я тоже! – крикнул Картвелишвили.
– И я! И я!
Комиссар Кириенко обеспокоенно посмотрел на часы: десять минут, отпущенных на свидание Иванова с заключенными, чтоб парламентер убедился, что они не желают выйти на свободу, – прошли, и время, назначенное этим проклятым ультиматумом, истекает…
– Мы не можем ждать, – крикнул он, – пока вы договоритесь между собой! Мы спрашиваем председателя ревкома: согласны или нет?
– Нет! – снова крикнул Леонид Пятаков.
– Простите, вам известно, что председатель – Пятаков.
– Я и есть Пятаков! – Леонид вышел вперед.
– Леонид! – завопил Юрий. – Это узурпация! Я председатель!
– Ты… был председателем, а теперь… Товарищи! – обратился Леонид к остальным. – Я предлагаю избрать председателем ревкома меня!
Тогда Иванов поднял руку:
– Товарищи, спокойствие… Ты, Юрий, был председателем ревкома раньше, там, на воле. После вашего ареста создан новый ревком. И он избрал нового председателя. Это – я. И я не открываю пленума для перевыборов, Леонид. – Он усмехнулся. – Я не собираюсь отказываться от своих прерогатив.
– Здорово! – крикнули Картвелишвили и Леонид Пятаков.
– Вы не председатель ревкома! – завизжал Кириенко. – Вы только парламентер!
– И парламентер. Как парламентер я пришел с ультиматумом. Как председатель ревкома заявляю: мы принимаем предложение… Спокойно, спокойно! – улыбнулся Иванов Лаврентию и Леониду. – Я имею такие полномочия от революционного комитета. – Он лукаво подмигнул. – И не только потому, что нам дорога ваша жизнь. А потому, что ультиматум предполагает… удовлетворение всех трех пунктов, либо… либо… вот тут уж – военная тайна… – Иванов опять улыбнулся, кивнул на Кириенко и посмотрел на часы. – А впрочем, за меня сейчас скажут свое слово пушки и пулеметы…
Было тридцать две минуты двенадцатого. Две минуты уже прошло после назначенного Ивановым срока демонстративной стрельбы. В чем дело? Почему хлопцы молчат? Что случилось? Неужто стрельба для паники не состоится?
И как раз в эту минуту – совсем близко, может быть в нескольких сотнях метров от здания штаба, – затрещал пулемет, за ним часто, врассыпную, защелкали винтовки, затем – один за другим грохнули взрывы большой силы. Бомбы? Снаряды? Ручные гранаты или артиллерия?
Иванов засмеялся: молодцы ребята, не подкачали!
– Кровь, кровь пролилась! – взвизгнул Юрий Пятаков, хватаясь за голову. Руки у него дрожали, бородка дергалась.
– Ура! – закричал Картвелишвили. – Пускай нам конец, но мы победим!
Леонид Пятаков обнял Иванова.
Комиссар Кириенко, забыв о своей миссии, бросился к выходу из каземата. Боголепов–Южин поспешил за ним. Пулеметов уже рокотало, по меньшей мере, два, а может быть, и двадцать два. Винтовки стреляли вразнобой и залпами. Взрывались гранаты. Казалось, что сквозь стены каземата даже слышно громовое «ура».
Иванов крикнул во весь голос:
– Ультиматум в действии! Восстание продолжается!
Но тут он увидел, что ни комиссара, ни офицера в каземате нет – они остались одни. И тогда он, озираясь на дверь, шепнул товарищам:
– Спокойно, это только демонстрация. Это арсенальские ребята балуются…
Потом, снова вслух, сказал:
– Я думаю, товарищи, мы можем спокойно выйти…
– А… а… охрана? – остановил его Юрий Пятаков. – Они ж нас не выпустят… озверелые офицеры и юнкера… Они нас…
– Они нас рады бы растерзать, – насмешливо подхватил Иванов, – но, будьте покойны, они нас свободно пропустят, еще и пожелают нам спокойной ночи, ибо таков будет приказ, поскольку мы приняли условия обмена.
Он отвернулся от Пятакова и весело сказал, обращаясь ко всем:
– Только перед тем, как выйти, мы еще потребуем выполнения двух остальных пунктов нашего ультиматума: сложить оружие и признать власть Советов. А вот если они заартачатся, что ж… тогда пускай пеняют на себя: тогда уж им не избежать и тяжелой артиллерии.
Товарищи толпой двинулись к выходу из каземата, через широко открытую окованную железом дверь. Навстречу, вниз по ступенькам, уже бежала охрана. Спешил и Боголепов–Южин. Ему, офицеру для особо важных поручений, приказано лично произвести обмен: десять ревкомовцев на пять сотен юнкеров и офицеров.
– Да ведь это же не… законно, это юридически не… – кипятился позади всех Юрий Пятаков. – Это провокация!..
9
А впрочем, демонстративные действия отряда красногвардейцев на углу Левашевской улицы в самом деле кое–кого спровоцировали.
Боженко – он снова разместил свой штаб в Бессарабском крытом рынке, – услышав стрельбу в двух кварталах оттуда на горе, сразу же кликнул своего начальника штаба.
– Ну, Ростислав, – сказал он, – пошли и мы. Слышишь, наши уже с той стороны заходят? Что ж нам, к шапочному разбору? Ударим–ка прямо Кругло–Университетской по штабу в лоб – и амба! Пиши боевой приказ: именем мировой революции приказываю…
Боженко вместе с ливеровцами, соединившись также с отрядом авиапарковцев, которые шли в цепи арсенальцев на крайнем левом фланге, закричали «ура», кинули с десяток гранат – для паники – и бросились в штыки вверх по Кругло–Университетской на штаб.
Стояла темная, безлунная, пасмурная ночь последнего дня октября.
Юнкера и «ударники» с Лютеранской и с кручи над Новыми строениями ответили на «ура» боженковцев огнем пулеметов и карабинов.
В помещении штаба за их спиной в это время была полная неразбериха: офицеры метались из комнаты в комнату, бегали по лестнице вверх и вниз, суетились – все кричали, все вопили, и никто не знал, что делать.
В штабе царила паника. Боголепов–Южин кричал у телефона начальнику вокзала: немедленно эшелон! Потом переключался на другую линию и кричал в автомотобатальон: немедленно машины! Десять, пять, хотя бы одну – для самого командующего!
Штаб принял решение срочно эвакуироваться. Куда? Очевидно, пробиваться в ставку фронта, в Бердичев.
– Тикай! – полетело по Банковой, Левашевской и Лютеранской. – Ходу! Спасайся кто может! Командующий сел в автомобиль и драпанул. Куда? Черт его знает! В направлении Крещатика… Большевики получили подкрепление! Идут крестьяне окрестных сел!.. Идет гвардейский корпус из Винницы … Идет весь восставший фронт! Весь мир идет против нас!.. Кажется, выступили и войска Центральной рады. Но – против нас. Наших бьют! Спасайся, кто в бога верует!
Лязг оружия, бросаемого на мостовую, топот ног в паническом беге, проклятия и матюки, мужской плач и пьяные выкрики носились в этот час над кварталами и улицами Киева.
Верные Временному правительству войска бежали.
Куда?
Они не знали сами. Разве разберешь, куда, когда темень, когда ночь?
Куда глаза глядят, только бы подальше от страшилища – восставшего за свою свободу и свою правду народа.





