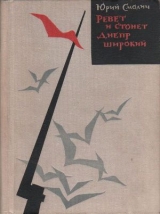
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 62 страниц)
ЗА КИЕВ!
1
Боженко начал с малого: он захватил завод, на котором работал, – Прозоровская, 8.
Этот маленький механический заводишко был, по правде сказать, никому не нужен: после разгрома в октябрьские дни он так и не возобновил производства. Но был это все–таки завод, на нем имелось ценное оборудование, на складах лежали запасы сырья и продукции – и городская комендатура считала необходимым охранять его. Тридцать казаков гарнизонной службы – мобилизованных дезертиров, отвоевавших до того три года мировой войны, – несли здесь караульную службу: дежурили посменно у ворот и вокруг ограды и пекли картошку в караульне на раскаленной железной «буржуйке».
Но ведь у тридцати солдат было тридцать винтовок и к ним – боевые комплекты патронов!
Это не давало покоя Василию Назаровичу. Ведь тридцать винтовок со всем боевым комплектом могут быть повернуты против восставших! Лучше – чтобы не были повернуты. А еще лучше – повернуть их против Центральной рады.
Но еще пуще волновало Боженко то, что в подвале под цехом лежало пятьдесят винтовок и с полсотни ящиков с патронами: боевой запас бывшего красногвардейского заводского отряда, который так и не обнаружили во время разгрома юнкера. Что ж – винтовкам так и лежать, ржавея, в подвале? А целой горе патронов – так и пропадать, когда каждый патрон дороже капли собственной крови?
Боженко собрал несколько хлопцев со своего завода, проживавших близ его нынешнего подпольного местожительства (когда в ту декабрьскую ночь контрразведчики пришли арестовать его, он успел в одних исподних выскочить через окно и скрывался теперь у друзей), и сказал так:
– Хлопцы! Восстание против проклятых самостийников начинается. Что ж нам – за бабью юбку держаться? Айда воевать! От комитета нам задание: Большая Васильковская до Бессарабки должна быть наша. Артерия революции в самое сердце контры! Маршрут хорошо известный: в октябрьские дни как раз здесь и шли. Только теперь с Бессарабки поворачивать не вправо – на штаб, а влево – на Центральную раду. А там ударим по Бибиковскому вверх – и квит! Тактика и стратегия всем понятны? Вот и хорошо. Оружия, говорите, нету? Оружие, конечно, надо «купить». Денежек, правда, не имеется, но есть план! Придется пойти на бой, как в театр: вроде зайцем, без билета…
План Боженко состоял в том, чтобы добыть оружие, спрятанное в подвале завода на Прозоровской, 8. А до того – забрать тридцать винтовок у охраны завода. Правда, голыми руками. Зато сколько оружия! Хватит чуть не на сотню бойцов! А сотня в тактике и стратегии уличных боев – все равно, что полк или даже дивизия в поле!..
Осуществили план просто – так сказать, «по–домашнему». Боженко вдвоем со своим заводским напарником Чайко – остальные притаились за заборами соседних строений – подошли к часовому у ворот и сказали:
– Мы депутаты рады… – какой именно «рады», на всякий случай уточнять не стали; «рад» этих теперь наплодилось до черта – и своих, и чужих. – Принесли вам приказ о демобилизации: Центральная рада воюет за свою самостийность, а кто до самостийности интереса не имеет, может отправляться на все четыре стороны – как это, помните, дядько, в ноябре было: всех мобилизованных распускали, а оставляли только охотников, добровольцев? Так что выбирай, землячок, куда твоя воля: хочешь – воюй за Центральную раду, хочешь – иди себе к жинке и деткам, коли они у тебя есть, а не то – отлеживайся на печи. Как знаешь…
Солдат так и расплылся:
– Вот–то наши будут рады! Думаю – подадимся все…
Вместе с часовым зашли в помещение, где разместилась охрана. Караульные валялись вокруг «буржуйки» и жрали горячую картошку.
Сообщению Боженко и Чайко все двадцать девять дезертиров единодушно обрадовались. Порешили сразу и уходить, пока восстание в городе не разгорелось и есть еще возможность прицепиться к какому–нибудь эшелону.
Меж тем Боженко провел и кой–какую разъяснительную политическую работу – на всякий случай, чтобы дезертиры сдуру не подкрепили собой вооруженных сил Центральной рады. Он сказал им, тоже подхватив горячую, даже пар шел, картофелину:
– Говоря по правде, землячки, так мы разве против самостийности Украины? Пускай будет себе самостийная. И далее определенно – самостийная, отдельно от России, ежели в России будет власть буржуев и паразитов, всяких Керенских, Корниловых или там Калединых. Однако же самостийники якшаются как раз с Калединым и Корниловым – паразитами и буржуями, генералами – и сами завели себе «генеральский секретариат». Выходит, как раз против самостийников и надо бороться за самостийность – так я полагаю. А, хлопцы? За свою самостийность! И пусть будет у власти не «генеральский», а Народный секретариат, вроде Совета Народных Комиссаров в Петрограде. Вот такой, скажем, как тот, что из Харькова с Коцюбинским украинское войско послал. Какая будет ваша думка, товарищи дезертиры?
Дезертиры–караульные разъяснение Боженко приняли одобрительно. В конце концов, на Центральную раду им было наплевать – скорее бы домой! Они уже запихивали подсушенные портянки в свои солдатские вещевые мешки.
Один, правда, начал было сокрушаться:
– Вот беда, винтовки с боевым комплектом надо же отнести в часть. A это – на Приорке: туда два часа ходу, да обратно на станцию…
Другие тоже всполошились:
– Поезда ведь уходят да уходят… А там и вечер – жди эшелона до утра…
Теперь, в сложных условиях осадного положения, поезда уходили и принимались станцией только от восхода до захода солнца.
Боженко подхватил вторую картофелину и великодушно пришел на помощь:
– А на что вам переть, к чертям собачьим, аж за Сырец? Мы же специально от рады пришли: винтовки оставите здесь, мы уж о них позаботимся… Чайко, пиши каждому демобилизованному расписку: винтовку номер такой–то – принял…
Он вынул из кармана печать… союза деревообделочников, где был председателем.
Ни один из тридцати так и не попросил предъявить приказ о демобилизации или какой–нибудь другой мандат либо документ: печать произвела впечатление. Никто не спросил и «увольнительной»: дезертировать за войну приходилось уже не в первый раз, и «увольнительная» создавала только лишние затруднения – в случае очередной мобилизации еще сунут в какую–нибудь маршевую роту…
Солдаты ушли. Осталось тридцать исправных винтовок с боевыми комплектами. Позвали остальных рабочих и открыли подвал. Теперь можно было организовать целый отряд.
– Пошли, хлопцы, собирать народ! – крикнул Боженко. Теперь, с винтовкой в руках, он сразу подтянулся и стал военным. – Отделение… равняйсь!
Шли Васильковской – от патруля до патруля, каждый патруль разоружая. Оружие складывали на подводу, которую подхватили где–то во дворе. Впрочем, оружие на подводе не залеживалось: люди приставали по дороге, и каждый сразу получал полное вооружение.
Так дошли до Бессарабки. Стрельба гремела на Печерске, на железной дороге, на Подоле – там шли сейчас бои, и туда брошены были все гайдамаки, «вильные козаки» и сечевики. Центр города выглядел пустынно: иногда промчится конный связной или автомобиль со старшинами, спешащими в штаб либо в свои части. На вооруженных людей, принимая военный отряд здесь, в центре расположения сил Рады, за своих, никто не обращал внимания.
Зато один из автомобилей привлек внимание Боженко. Автомобиль мчался по Бибиковскому вниз – уж не из самой ли Центральной рады? – и сидел в нем усатый казачина в синей чумарке и с особенно длинным красным шлыком, расшитым золотым позументом.
– A ну, хлопцы, – подал команду Боженко, – сцапаем–ка этого самостийного субчика!
Отряд рассыпался в цепь поперек Крещатика.
– Стой!
Машина остановилась.
Казачина с длинным шлыком разгневался. Он встал в машине и свирепо заорал:
– Вы что это, сукины дети, не знаете меня или моего автомобиля? Флажка не видите впереди? Как вы смеете меня останавливать? Да я вас в холодную! На гауптвахту, песьи головы!
На радиаторе машины и правда был специальный флажок, даже два рядом – желто–голубой и малиновый: «государственный» и «вильного козацтва»,
– А кто ж он такой будет, что–то больно сердитый? – полюбопытствовал Боженко у шофера.
– Да это же… сам Ковенко! – даже заикаясь от страха перед такой непочтительностью к его высокопоставленному седоку, прошептал шофер.
– Фью!
Птичка была из важных – сам комендант города!
На том карьера добродия Ковенко, атамана Киевского коша «вильных козаков», коменданта столицы в грозный ее час, фактически заместителя Петлюры по Киевскому гарнизону Центральной рады, и кончилась. В собственной его машине его отвезли на Прозоровскую, 8, и заперли в подвале, где до тех пор хранился тайный красногвардейский боевой запас.
Теперь отряд Боженко имел и свой автотранспорт, так сказать – мотомеханизированную часть.
Но к Центральной раде – куда не терпелось попасть Василию Назаровичу – добраться было не так просто: на Пушкинской стояли цепи и пулеметные заслоны сечевиков. Что же дальше? Пробиваться на помощь «Арсеналу» или провести другую боевую операцию – по своему разумению: ведь к комитету на Жилянской путь тоже был закрыт.
2
Тося тяжко страдала.
Доктор Драгомирецкий так и сказал: роды будут трудные – таз узкий, сама еще совсем девчонка.
Судороги ломали хрупкое Тосино тельце. Пот орошал с головы до ног. То горячий, то холодный. Во время схваток силилась сдерживать стоны, но удержаться не могла – кричала.
А доктор Драгомирецкий твердил только одно:
– Напрягайтесь! Тужьтесь!..
Меланья и Марта суетились – вскипятить воды, подать чистую сорочку, обтереть пот со лба, смочить губы.
Стариков, Ивана и Максима, выгнали из комнаты. Они сидели на кухне под дверью и только тяжело и беспомощно вздыхали, когда крик боли опять и опять долетал из–за закрытой двери.
Изредка они обменивались короткими репликами.
– Сын будет… – говорил Иван, когда стоны становились особенно громкими.
– Дочка… – возражал Максим.
Мелкота – и брылята и колибердята, – изгнанная вовсе из дома, ибо не годится ей по малолетству наблюдать такое великое таинство природы, заглядывала сквозь запорошенные снегом стекла – по пять–шесть детских головок в каждом окне.
– А киш! – сердито махал на них руками Иван Антонович.
– Пускай, пускай, – отмахивался Максим Родионович, – все равно стекло заморозило…
Данила – молодой муж, вот–вот уже и отец, – казался среди всех самым нелепым, лишним. Старики Иван и Максим на него и глядеть не могли: такой бестолковый, у мам – Меланьи с Мартой – он то и дело путался под ногами, да и вид у него был вовсе невозможный. Данила не снял кожушка с патронташами на поясе. В одной руке он держал шапку, в другой – винтовку. Винтовка у ложа роженицы была особенно – вопиюще! – неуместна. Что он, караулить свое потомство пришел? Или стрелять в женские муки?
Марта сурово поглядывала на него и говорила:
– А ну, уходи! Стал тут со своей пукалкой!..
Даже кроткая Меланья сердилась:
– И в кого ты такой уродился? Иди с глаз долой, а то еще напугаешь младенца своим ружьем…
Данила уступал мамам дорогу, но от постели Тоси не уходил. Только громко сопел, смотрел страдающими глазами и перекладывал – то шапку в левую руку, а винтовку в правую, то винтовку в левую, а шапку в правую.
Тося тоже смотрела на Данилу, когда отпускали схватки. Смотрела страдальчески, даже с ужасом: неужто уйдет?
Данила тяжко терзался: восстание началось, он красногвардеец, все хлопцы уже на баррикадах, а он… И жены в муках не бросишь, и… хлопцы ведь бьются – вон как стучат пулеметы у «Арсенала»! Хлопцы кровь свою льют! Может, умирают… Хлопцы! Да что хлопцы? Весь народ! На бой вышли и малые и старые… Нет, не все: свои старики вон на кухне сидят, люльки курят… Ишь, надымили возле страдалицы…
Тося завопила – схватка была очень жестокая. Доктор Драгомирецкий кричал!
– Тужьтесь, тужьтесь! Скоро конец!..
Иван Антонович вздохнул, покачал головой, согласился:
– Таки верно, дочка…
– Нет, таки сын! – и теперь возразил Максим Родионович.
Из «Арсенала» били орудия. И при каждом выстреле Тосино тело так и подбрасывало.
Доктор Драгомирецкий сердито поглядывал в окно. Что творится! Безобразие! Ведь тут женщина рожает, а они… Напугают еще – и нарушат нормальный ход родов!.. А впрочем, может быть, эти толчки организма при каждом взрыве, как раз наоборот, будут содействовать процессу, заставляя напрягаться?.. Доктор Драгомирецкий размышлял. Войны он вообще категорически и принципиально не признает. Но когда война приходит к вам в город, врывается прямо в дом, тут уж гневу и возмущению доктора не было границ: это уже черт знает что!
Зазвенели стекла, с потолка посыпалась штукатурка: обстрел «Арсенала» возобновился, и снаряды ложились на большой площади вокруг по всем кварталам Печерска. Один грохнул где–то совсем близко – может быть, в мавританский дом Драгомирецкого?..
Данила тоскливо посмотрел в окно: ведь он должен быть там – там же, поди, трудно, не хватает бойцов, а вот пришел бы еще он, тогда…
В кухню влетел один из колибердят – старшенький. Не кричал, выпалил шепотом, но Данила услышал сквозь жиденькие двери:
– Гайдамаки снизу идут! Видимо–невидимо! Цепями! Врукопашную! Ой, как бы нашим да не тикать…
Данила метнулся. Надел шапку. Перехватил винтовку правой рукой.
Тося охнула. Глаза ее со страхом смотрели на Данилу. Данила снял шапку. Переложил винтовку в левую.
– Тужьтесь! – кричал доктор Драгомирецкий.
Но Тося уже лежала тихо – не стонала, не тужилась. Меланья и Марта бросились к ней: не сомлела ли? Нет, не сомлела, просто отпустили схватки.
Доктор Драгомирецкий неодобрительно покачал головой. Эта передышка вовсе ни к чему. Роды, как видно, будут затяжные: ведь первый раз и такая конституция… Доктор наклонился к роженице. Стал осматривать. Неужто младенец не пройдет? При таких бедрах, таком тазе!.. Конечно, в нескольких кварталах отсюда, в хирургическом отделении Александровской больницы, всегда наготове операционная, если бы пришлось прибегнуть к… кесареву сечению. Но – несколько кварталов, извозчиков нет, цепи гайдамаков, да и в самой операционной сейчас, вероятно, уже хозяйничают гайдамацкие врачи – раненых гайдамаков оперируют… Чемоданчик с инструментами у доктора здесь, с собой, но… В таких условиях, без всяких приспособлений, без хирургической сестры, без… Доктор Драгомирецкий неодобрительно качал головой…
Данилу бросило в пот. Неужто в такой момент он не пойдет, останется здесь? А ведь Харитон умер у пулемета…
По улице, за забором, протопали какие–то люди. Над оградой замелькали стволы винтовок. Кепки и шапки. Красногвардейцы! Но – от яра! Отступают–таки?
Данила снова перекинул винтовку в правую руку.
Тося смотрела обессилено, молча.
– Пойду! – прохрипел Данила.
Тося хватала ртом воздух. В глазах застыл страх.
Доктор Драгомирецкий поднялся, выпрямился. Укоризненно посмотрел на роженицу, сурово – на онемевших в ожидании мам:
– Затягиваются роды… Фальшивая тревога… Плод еще не идет…
Тося тихо застонала и прикусила губу.
За забором, на Рыбальской, прогремело несколько выстрелов: красногвардейцы отходили, отстреливаясь.
Данила метнулся к окну. Потом к Тосе.
– Тося!.. – прошептал он. Слезы бежали у него из глаз. – Тося…
– Не вертись под ногами, – прикрикнула на него мама Марта.
– Данилка! – в ужасе всплеснула руками мама Меланья. Она видела лицо сына, и она услышала то, чего он и не сказал. «Неужто уйдешь? – взывали ее глаза. – Неужто оставишь жену в такую минуту?»
Снова загремели выстрелы на улице, но теперь уже с другой стороны – слева, со стороны кручи над яром. На кручу из яра прорвались–таки гайдамаки. Заходили «Арсеналу» во фланг.
Данила упал на колени и поклонился жене с будущим его сыном во чреве – до земли. Винтовка загремела по полу. Потом вскочил на ноги – страшный, с перекошенным лицом, с закушенными губами. Из глаз слезы текли и текли.
– Прощай, Тося! – не крикнул, а простонал. – Рожай счастливо!..
И, не взглянув на помертвевшее от ужаса лицо жены, бросился вон.
Иван с Максимом тоже вскочили с табуретов:
– Идешь?
Старый Брыль раскинул руки, словно хотел перехватить сына.
– Прощайте, батько! И вы, тато, тоже…
Данила был уже на пороге сеней.
– Прокляну!
Данила был уже на крыльце.
– Проклинаю!..
Старый Колиберда только качал головой, но не спорил.
Мамы – над роженицей – припали друг к другу. Меланья тихо плакала. Марта глядела сурово.
Доктор Драгомирецкий посматривал на нее с осуждением… Разве можно плакать над роженицей? Этого он, врач, разрешить не может: роженицу нельзя волновать!.. Этот… отец ребенка тоже… хлюст: нагремел своим идиотским ружьем, натопал сапожищами да еще волнует роженицу в такой момент!..
А впрочем, это, пожалуй, и к лучшему: он ведь тут все равно никому не нужен… А роды еще, очевидно, долго протянутся. Раз первые схватки оказались ложными, теперь затяжные будут роды – можете поверить долголетней врачебной практике доктора Драгомирецкого: узкий таз, первые роды, сама – ребенок…
Данила распахнул калитку – своих, красногвардейцев, уже не было видно справа, за углом. Слева, из яра, подымалась густая цепь гайдамаков. Красные шлыки кроваво пламенели на белом снеговом фоне Кловского спуска.
Данила положил ствол винтовки на калитку, прицелился и выстрелил.
Один гайдамак упал.
Данила выстрелил еще раз и еще – все пять. Упало еще двое гайдамаков. Другие, не ожидавшие этих выстрелов в упор, испуганно бросились назад.
А Данила побежал направо. За угол. Скорее! Еще можно успеть! Еще не отрезан «Арсенал».
Не отрезан – для Данилы.
Но от города «Арсенал» был уже отрезан.
Старый Иван Брыль, чтоб превозмочь гнев, как всегда философствовал:
– Украинский пролетариат сам только народился на свет, а ему уже рожать новую жизнь, вот и ломает его в корчах да муках.
3
И вот Флегонт сидел в окопе, вырытом прямо в снежном сугробе среди чистого поля.
Позади была станцийка Круты. Она не должна быть сдана – ее надо отстоять хотя бы и ценою жизни! Ибо это ключ от ворот Киева: так сказал сам атаман Симон Петлюра… Справа и слева, пересекая железнодорожное полотно и дугой загибая концы, тянулись окопы защитников, которым и предстояло «душу и тело положить за свою свободу», а также за эту станцийку Круты – ключ от Киева: сам Симон Петлюра так сказал… Впереди виднелись лишь рельсы железнодорожной линии. Две черные искрящиеся ниточки, вспыхивающие и угасающие в снежном сиянии, уходили вдаль. Там вдали был Бахмач – оттуда должны были наступать русские, большевики. Им во что бы то ни стало нужно было взять Круты, чтобы в Нежине соединиться с другими большевиками, украинцами. Тогда они вместе могут ударить на Киев… Но ни Киева, ни Нежина, и уж Круты ни в коем случае большевики – будь они русские или украинцы – взять не должны! Так сказал Симон Петлюра.
Флегонт ежился в жиденькой гимназической шинельке, дышал на пальцы, притопывал окоченевшими ногами, хлопал, как извозчик на козлах, руками по плечам. Для этого приходилось вставать во весь рост, а винтовку класть перед собой прямо в снег. Если встать на ноги, видны были и позиции противника. Русские большевики подошли эшелонами от Плисок и развернулись фронтом поперек железной дороги – от самой Сиволожи и до Омбыша. А позади, меньше чем в версте, виднелись и те самые Круты, на которые посягали большевики. Но Круты нельзя было отдавать. Петлюра сказал.
Погревшись немного, Флегонт вынужден был снова садиться, потому что линия противника впереди отстояла тоже не более чем на версту, и стоило кому–нибудь из защитников Крутов показаться над белым бруствером окопов, те сразу поднимали стрельбу – и по окопу неслось:
– Сядьте! Садитесь! Ну, посадите же этого дурака, господи, – чего он торчит!
И соседи справа и слева дергали за полы, тянули за рукава и усаживали обратно в снег.
Снежные окопы занимал только что сформированный курень «студентов сечевых стрельцов» – он называл себя «усусусы», в отличие от настоящих сечевиков – «усусов», и сейчас только призванные под ружье гимназисты и реалисты – именовались они «Молодая Украина». Пять сотен. Но героизм этих пяти сотен юных патриотов должен спасти всю Украину. Сказал Петлюра.
Ибо Круты решают исход войны.
И это сказал Петлюра.
Сам Петлюра в это не верил, даже знал наверняка, что это не так.
Со стратегической точки зрения проблемы обороны под Крутами не существовало. С тактической – защищать Круты было бессмыслицей. Ведь вторая группа советских войск двигалась на Нежин от Прилук – Крутам в тыл. А третья – от Чернигова – Вересочи – Веркиевки, и тоже в тыл Крутам.
Петлюра это знал.
Но в Киеве вспыхнуло восстание, и Петлюра решил снять с фронта все свои вооруженные силы, прежде всего «Кош Слободской Украины», «черных гайдамаков», как их уже прозвали за черные шлыки и черные дела, – и обрушиться на киевских повстанцев. Задушить восстание, укрепить столицу, а тогда противопоставить наступлению красных крепкий вооруженный кулак и… поднять этим упавший дух воинских частей Центральной рады и по всей Украине там, где они еще держались. А к тому же – способствовать этим актом делегации УНР в Бресте подписать мир на более выгодных для себя условиях.
Необходимо было продемонстрировать силу радовской армии и популярность самих идей УНР – перед союзной Антантой, да и перед вражеской стороной, австро–германцами, – тоже.
Словом, Круты были нужны Петлюре для… демонстрации.
И надобно было провернуть это как можно скорее, потому что от Херсона и Елизаветграда уже шел Тютюнник с «вильными козаками», чтобы спасти Киев от большевиков. А сие было небезопасно, ибо Тютюнник – наиболее серьезный соперник: претендент на место Петлюры во главе армии. Значит, и здесь необходима демонстрация!
Петлюра вообще обожал всяческие демонстрации – «петлюрился», как говорил Винниченко, когда сцеплялся с Петлюрой.
И чтоб сложили свои головы под Крутами именно юноши, пылкая молодежь – это также нужно было Петлюре для демонстрации. Поглядите, мол, люди добрые: молодая Украина отдает свою жизнь за меня… то бишь – за Украину под моим водительством.
Это было если не самое тяжкое, то наиболее трагическое преступление Петлюры перед украинским народом, украинской патриотической молодежью – той, что любила Украину, но еще не знала, как её надо любить. Под Крутами встали на ее защиту пять сотен украинских юношей, но по всей Украине на них смотрело все молодое поколение украинцев – быть может, пятьсот тысяч, а может, пять миллионов…
Ведь тогда они еще не знали, что Петлюра – провокатор.
Флегонт тоже не знал. Однако в душу его, как и в души миллионов, уже запала тревога. Неверия еще не было, но веры? Была ли вера?.. Он верил в Украину. Какую? Любимую. Ту, в которой жил. Ту, что ныне так тяжко страдала. Ту, прошлое которой он знал по рассказам старых людей, из книжек, песен. Такую, какой она должна быть. Какой же должна она быть? Кто его знает… Свободной. Прекрасной…
Горе переполняло душу гимназиста Флегонта Босняцкого. Разочарование Марины – первого друга и первой любимой – смутило сердце и ум восемнадцатилетнего юноши. Потом – он кое–что видел, кое–что слышал. И не всегда мог понять и разобраться. Пытался оправдать – не оправдывалось. Старался осудить – не осуждалось. Но Лия – Лия стояла у него перед глазами. На фонарном столбе. Всплеск ледяной волны Днепра и отрубленная рука на фонарной перекладине.
Лия! Первая революционерка, которую он увидел, узнал…
Марина!.. Где же ты теперь, как ты теперь, любимая моя Марина?
Соседом слева у Флегонта был какой–то реалист. Он особенно старательно прятался за снежным бруствером, потому что шинели у реалистов черные. Он стучал зубами от холода и весь дрожал. Но он был разговорчив и не умолкал ни на минуту. Любил рассуждать о высоких материях.
– Коллега! – уже не в первый раз заговорил он, выбивая дробь зубами и прерывая речь, чтобы подышать на руки. – Вы читали Канта?.. Нет?.. Ну, а из наших, отечественных, то есть в данном случае я имею в виду русскую литературу – Писарева, Добролюбова, Белинского? Странно, я думал, что гимназисты–классики – начитанные… Ну, a из этих, интернационалистов?.. Каутского? Нет. Я – тоже. Только слышал… Ах, вы читали Коммунистический манифест?.. Скажите! – реалист был искренне удивлен, обескуражен и даже несколько шокирован. – Однако… коммунистический!.. Это, знаете, с точки зрения патриотических идей звучит как–то, знаете… не того. Большевики ведь – тоже коммунисты: я слышал. Хотя есть еще и анархисты–коммунисты, есть интернационалисты – не коммунисты. Как–то, знаете, запуталось все это… – Он должен был прервать свою речь, чтоб хорошенько подышать в кулаки и похлопать себя по плечам: мороз пробирал до костей. – Во всяком случае, компромисс между идеями национализма и интернационализма положен. Это говорил в своем выступлении сам Владимир Винниченко. Вы слыхали?
– Интернационализм!.. – Горькая усмешка искривила онемевшие на морозе губы Флегонта: ему было всего восемнадцать, но он уже умел горько улыбаться. – Что это вы несете, коллега! Отсутствие национальной вражды – что может быть лучше?.. Не знаю, писал ли что–нибудь об этом ваш Кант, Каутский или Писарев, но я никогда, слышите – никогда! – не поверю, что при интернационализме люди перестанут любить свой язык, свою песню, историю своего – да, да! – все больше распалялся Флегонт, – именно своего родного народа! И желать ему добра – наравне со всеми другими народами, разумеется! Оттого, что так оно и будет, никому, никакому другому народу не станет хуже…
Реалист подышал в кулаки:
– Но ведь мне говорили, что марксисты…
Однако Флегонт продолжал.
– Мечтаю только об одном, – с тоской почти простонал Флегонт, – чтоб никогда никто не фыркнул с презрением на то, что я – какой–то там украинец, а значит, что–то у меня есть свое, украинское… И чтоб никто из украинцев не забывал, что он – украинец. Неужели это противоречит идеям интернационализма?!
– Однако же надо, чтобы и мы, украинцы, не фыркали, как вы говорите, с презрением на других – не украинцев, – солидно заметил реалист.
Флегонт пожал плечами: это само собой разумелось.
– Вот я знал одну девушку… – начал было Флегонт, но голос ему изменил: он должен был проглотить комок в горле.
Реалист дышал в кулаки и смотрел с ожиданием: он думал, что собеседника просто трясет от мороза.
Но Флегонт не мог говорить о Лии. Ведь сейчас заговорить о ней – это означало сказать все. Даже то, чего и себе самому Флегонт сказать не смел. О чем боялся подумать. Почему он здесь? За что воюет? С кем в ряду и – против кого? С Лией в ряду? Нет. Против Лии? Нет, нет!.. Против Марины? Тоже нет. С Мариной? Да!.. Марина, Марина, где ты, Марина? Знаешь ли, что случилось с Лией? И зачем он завел об интернационализме? Сам Винниченко сказал!.. Петлюра сказал… Сказал Петлюра. Что он сказал? И кто такой Петлюра? Ах, да!.. Петлюра. А вон там, за километром заснеженного поля впереди, кто? Враги?.. Петлюра говорит…
– Вы начали о девушке, которую знали, – напомнил назойливый реалист.
Тогда Флегонт вдруг выпалил:
– Я – о той девушке, что обращалась к нам… с фонаря…
Глаза реалиста округлились от ужаса: перед его взором тоже встала девушка на фонаре и отрубленное запястье на перекладине.
– Вы… знали ее – прошептал он, заикаясь, но не от холода.
– Знал! – злобно отрубил Флегонт.
– Она… она… большевичка…
– Да, большевичка! – крикнул Флегонт, и слезы хлынули у него из глаз – первые слезы после Лииной смерти.
– Господа! Господа! Смотрите! – закричал сосед справа: то был тоже гимназист, но незнакомый, из какой–то другой гимназии. – Они зашевелились, они вылезают из своих окопов! – В его голосе звучали и страх и восторг. – Дадим же мы им сейчас, проклятым большевикам! Господа, пулеметы, пулеметы!..
Пулеметы и в самом деле уже трещали на правом и левом флангах защитников станции Круты.
И тоска, тоска сразу сжала сердце – тоска, как всегда, когда Флегонт слышал пулемет. И засосало в груди. Очевидно – страх.
Из окопов «усусусов» и «Молодой Украины» вразброд, без команды загремели винтовки.
Действительно, над белой пеленой поля появилась темная – черная – полоска, от края до края. И сразу стало видно, что это не полоска, а сплошная линия точек. Противник поднялся из своих окопов и двинулся вперед. На насыпи железнодорожного полотна черные точки роились особенно густо, они сбились там облачком, – и как раз туда направили свой огонь фланговые пулеметы. Черное облачко на полотне сразу растаяло – рассыпалось в две стороны. Несколько точек остались недвижимы на снегу.
– Метко наши бьют! – орал в восторге гимназист справа. – Так их, так!..
Радостные возгласы слышались там и тут по окопу. Винтовки защелкали еще чаще.
– Стреляйте же, стреляйте! – кричал Флегонту реалист слева. – Почему вы не стреляете? – Сам он выпустил целую обойму и загонял в магазин новую.
Флегонт поднял винтовку и выстрелил не целясь, куда–то туда.
Цепь красных двигалась прямо по заснеженному полю и тоже стреляла. Но их нельзя было подпускать: так сказал Петлюра.
– Почему они – в черном? – крикнул Флегонт реалисту.
– Что?
– Почему в черном, как вы? – Флегонт кивнул на черную шинель реалиста.
Реалист не ответил, он уже заложил новую обойму и теперь стрелял, старательно целясь в черные точки.
А точки уже не были точками. Это были черные человеческие фигуры. Люди в черном – прекрасная мишень на белом снежном поле – шли точно с прохладцей, не спеша: очевидно, проваливались в глубоком снегу. И стреляли с ходу, с руки, от живота, не целясь.
– Матросы! – послышались испуганные голоса в окопе. – Господа, наступают матросы!
Несколько защитников сразу метнулись назад, за окоп, – бежать. Но их вернули, пристыдили:
– Господа! Как вам не стыдно! За неньку Украину!..
– Мы им сейчас всыпем, всыпем! – вопил все тот же воинственный гимназист справа.
Реалист расстреливал обойму за обоймой.
– Стреляйте же, стреляйте! – кричал он Флегонту в перерывах, когда перезаряжал ружье.
А матросы шли да шли. Кое–кто падал, но мало: студенты и гимназисты были еще никудышные стрелки.
Только теперь кто–то догадался:
– Рамку! Рамку, господа, поставьте! Какую надо рамку?
– Рамка пятьсот, – побежало от одного к другому по окопу.
Реалист выругался: он до сих пор стрелял, не поставив дистанционной рамки, и пули его шлепались, очевидно, где–то поблизости в снег.
А матросы шли. В темных своих бушлатах. Во весь рост.
– Господи, господи!.. – шептал Флегонт. – За что! О господи!
Но сразу сообразил, что он молится, и оборвал…
– Рамка четыреста!
– Нет, триста, триста!..
Флегонт с тоской смотрел туда и сюда – не вперед, а вдоль окопа: все стреляли, все вопили, все были в ажитации. Бой! И Круты нельзя отдавать. Петлюра сказал. Сказал Петлюра… Нет, не все: вон один, другой съежились на дне, под снежным сугробом. Убиты? Ранены? Сжались в комок и плачут…





