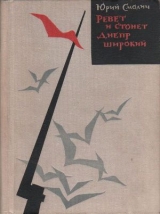
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 62 страниц)
ВОЙНА HE ОБЪЯВЛЕНА
1
Итак, этот исторический акт свершился.
Первый Всеукраинский съезд Советов в Харькове, состоявший из делегатов разогнанного Центральной радой в Киеве съезда Советов Юго–западного края и делегатов областного съезда Донецко–Криворожского бассейна, провозгласил Украину республикой Советов и избрал Центральный исполнительный комитет.
Положение на Украине теперь стало особенно сложным.
Ведь в каждом украинском городе был гарнизон, и в гарнизоне одни воинские части стояли за власть Советов, другие – поддерживали Центральную раду. Чуть не в каждом городе имелись вооруженные красногвардейские отряды, но так же точно чуть не в каждом городишке и селе действовали и отряды «вильных козаков».
И, быть может, самая сложная ситуация сейчас, когда возникло в Харькове советское украинское правительство – Народный секретдриат, – создалась как раз в Харькове.
Харьковский тридцатитысячный гарнизон состоял в основном из частей, верных Центральной раде, но именно в Харькове собрались и самые надежные советские части: 30–й полк, харьковские отряды Красной гвардии и русские вооруженные отряды, прибывшие из Петрограда, Москвы и Курска, с главнокомандующим Петроградским военным округом Антоновым–Овсиенко.
Но полевой штаб Антонов–Овсеенко, направленного Советом Народных Комиссаров на борьбу с контрреволюцией, имел специальное задание: противостоять выступлению с Дона войск атамана Каледина и генерала Корнилова. Антоновские группирования – под командованием Сиверса, Берзина и Ховрина – вместе с 30–м полком и харьковскими красногвардейскими отрядами Руднева вели военые операции под Курском и под Белгородом, под Чугуевом и Сажным, под Томашевкой и Синельниковом. В Харькове количественный перевес оказался у войск Центральной рады – и это ставило под возможный удар самое центральную украинскую советскую власть: гайдамаки и «вильные козаки» подходили уже к Лозовой, перерезали железнодорожный путь и под Люботином.
Части Центральной рады в Харькове необходимо было обезвредить во что бы то ни стало, и возможно скорей!
2
Руководство военными делами Народный секретариат Центрального исполнительного комитета возложил на Юрия Коцюбинского.
Виталий Примаков с головой ушел и пропагандистскую деятельность. Он выступал на всех митингах в войсковых частях; не пропускал ни одного многолюдного собрания харьковчан – рабочих, интеллигенции, студентов; но наиболее рьяно отдавался он литературной работе. Еще с третьего класса гимназии Виталий прославился тем, что в тетрадях по арифметике писал стихи, а вместо латинских экстемпорале – этюды в прозе для будущих, так сказать, больших полотен. По диктанту он всегда, имел только пятерки и мечтал поскорее дожить до седьмого класса, когда по программе гимназического курса словесности, после надоевших «переложений», проскочив через скучную схоластическую «хрию», получит право писать сочинении на «вольную тему». К сожалению, когда дело дошло до «сочинений», шестнадцатилетнему Виталию пришлось с гимназией распроститься и отправиться по этапу в ссылку в сибирское сельцо Абан… Своего любимого дела Примаков не оставлял и теперь; в его солдатском вещевом мешке кроме смены белья лежали только еще два предмета, тетрадь и карандаш. Примаков мечтал стать писателем. Таким, как его литературные кумиры – Антон Павлович Чехов, Владимир Галактионович Короленко или Михаил Михайлович Коцюбинский. Революция только начиналась, и Виталий решил наперед: увековечить своим пером историю революционной борьбы на Украине.
И вот между Юрием Коцюбинским и Виталием Примаковым, друзьями с малых лет, а теперь – руководителем по военным делам первого украинского советского правительства и руководителем массово–агитационной работы в масштабах целой республики, – произошел такой разговор.
– Виталий, – сказал Коцюбинский, – ты дорвался–таки до своего любимого дела: каждый день печатаешь статьи, фельетоны, а то и стихи в газете. Да и речей на митингам произносишь в день штук пять. Видно, наша «школа красноречия» пошла тебе на пользу, но…
«Школу красноречия» Коцюбинский с Примаковым организовали еще в четвертом классе гимназии – чтоб совершенствоваться в ораторском искусстве и овладевать «литературным стилем». Позднее, в пятом классе, кружковцы–гимназисты уже изучали «Капитал» и «Коммунистический манифест». В шестом уже руководили подпольными революционными кружками на черниговских фабриках.
– Но пойми, Витька, жизнь требует от нас другого…
– А чего именно? – полюбопытствовал Виталий. Напоминание, о детской игре в «школу красноречия» его задело, и потому он поспешил и сам подкусить: – Вижу, что тебе «школа красноречия» на пользу не пошла: не умеешь членораздельно высказаться и точно изложить свою мысль.
На подшучивание Виталия Юрий внимании не обратил.
– Дело обстоит сейчас чрезвычайно серьезно: если не обезвредим частей Центральной рады, то…
– Понятно, – прервал Примаков: он не любил долгих разглагольствований. – Сегодня же начинаю организовывать группы агитаторов, которые разошлю по всей Украине в воинские части Центральной рады. Что касается украинских частей здесь, в Харькове, то мне посчастливилось уже распропагандировать один курень…
– Один курень! Пропаганда!.. Нам надо их разоружить! И возможно скорее!
– А если они… сами себя разоружат?
– Это шутка? Поверь, сейчас она неуместна.
– Нет, не шутка! И… неуместно то, что ты не можешь этого понять: распропагандированная сотня разоружает остальные сотни в полку.
– Соблазнительно, но… – Коцюбинский иронически улыбнулся, однако тут же недоверчиво спросил: – А какой ты имеешь в виду курень?
– Третий курень бывшего Двадцать восьмого полка – сейчас он именует себя «Второй украинский». Выступал в том курене раза три. Настроения большевистские. Подружился с несколькими казаками – наши, черниговские; есть и из моих Шуманов, даже учились у отца в школе.
Коцюбинский развел руками.
– Второй украинский! Но ведь это же оплот всего радовского гарнизона! Первый и второй курени укомплектованы исключительно офицерами! По корниловскому принципу: офицер стань солдатом – и гидру революции мы раздавим! Цвет белой гвардии!
– Вот именно! – повторил с ударением Примаков. – Белая гвардия. Первый и второй курени – одни офицеры. Третий – одни рядовые. Вот мы и имеем противопоставление классов…
– Но ведь курени в этом полку батальонного состава: по пятьсот и больше штыков!
– A разве плохо, если, разоружив и обезвредив тысячу офицеров, мы получим большевизированную часть из пятисот солдат? При помощи этого батальона разоружим Чигиринский полк – еще тысячу человек. А затем – артиллерийский запасный дивизион, автоброневое отделение, ополченские дружины и команды выздоравливающих… Тысяч тридцать всего наберется. А?
Примаков улыбался все шире и шире – весело и хитро. Юрию хорошо известна была эта улыбка друга с малых лет. Так улыбался Виталий, когда выдумывал какую–нибудь каверзу. Пускай каверза была сомнительная, но сам в себе он ничуть не сомневался.
Юрий смотрел на Виталия хмуро и недоверчиво… Заманчива была идея Примакова, однако же… сомнительна да и риск слишком велик. Справиться ли с такой задачей этому… девятнадцатилетнему юноше?
А впрочем, Юрию самому было двадцать.
А республике, которой им предстояло руководить, шел всего второй день.
Юрий тоже улыбнулся.
– Витька – подмигнул он, и в глазах его заблестели лукавые искорки. – А может, и правда попытаться? А?
3
Операция была исключительно важная, но чрезвычайно рискованная, а по характеру даже авантюристическая: Примаков решил действовать самолично один.
Товарищам он аргументировал это так:
– Действие рождает противодействие – так сказал, кажется, Карл Маркс. Если сунуться целым отрядим, могут возникнуть недоразумения: вооруженные люди не любят, когда их хотят разоружать. И, таким образом, может произойти напрасное кровопролитие. А меня третий курень хорошо знает, даже несколько приятелей себе там завел…
Примаков убеждал страстно, и коммунисты начали склоняться: обстоятельства были весьма сложные, а в сложных обстоятельствах иной раз действительно лучшим бывает… самый парадоксальный, даже фантастический ход.
Помог и Коцюбинский. Юрий тоже поддерживал примаковский, как будто бы нереальный план разоружения. Он знал: раз Виталий настаивает, значит, у нет есть для этого основания. Кроме того, Коцюбинский заранее решил: тайком, чтобы об этом не узнал Примаков, направить следом за ним группу вооруженных товарищей и самому принять над ними командование. Они укроются где–нибудь поблизости и будут наготове, чтоб прийти Виталию на помощь, если дело обернется худо.
Примаков согласился взять с собой только одного человека: «чтоб было у кого прикурить!» – весело пояснил он. И выбор его пал на матроса Тимофея Гречку. Во–первых, на съезд Советов Гречку делегировали крестьяне, а казаки третьего куреня были, как один, сельские, да многие из тех самых мест, что и Гречка. Во–вторых, Примакову понравилось, как матрос явился в мандатную комиссию съезда. Он протянул свой мандат, стал «смирно» и доложил:
– Прибыл во исполнение приказа; рапортую: декрет про землю наша голытьба взялась было выполнять, так черная сотня и белая гвардия – бей их огонь из ста двадцати орудий! – не дали: раненых семь, один убитый!..
При этом Гречка смахнул слезу, хлюпнул носом, застеснялся своей неуместной для матроса чувствительности и счел нужным сказать в оправдание:
– Потому как дружок сызмалу… Герой–фронтовик… Доблестно прикрывал своим телом революцию, пока, мы все деру давали…
Словом, Виталию пришелся по душе горячий и мягкий сердцем матрос. К морякам Виталий вообще питал слабость. «Если не выйдет из меня писателя, – решил он еще подростком, – стану матросом, пущусь в океан, покорять стихии и открывать новые земли».
Вот так вдвоем – Примаков и Гречка – и отправились они на выполнение операции, как только стемнело. Путь их лежал через речку Липань к Московским казармам.
По дороге Виталий коротко изложил Гречке свой план.
– Звать тебя Тимофеем?
– Тимофеем.
– А меня Виталием. Так вот, Тимофей: разоружать казаков нам ни к чему – свои хлопцы, сельская голытьба, вроде как ты. Заведем с ними душевный разговор: я скажу, и ты слово подкинешь: спросит – я им отвечу, а ты добавишь от себя. Думка, у нас такая: создала Центральная рада себе войско «вильных козаков», а мы из них должны сделать наше, большевистское червоное козачество. Уясняешь?
– Уясняю, так точно.
– Только наших хлопцев там – один третий курень, а первый и второй – черная сотня, белая гвардия, контра. Очевидно, придется–таки нашим червоным козакам те две сотни сразу разоружить. Как? Кто его знает. Как подскажет обстановка на месте. Действовать надо будет решительно. Ясно?
– Так точно.
– Ты коммунист, товарищ Гречка?
– Никак нет… – Гречка подумал минутку и добавил: – Пробовал себя к разным партиям определить, потому искал – где народ; украинские эсеры звали, в анархисты примеривался вписаться. Так фертики же всё! И про землю крестьянам ничего толком не говорят… Думка у меня такая: как нарежем мужикам земли, установим мир и тот социализм, так и подамся в коммунисты.
В казармах светилось: полк только еще готовился ко сну. Часовой у ворот свободно пропустил Примакова: караул сегодня нес третий курень. Только спросил про Гречку:
– А это что еще за цаца такая – в клешах и ободранном бушлате?
– Матрос, не видишь, что ли? Мореплаватель революции! – весело ответил Примаков. – Прибыл с флота передать придет землякам, сам – из наших мест.
В казарме третьего куреня только что закончили вечернюю поверку оружия. Надраенные винтовки так и сверкали в козлах у стены, казаки «вольготничали» перед сном: кто чистил сапоги, кто пришивал пуговицу, кто резался в «очко».
– Здорово, хлопцы! – крикнул Примаков, входя.
– О! Наш агитатор пришел!.. Эй, шумановские, где вы? Ваш учителев сынок снова заявился!.. Архип, Касьян, сыпьте сюда, у вас же были вопросы!.. Какие там новости в божьем мире, пане–товарищ агитатор?.. Про международное положение будете говорить или про мужицкие дела?..
Примаков примостился у столика дневального – поближе к выходу и к козлам с винтовками. Его сразу окружили – и земляки–щуманцы, и те, у кого набрались неразрешенные вопросы насчет жизни и революции, и просто любопытные, которым наскучило однообразие казарменного бытия.
– Еще земляка привел вам, полещука, – кивнул Примаков на Гречку, – видите, какой бравый матрос дальнего плавания? Из Бородянки, под Киевом. Бородянские есть?
Бородянских в курене не обнаружилось. Правда, отозвался один:
– Из Бабинцев я, От Бородянки недалеко. В воскресенье на ярмарку в Бородянку ходим. И скотину пасем поблиз бородянских, тоже на Шембековых лугах…
– О! – Примаков начинал всегда с шутки. – Выходит, коли не родичи, так свояки: один кровосос из вас соки тянет!
– Уж это кровосос! – согласился бабинецкий. – На десяти тысячах десятин людской кровью напивается… Да когда бы только он один! А то ведь окромя него еще живоглоты – на сорока десятинах сидят: управитель Савранский да мироед Омельяненко…
– Акулы капитализма! – мрачно констатировал Тимофей Гречка.
Это было его первое слово, и знакомство состоялось. Гость был принят радушно: живоглотов, кровососов, акул капитализма тут промеж мужиков–казаков недолюбливали.
– А чего же вы, матросы, коли уж такие герои, – раздался задорный и насмешливый голос в толпе, – да не тряхнули как следует нашего десятитысячника? Может, вытряхнули бы себе по четвертому аршину на могилку?
– И еще есть вопрос, – послышалось с другой стороны, – за кого будет флот в настоящий момент, за большевиков или за Центральную раду?
– И что это за новое правительство взялось? Туточки же в Харькове? Какой–то «центральный» да еще «исполнительный»?
– И за кого оно будет? За Украину или против?
– Минуточку, земляки! – остановил их Примаков. – Вопросы, как и положено, потом, под конец! А сейчас давайте сюда поближе: имею к вам серьезный разговор…
Через головы казаков, что толпою окружили его с Гречкой, Виталий просил косой взгляд на входную дверь. Движение было понятно без слов: агитатор намерен сообщить какую–то важную новость, но опасается, чтоб не застукал пан старшина, – новость, очевидно, была только для солдат.
– Эй, дневальный! – закричали несколько голосов, – Исполняй службу! Стань, будь другом, по ту сторону дверей, в коридоре, и последи, как бы пан сотник не вышел на прогулочку перед сном.
– Да сотник в первый курень подался: там у них на гитаре играют и водочку, верно, цедят: под вечер, видели, девицы туда к панам старшинам пришли.
– Все равно! Остерегаться надо! Иди, дневальный, иди!..
Сторожевой пост выставлен, все плотно сбились вокруг, с любопытством поглядывая на Примакова.
И тогда состоялся такой разговор.
– Сам имею к вам вопрос, казаки, – начал Примаков, – Вопрос серьезный! Можно сказать – как на духу… Смекаете, братцы! Коли всерьез откачать не хотите, скажите наперед – и спрашивать и буду…
– Да уж спрашивай! – зашумели к толпе казаков. – Чего выламываешься, как перед танцем! И пугать нечего – уже пуганые!
Однако все придвинулись еще ближе, и сотни глаз впились в Примакова. Задние, чтоб лучше слышать, забрались на койки.
– Кто вы есть, казаки? – спросил Примаков, – Украинцы вы или не украинцы?
– Фью! Украинцы, известно. Малороссами до революции прозывали. А хохлами и теперь дразнят – которые несознательные, контра.
– Так за Украину вы или против Украины?
– Известно, за Украину! Еще спрашивает…
– А на какую такую Украину, разрешите вас спросить?
– За ту самую, которая и есть Украина!
– За державную Украину или чтоб под чьей–нибудь чужой рукой пропадала?
– За державную!.. Никого над собой не хотим!
– А кто чтоб в той державе правил, желаете?
– Тьфу! Надоел со своими вопросами. Правительство чтоб правило, понятное дело!
– А какое правительство? Из тех, что по десять тысяч десятин имеют, по тысяче, по сорок или только по три аршина после смерти?
– Ишь как завернул! Да это ж каждому младенцу понятно: демократия чтоб была! Что ты про пустое допытываешься. Земля – крестьянам, фабрики – рабочим? Каждому понятно! Ты говори толком, про что серьезный разговор у тебя?
– Вот это он самый и есть, серьезный разговор, – уже без улыбки проговорил Примаков и прихлопнул ладонью по столу. – Потому что это я нас спрашивал, а сейчас и ответ будет…
Примаков встал с табурета, присел на край стола и стал загибать пальцы на руке:
– Не украинцы вы, казаки, и даже не казаки! Это раз. Потому что «казак» означает вольный человек, а вы над собой пана иметь желаете.
– Чур на тебя! Что он мелет? Да ты подожди…
Но Примаков не желал ждать и всё загибал пальцы:
– Не демократы вы, не за правительство из своих людей, рабочих и крестьян, потому что допускаете, чтоб вами и дальше правили буржуи…
Теперь загудели сразу все: слова Примакова задели за живое. А Примаков улыбался. Потом, когда уже понеслось и «что он нам мозги забивает» и «пускай не гавкает, коли с добрым словом пришел». Примаков поднял руки, призывая к тишине.
Когда кое–как утихомирились, Примаков сказал:
– Отрапортуй им, Тимофей, как в пятницу ваши бородянские делили десять тысяч десятин графа Шембека. Только коротенько, одни факты, без агитации: народ же наагитированный по самое горло!..
И Тимофей Гречка рассказал.
Слушали его молча, сердито понурившись. Ведь у каждого осталась в деревне семья – на десятине, на морге, а то и совсем без земли, в батраках… А оно вон что творится дома на селе… Ведь мечталось – революция, новая жизни по справедливости, отвоюемся, дернемся домой и станем хозяйничать на земле, которой революция наделила.
Когда рассказал Гречка, как Вакула Здвижный – инвалид, ветеран царской войны, – на заду по земле ползая, прикрывал отступление и жизнь свою положил, казаки сняли шапки, чтоб почтить намять.
Гречка закончил так:
– И вот, братишки, понятное дело, я – матрос, вы – по сухопутью. Значится, разного, выходит, рода войск. Да одно и то же – солдаты мы все, под присягой люди. А кому присягали? Царю Николаю. За его распроклятую войну проливали кровь, буржуям и капиталистам на корысть, матери ихней из ста двадцати орудий!.. Керенскому потом присягали – затем, что надеялись: правда настанет теперь и нарежут крестьянам землю. А он, ирод, что? Базарное трепло, и всё тут! Ни тебе справедливости, ни тебе свободы совести, – разве ж это революция? А еще присягали кому? Генералу Корнилову присягали! Так он, сукин сын, смертную казнь нам вернул! Теперь на пару с атаманом Калединым поднял вооруженную руку против Совета Народных Комиссаров – только потому, что большевистские комиссары за мир и за землю крестьянам, ну, и фабрики – рабочим, понятное дело! А кому же мы присягнули теперь? Центральной раде! Вот она, ваша Центральная рада: хуже контры Корнилова, брехунца Керенского да самодержца Николки над людьми издевается… Кровь нашу проливает, в землю нас вогнать хочет…
Гречка не привык много говорить и потому мялся поначалу, однако потом как разошелся, уже и окончить не мог: должен был излить душу перед народом. Казаки не прерывали его, слушали с вниманием: Гречкины слова проникали им прямо в сердце. Но Примаков был начеку: только Гречка снова заговорил про землю, он и от себя ввернул словцо:
– Центральная рада как раз сейчас свой земельный закон готовит: не сегодня, так завтра утвердит его на сессии…
Казаки насторожились: всем интересно послушать, какой же будет земельный закон. В казарме стало совсем тихо.
Примаков бросил небрежно:
– Что ж, нечего сказать – демократический готовит Центральная рада чакон…
– Ну, ну? Какой же! Говори! – послышались нетерпеливые голоса.
– Забирает Центральная рада землю у помещиков…
– Забирает? Ишь ты! Хлопцы, слышали? Таки забирает…
– Забирает и – по–божески, по–христиански: не задаром, а наличными панам денежки выложит на стол – тысячи и миллионы…
– Ишь ты! Ов–ва! А где ж Центральная рада такие деньги возьмет? Это ж гора денег будет – на все помещичьи имения заплатить!..
– Миллионы и миллиарды! – Примаков поднял плечи и развел руками. – A взять ей где же? Негде ей взять. С народа тянуть будет – подати на крестьян и рабочих наложит: будет вам до смерти что платить – и детям вашим, и внукам, и правнукам…
По казарме прокатился гул.
– Шиш! А это видела! – закричали те, что погорячей. – Разве на то революция?
– Как для кого, – спокойно ответил Примаков. – Для Центральной рады, видно, как раз на то…
– А куда ж она, Центральная, ту землю поденет? – кричали любопытные. – Это ж земл, земл – вся страна!
Примаков опять пожал плечами:
– Известно, куда: людям продаст – вам же хлеборобам, крестьянам. Вы же ее и купите…
– Эк! Да откуда ж у нас деньги?
Примаков махнул рукой:
– А это у как знаете: нет у вас денег – будете без земли!
По казарме понеслись возгласы протеста и возмущения.
Примаков добавил еще:
– Не печальтесь! Деньги найдутся! Как думаешь Тимофей, у управителя Савранского или мироеда Омельяненко найдутся денежки?
Гречка только плюнул в сердцах.
Примаков кричал, перекрывая общий гомон:
– Вот так и будет: найдется полсотни Савранских и Омельяненок, и поделят они между собой – десятин по сто или по двести на брата – земли графа Шембека или графини Браницкой… «Демократическая, как видите, Центральная рада: большого пана снимет с земли – будет из него просто крупный буржуй, станет торговать–наживаться на те денежки или заводы ставить и прибыль получать. А вместо него сядут паны поменьше – зато полсотни, а то и сотня на место каждого большого пана – на вашем же, товарищи казаки, мужицком горбу…
Теперь уже Примаков, хоть и какой был у него голосище, перекричать их не мог. Казарма гудела, казарма ходила ходуном – даже стекла в окнам дребезжали.
Собственно говоря, на этом митинг и закончился. Необычный митинг – темной ночью, в самом сердце расположения врага, и полтысячи винтовок поблескивают рядами в козлах вдоль стены.
Под самый колец, когда казаки уже хватались за оружие, Примаков успел еще бросить:
– Вот какое государство буржуев и кулаков готовит Центральная рада!.. Вот за какую Украину хочет вести вас Петлюра против Советов Народных Комиссаров… Вот какие вы украинцы да казаки: буржуйские наймиты и кулацкие подпевалы…
Дальнейший ход событий точно соответствовал фантастическому плану Примакова. Казаки разобрали винтовки и прежде всего кинулись в помещение офицерского собрания, где в это время старшины полка «играли на гитаре и цедили водочку с девицами из города». Затем третий курень окружил корпуса первого и второго куреней. Офицеры–рядовые не успели даже взяться за оружие: тысяча белогвардейцев была разоружена в течение какого–нибудь часа.
Так миновала ночь.
А наутро третий курень, которой уже именовался «первым куренем червоного козачества» и избрал своим командиром «агитатора от Центрального исполнительного комитета» Виталия Примакова, – построился в колонну и зашагал в город. Впереди куреня шел полковой оркестр. «Интернационал» музыканты исполняли еще неважно – до сих пор их учили играть «Ще не вмерла» и «Не пора». Да не беда – червоные козаки выводили голосом пролетарский гимн, а флейты подтягивали песне. С пением «Интернационала» первый курень червоных козаков продефилировал по улицам – город только просыпался, горожане открывали окна, выбегали на балконы неодетые, несмотря на снег и мороз, и глядели, ошарашенные: что такое происходит на свете?
А курень прошел центром города и направился по Московской улице, прямо в заводские районы, на Петинку. Сотни красногвардейцев уже дали харьковские заводы и железнодорожные депо для борьбы против Каледина и Корнилова, но пролетарской революции все еще была мало: Центральный исполнительный комитет Украинской советской республики решил снова призвать харьковских пролетариев к оружию и влить их в первый курень украинского советского войска – сцементировать пролетарскими кадрами украинское красное казачество. Завтра курень должен был превратиться в полк.
Матрос Тимофей Гречка тоже записался в червоные козаки. Понятное дело, обидно менять морское раздолье на сухопутную снасть, но это ж – для революции: за землю крестьянам, за волю рабочим, за мир в мире, за этот самый социализм. Отвоевались за царя на морях, повоюем за народ на сухопутье. Народ же на суше, а не в море живет. Да и пробиться домой, в свою Бородянку, к исполнению обязанностей председателя ревкома, чтоб вызволить народ из–под буржуйской Центральной рады и закончить раздел земли, – разве не надо?.. Гречка шел правофланговым в первой сотне.
Впереди куреня, сразу за красным знаменем, шли Виталий Примаков и Юрий Коцюбинский. Примаков шагал, лукаво ухмыляясь, игриво подмигивая девушкам, на звуки музыки выбегавшим из дворов.
Коцюбинский был задумчив, озабочен – руководителю военных дел молодой республики было о чем думать и о чем заботиться, но веселая улыбка то и дело озаряла и его лицо. Хорошо было на душе у Коцюбинского.
Когда толпа рабочих у паровозостроительного завода встретила курень под красным знаменем дружным «ура», Юрий толкнул Виталия локтем:
– Слышишь, Витька? Жаль, что нет с нами Оксаны…
– Оксаны? Почему – Оксаны? – так и вскинулся Виталий. И сразу вспыхнул, закраснелся как девушка.
В Оксану, сестру Юрия Коцюбинского, тоже юную большевичку, как и все дети украинского писателя Михаила Михайловича Коцюбинского, Виталий был влюблен с четвертого класса гимназии. Ей посвящал он первые стихи. Собственно, эта детская влюбленность и толкнули его – без оглядки – в поэтическою стихию. Ну, а революционное сознание развивали они с Юрием и Оксаной вместе – в гимназических, а потом в рабочих подпольных кружках… Вот только мечтал – теперь бы за перо и писать, писать… хотя бы и историю революции на Украине. А пришлось… браться за оружие. Ну что ж, Примаков взял в руки винтовку, но хранил и перо в своем солдатском вещевом мешке.
4
Разговор был нестерпим для обоих, но без него уже нельзя было обойтись.
Начал Саша Горовиц. Саша пришел к Евгении Богдановне возбужденный, расстроенный и бухнул сразу:
– Ты себе, как знаешь, Богдановна, ты – на высоком посту в республике… – Сашины губы искривила чуть ироническая усмешка. – Республики, правда, еще нет.., но я так больше не могу…
– Что именно, Саша, не можешь?
Евгения Богдановна подняла на Горовица утомленные, покрасневшие от долгой бессонницы глаза. В Народном секретариате Бош исполняли обязанности секретаря внутренних дел: хлеб, жалобы населения, порядок в городе, борьба с контрреволюцией, возня с группами украинских эсдеков и эсеров, которые откололись от своих партии и то поддерживали украинское советское правительство, то опять начинали фракционную борьбу.
– Я болтаюсь тут без дела!
– Ну что ты, Саша! – искренне удивилась Бош. – Ты выступаешь на митингах по десять–пятнадцать раз на день!
– Это не работа! Это… Словом, я признаю, что был неправ, и теперь целиком разделяю твои позиции.
– То есть? О чем речь, Саша?
– В Киеве, надо поднимать восстание! Завтра же!.. И мы должны быть там! Что касается меня, то я еду туда сегодня…
Евгения Богдановна молчала.
– Ты была права, – горячо воскликнул Горовиц. – Только ты и была права! Мы все оказались верхоглядами, оторванными от жизни… теоретиками! – Саша фыркнул, вкладывая в слово «теоретики» максимум презрения. – Безмозглыми фразеологами! А ты смотрела на вещи реально. Я с тобой, Богдановна! За восстание!
Бош прижала пальцы к вискам – до чего же болела голова, потом привычным жестом заложила прядь седеющих волос за ухо и произнесла тихо, глядя Саше в глаза:
– Но, Саша, теперь я… против восстания в Киеве…
– Что?!
– Я против восстания.
Горовиц, присевший было на краешек стула, снова вскочил и опять сел:
– Но ведь ты…
– Да, я горячо отстаивала киевское восстание. Но это было тогда, когда мы имели силы, чтоб победить, А теперь мы таких сил не имеем. После петлюровской авантюры в Киеве осталась разве что Красная гвардия – горсточка против многочисленного радовского гарнизона!
– A Второй гвардейский корпус! Ты ведь опять ездила к ним: он готов! И Крыленко дал согласие двинуть его на Киев!
– Второй гвардейский не в силах нам сейчас помочь: его передовые отряды тоже сейчас разоружены радовскими войсками под Жмеринкой и Винницей, а главные силы скованы там корпусом Скоропадского… Думаю, – добавила Бош с грустной улыбкой, – прежде чем решиться на восстание в Киеве, придется поднимать восстание в Виннице, и лишь тогда…
Горовиц вскочил:
– Я еду в Винницу!
Он стал быстро перебирать пальцами пуговицы, застегивая свою студенческую тужурку, словно готовился со всех ног бежать на вокзал. Он застегнул все пуговицы до самого верха – ведь на дворе стоял мороз, а шинели у Саши не было.
– Садись!
Горовиц вспыхнул:
– Я еду в Винницу! Сейчас же! А оттуда – в Киев.
– Сядь!
– Ты не имеешь права меня задерживать!
– Ты поедешь, когда тебя пошлет партия. А восстание будем поднимать тогда, когда будет на то решение… нашего правительства: Центрального исполнительного комитета…
Горовиц покраснел.
– Рано вам… нам, – поправился он, – становиться… бюрократами: революций не делают резолюциями!
– Но поздно, – прервала его Бош резко, – тебе, Саша, проповедовать стихию и анархию!..
Вдруг Евгении Богдановна положила Свои руки на Сашины и мягко пожала их.
– Саша! – голос ее звучал ласково, но во взгляде светилась мука. – Мы стали на неверные позиции… Собственно, я говорю о себе: мои позиции неверны…
– О чем ты, Евгении?
– Помнишь, еще не так давно – не когда–то там, до ленинских Апрельских тезисов, когда, все мы… витали в эмпиреях, а совсем недавно, третьего декабря, на нашем областном съезде, когда я делала доклад об организации Центральной власти на Украине, я твердила: в эпоху финансового капитала, национальное движение перестает быть революционным, перестает быть народным… – Болезненная усмешка искривила губы Евгении Богдановны. – Ты иронизировал, Саша: «Теоретики! Фразеологи!» Это ты обо мне говорил!
– Ничего подобного! – Горовиц замахал руками. – Это я о себе! Я совсем не имел в виду тебя! Я…
– Должен был иметь! – жестко оборвала. Бош. Она снова сжала, ладонями виски. – Эпоху финансового капитала я увидела, а где начинается социалистическая революция… не разглядела. Не поняла, что освободительная национальная борьба становится контрреволюционной как раз в том случае, если пустить ее мимо наших, большевистских рук, вне русла интернационалистической социальной борьбы. Верхогляды и теоретики – это ты верно сказал, Саша! Погрязли мы в эмиграции в партийных дискуссиях и оторвались от жизни народа! – Евгения Богдановна стукнула кулаком по столу, потому что ей показалось, будто Горовиц хочет возразить. —Не увидеть, где Украинская центральная рада, а где – украинский народ! Это же означает, Саша, отождествлять их и фактически… стать на позиции отрицания права нации на самоопределение! И, пожалуйста, не возражай, потому что ты не имеешь на это права: ты тоже запутался в убогих теоретизированиях и впал в другую крайность – призывал к единому фронту с Центральной радой только потому, что она единственный орган, который представляет национальное движение!.. А если народ еще не успел создать своего органа? Значит, надо, чтоб народ создал его! И разве не партия должна бороться за это? Слепцами были мы с тобой, Саша: ты – на один глаз, я – на другой!.. Кидались сюда, кидались туда – члены одной партии! А массы… Они были дезориентированы…








