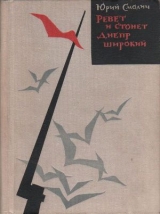
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 62 страниц)
ЗАВТРА
1
И вот они наконец пришли.
Буг остался позади, миновали и бесконечные кварталы Заречья, перед ними был пивоваренный завод Вахневского, а наискосок и крошечный старосветский домишко с крыльцом под высоким ветвистым дубом!
Здесь и проживал Николай Павлович Тарногродский.
В окошечке, выходившем в палисадник, мигал огонек.
– Отец еще не спит, – сказал Коля. – Он всегда поджидает меня, даже если я возвращаюсь под утро. Сколько раз я уже отчитывал его за это!
– Кто еще с вами живет? – спросила Бош.
– Вдвоем живем. Когда отец на работе, я варю кондёр. Я мотаюсь по митингам – он варит. Так и живем…
Бош и Тарногродский падали с ног от усталости – они еле прошли эти последние сто шагов через улицу, и пока Коля возился с ключом у замка, Евгения Богдановна присела здесь же, на ступеньках крыльца.
Хлопотливым и трудным был этот день, а ему предшествовала бессонная, напряженная ночь: выступления по батальонам Пятнадцатого полка; митинг в вятской дружине, несшей охрану боеприпасов Юго–Западного фронта; собрания у авиаторов фронтовой эскадры «воздушных кораблей», у самокатчиков, пулеметчиков и в оружейных мастерских; потом – заседание исполкома Совета в «Мурах» и выборы ревкома; наконец, в Народном доме – пленум Совета, который едва не закончился арестом Бош.
Ночь стояла безлунная, но там и тут мерцали звезды, и можно было увидеть, что делается вокруг. Какой типично провинциальный пригород! Хатки–мазанки, крытые гонтом или соломой; сараи и амбары, плетенные из лозы, совсем как в селе; густые вишняки и стройные тополя, выстроившиеся вдоль дороги.
Евгения Богдановна поглядывала вокруг, а в голове у нее все еще стоял шум, и тысячи обрывков пережитого и увиденного за этот день, тесня и заслоняя друг друга, возникали и исчезали в ее утомленной памяти.
Итак, Военно–революционный комитет создан. Меньшевики и эсеры оказывали бешеное сопротивление, и все же в состав ревкома вошли только большевики. Выборы происходили в «Мурах» – на территории крепости времен гетмана Хмельницкого, обнесенной толстой каменной стеной с угловыми башнями, в мрачных, под тяжелыми готическими сводами, подвалах бывшего иезуитского монастыря. Необычайный, уж никак не современный антураж вовсе не вязался с теми уж слишком современными словами – о революции, пролетариате и социализме, – которые звучали теперь под сводами подземелий, где три века тому назад бряцали мечи и кольчуги и раздавались призывы к походу за веру православную. И одновременно – не тогда, три века, назад, а сегодня, когда избирался ревком в ожесточенной схватке между меньшевиками и большевиками, – сверху, из помещения гимназии, расположенной теперь в верхних этажах древнего замка, доносилось благолепное пение – «Возбранной воеводе победительная»: была суббота, и в домовой гимназической церкви служили вечерню. И это православное песнопение то и дело перебивало кантаты другого хора – «Аве Мария» – из костела, возвышавшегося тут же, на подворье замка, дверь в дверь против входа в подземелье, где некогда пытали людей огнем и посыпали им раны солью, а теперь происходило заседание исполкома; в костеле тоже шло вечернее богослужение.
«Возбранной воеводе победительная» и «Аве Мария» вслед за дружными возгласами «Да здравствует диктатура пролетариата!» – все звучало и звучало в утомленной памяти Евгении Богдановны.
Тарногродский, наконец, управился с замком.
– Ты уснула, Евгения Богдановна? – спросил он шепотом, чтобы не испугать Евгению Богдановну, если она уснула. – Пошли. Я сейчас приготовлю чай, и ляжешь спать. Чай, правда, морковный! И без сахара. Хлеба тоже нет – сухари. Коля говорил весело и бодро, даром что сам еле держался на ногах. Потому что – победа! И ревком создал, первый на Украине ревком; и Пятнадцатый полк дал согласие двинуться на поддержку киевских пролетариев: солдатская масса была настроена по–большевистски, а во главе полка, стал командир–большевик, поручик Зубрилин. Правда, повозиться пришлось с другим: полк отказывался идти на фронт, поэтому оружие ему не выдавали, – и пришлась Тарногродскому с Бош агитировать охрану складов фронтового боепитания захватить склады и раздать солдатам винтовки с патронами.
2
Они вошли в комнату на цыпочках, чтобы не разбудить Колиного отца, но предосторожность их была излишней: отец стоял за порогом в горнице и укоризненно качал головой, взглядом указывая на часы–ходики на стене – стрелки приближались к трем часам.
Свет от керосиновой лампочки падал прямо на лицо старика, и хотя Бош впервые в жизни видела отца Тарногродского, его лицо показалось ей удивительно знакомым.
– Знакомьтесь, тато, это моя… знакомая, – рекомендовал Коля потупясь: тихий Коля стеснялся знакомства с женщинами, и если уж приходилось ему идти вдвоем с женщиной, то всегда старался держаться от нее на некотором расстоянии. – Она переночует у нас, в горнице на диване. Ей, понимаете, некуда деваться, – добавил Коля и окончательно покраснел.
– Рад… прошу, – откликнулся старик и пожал руку Бош, однако это сделал он как–то официально, с холодком.
Евгения Богдановна окинула взглядом комнату и сразу поняла, почему таким знакомым показался ей старый почтовый служащий Тарногродский. Прямо против двери на стене висел большой, в рушниках, портрет Шевченко. Старик Тарногродский был очень похож на портрет Тараса Григорьевича: такие же усы книзу, такая же лысина над высоким лбом, и выражение глаз было такое же: грустное, ласковое и проникновенное.
– Прошу сначала на кухню, – пригласил старик, – чай горячий, гречневая каша тоже в духовке… еще с вечера, – он вздохнул и еще раз неодобрительно посмотрел на стрелки часов. – Вы уж не взыщите, если каша подсохла. Я ее сейчас разогрею…
– Да вы не беспокойтесь, тато! – заторопился Коля. – Мы сами все найдем. Ложитесь спать. Да и ели мы уже… кажется, не так давно.
– Ну, это ты врешь!
Евгений Богдановна тем временем рассматривала комнату. Чисто выбеленная комнатка, с маленькими окошечками, была обставлена просто, но выглядела удивительно уютно. Кроме портрета Шевченко, на стенах не было ничего, обыкновенные деревянные скамьи–топчаны вдоль стен были покрыты красочными полосатыми подольскими «ряднами»; такие же, только более узкие, дорожки были постланы от двери к двери по крашеному, сверкающему восковой натиркой полу. По углам возвышались камышовые горки, на нижних полках тесными рядами стояли книги, на верхних – множество разнообразных гончарных изделий, расписанных узорами украинского народного орнамента.
– Как у вас мило! – не удержалась Евгения Богдановна. – И эти коврики и глинянки – вот бы увидеть Юрию Коцюбинскому! Он души не чает в изделиях народных умельцев!
Очевидно, старику приятно было это услышать, но он из вежливости не выразил своих чувств, лишь кашлянул и указал рукой на дверь:
– Прошу, милая барышня!
Тарногродские разговаривали между собой только по–украински, и Коля, снова застеснявшись, словно бы извиняясь, сказал:
– Уж вы, Евгения Богдановна, не осудите; отец прибегает к русскому языку только при исполнении служебных обязанностей, у себя в почтовой конторе, да и то лишь в разговорах с высшим начальством; к персоналу младшему по служебному положению он даже при царе Николае обращался исключительно по–украински. – Коля улыбнулся. – Русским, польским и еврейским языками отец владеет тоже в совершенстве; по–еврейски он разговаривает с соседями–евреями, по–польски – со знакомым поляком, а русский оставляет преимущественно для изящной словесности: мой старик знаток и любитель не только украинской, но и русской литературы.
– Помолчи, Микола, – отозвался старик Тарногродский у печи, где он возился с кастрюлями, – я не нуждаюсь ни в защите, ни в оправданиях. Изъясняюсь на языке моих отцов и уважаю языки моих ближних. Если же барышня не понимает по–украински, могу вести с ней разговор и по–русски.
– Ну что вы! – живо возразила Бош. – Я чудесно понимаю украинский язык! Ведь я очаковская, и детство мое прошло преимущественно на Украине или в Молдавии… Правда, давно это было… И разговаривать по–украински за это время разучилась. Знаете, все время русские круги, далекая Сибирь, Япония, Америка, Европа: читать и разговаривать мне как–то больше приходится если не по–русски, то по–немецки или по–французски.
– Сибирь? – переспросил старик. – Америка и Европа? То есть ссылки и эмиграции? Следовательно, вы, дивчина, тоже из революционеров и, видать, из партии моего Миколы?
– Да, – улыбнулась Бош. – Из Колиной партии.
Голова Евгении Богдановны гудела, все ее тело было сковано усталостью, но в эту минуту она уже чувствовала, что какое–то необъяснимое успокоение, какая–то отдохновенность начинают вливаться в ее душу и тело. Так мило и уютно было в этом доме: совсем как… дома.
Дома!.. Евгения Богдановна вздохнула. «Дома» у нее не было уже добрых двадцать лет; тюрьмы и этапы, ссылки и эмиграция… Сердце се сжалось от тревоги: как там Оленька и Маруся – в Киеве, в чужом доме? Они, бедненькие, тоже не знают родного дома с малых лет… А выезжая сюда, она даже не успела поцеловать их на прощанье…
– Из Колиной партии… – машинально повторила Евгения Богдановна и добавила: – Только прошу вас… тато, не называйте меня «барышней» или даже «дивчиной» – ведь у меня уже две дочурки…
– И большие? – полюбопытствовал старик, ставя на стол кастрюлю с дымящейся кашей.
– Не большие и не малые, а тоже уже… в Колиной партии, и даже в одной с мамой партийной организации.
– Да что вы говорите?! – Старик Тарногродский глянул с сомненьем на молодое еще лицо женщины.
Очевидно, он прочитал в чертах лица что–то такое, что его полностью удовлетворило. Он сразу отвернулся и начал громко звенеть чайными стаканами и ложечками.
Спустя минуту послышался его глуховатый голос:
– Мой Микола тоже целый год отсидел в Лукьяновке…
– Ну, тато, не стоит об этом! – запротестовал молодой Тарногродский.
– И… и так и не закончил медицинский факультет. А теперь… революция… вождь винницких большевиков в двадцать три года… мировой пожар… Где уж там до лекций или государственных экзаменов!..
– Вот Евгению Богдановну, – заговорил Коля, чтобы переменить тему, совершенно очевидно неприятную для него, – сегодня едва не растерзали юнкера, а сам комиссар фронта собирался арестовать ее и отвезти в ставку! Еле отбили!
– А что такое? – живо заинтересовался старик и возвратился к столу со стаканами, наполненными морковным чаем. Глаза его покраснели.
Коля рассказал, заканчивая кашу и приступая к чаю.
3
Дело было так. Как только Пятнадцатый полк дал согласие взять оружие и двинуться на Киев, а в «Мурах» был избран ревком, в ставку фронта понеслась депеша от начальника гарнизона: тревога! Ведь в сорокатысячном Винницком гарнизоне кроме украинизированных частей Центральной рады из корпуса генерала Скоропадского были еще части, которые поддерживали большевиков. В ответ на депешу – уже под вечер – из Бердичева, из ставки фронта, прибыл экстренный поезд: сам помощник комиссара фронта меньшевика Иорданского – полковник Костицын с батальоном юнкеров – «ударников». Поезд эскортировали два бронепоезда, – спереди и сзади. Оставив бронепоезда на железной дороге, с пушками, наведенными на город и казармы Пятнадцатого полка, комиссар Костицын явился прямо на пленум Совета, проходивший в Народном доме. Костицын вышел на эстраду с бумажкой в руках, а юнкера–пулеметчики заняли все выходы из театра. Комиссар фронта зачитал приказ ставки:
«1. Немедленно отправить Пятнадцатый полк на фронт.
2. Выдать все оружие со складов фронтового оружейного запаса.
3. Арестовать руководителя Киевского областного комитета большевиков большевичку Бош и передать ее в распоряжение ставки».
С ответом Костицыну выступил только что избранный председателем ревкома, руководитель винницких большевиков, тихий и застенчивый Коля Тарногродский.
Коля бросил взгляд на пулеметы юнкеров у входных дверей, у выходов на случай пожара и в проходе за кулисы. Потом посмотрел в зал. В зале сидело свыше тысячи человек – членов Совета и делегатов от заводов «Прогресс», «Молот», суперфосфатного и от большевизированных воинских частей. Какое–то мгновение Коля еще прислушивался к звукам, доносившимся с улицы: на площади перед Народным домом и по набережной над Бугом, до самого моста, бурлила толпа солдат, рабочих и горожан, для которых не хватило уже места в просторном помещении театрального зала.
– Что же, – сказал председатель ревкома и руководитель винницких большевиков, – давайте, товарищи, проголосуем? Не предложение комиссара фронта, – широко улыбнулся Коля, – ибо его предложение сформулировано в форме приказа, а приказы военных властей не подлежат, как известно, ни обсуждению, ни тем более голосованию. Я предлагаю во внеочередном порядке проголосовать мои предложения. Прошу выслушать их внимательно – их тоже будет три, и от приказа штаба они будут отличаться лишь двумя–тремя словами. Кто будет «за», прошу поднять руку. И так…
Выдержав короткую паузу, посматривая то на нахохлившегося комиссара фронта, то на юнкеров с пулеметами, то на зал перед ним, – Тарногродский огласил три своих предложения:
– Кто за то, чтобы не отправлять Пятнадцатый полк на фронт?
Поднялся лес рук.
– Кто против?
Тарногродский насчитал четыре руки.
– Кто воздержался?
Зал зашевелился, все оглядывались, но рук поднято не было.
– Странно, – сказал Коля, – по моим сведениям, в зале самое малое несколько десятков эсеров и меньшевиков, членов пленума Совета. Следовательно, нужно считать, что они либо проголосовали «за», либо… воздержались от того, чтобы воздержаться.
Зал ответил смехом, раздались аплодисменты. Тогда Коля сказал еще:
– Кто за то, чтобы не выдавать оружие комиссару фронта из складов фронтового оружейного запаса?
Результат был точно такой же. И снова его приветствовали громкие аплодисменты.
– Кто за то, чтобы не арестовывать товарища Бош и не отправлять ее в ставку?
Тысяча рук снова взметнулась вверх, но только на миг – руки сразу опустились вниз, чтобы сотрясти зал бурной овацией. И тысячная аудитория – солдаты и рабочие вскочили со своих мест:
– Ура! Ура Коле Тарногродскому! Ура большевикам! Власть Советам!
Костицын стоял бледный, нервно пощипывая усы.
Когда овации утихли, Тарногродский, отвесив учтивый поклон, – и кто бы мог подумать, что застенчивый студент Тарногродский умел быть таким галантным! – Тарногродский обратился к комиссару фронта:
– Прошу прощения, полковник; сочувствую, но ничем помочь не могу: демократия! Раз мы так проголосовали, то вы же понимаете, что не можем выполнить приказ, который противоречит нашему единодушному решению? – Все так же учтиво Коля добавил: – И вы, конечно, понимаете, что если бы вам пришла в голову нелепая мысль – пустить в ход ваших «ударников», то ни один из них, ни тем более вы лично, не вернетесь на фронт… живым, чтобы сложить там свою голову за веру, царя и… прошу прощения – за Временное, но постоянно предательское правительство Керенского!..
Комиссар Костицын отбыл со своими юнкерами на вокзал и засел на телеграфе у прямого провода в ставку. Эскадра воздушных кораблей, самокатчики и пулеметная рота своими вооруженными дозорами окружили территорию железнодорожного узла. Пятнадцатый полк сыграл сигнал к походу и начал выводить обоз. Грозные бронепоезда Костицына отвели пушки от цели, но чехлов на стволы не натянули.
Утром нужно было ожидать новых событий или… открыть семафор для возвращения поезда комиссара фронта назад в Бердичев, в ставку, ни с чем.
4
Коля смеялся, рассказывая теперь отцу, но старик неодобрительно качал головой и встревоженно посматривал на сына.
Евгения Богдановна тоже улыбалась – теперь, здесь, в тихой домашней обстановке, тревожные события минувшего вечера казались более смешными, чем опасными. И Евгении Богдановне сейчас было так хорошо: от еды и горячего чая она даже как бы опьянела – хотелось спать, только спать, но усталость, еда и домашний уют разморили до предела, и не было силы пошевелиться. Вот так сидеть, слушать разговор отца с сыном словно сквозь туман, откуда–то будто бы издалека и блаженно улыбаться. Так бывало в детстве: устанешь за день, тебя клонит ко сну, но взрослые за столом ведут беседу – и ни за что на свете не хочется идти в постель.
– Неразумно… – бормотал старик. – Эффектно, картинно… но – неразумно… И опасно…
– Разве вы… тато, – лениво заговорила и Евгения Богдановна, – против большевиков?
Она обращалась к старику – «тато», как говорил и Коля, потому что… так приятно и уютно было произносить это слово. Ведь никогда, сколько себя помнила Евгения Богдановна, она не произносила слова «папа», «отец» – к отчиму она всегда обращалась только по имени–отчеству.
Старик Тарногродский сурово посмотрел на Бош:
– Напрасно вы так говорите… милая барышня!..
– Не называйте меня так, – попросила Евгения Богдановна, но старик пропустил мимо ушей ее просьбу.
– …милая барышня! Даже если я не разделяю платформу коммунистов–большевиков, все равно сын мой – это кровь моего сердца. – Он взглянул на Евгению Богдановну еще суровее, и густые, тяжелые брови почти прикрыли ему глаза. – Но даже если я склонен одобрять мировоззрение моего сына, все равно не могу согласиться с неосторожностью и опрометчивостью: вас кучка, а против вас – пулеметы, пушки и бронепоезда!
– Пулеметы, пушки и бронепоезда в руках людей! – весело откликнулся Коля. – А большинство людей и сейчас за нас, а вскоре будут все! Конечно, кроме реакционеров, – добавил он, – но на то ведь и классовая борьба, тато!
– Классовую борьбу я не отрицаю, – сурово оборвал старик, – и тебе это хорошо известно: впервые о классовой борьбе ты услышал, кажется, именно от меня?
– Да, отец, и спасибо вам за это…
– А вам, милая дивчина, – простите, не расслышал имени–отчества, скажу: я действительно одобряю убеждения сына. Хотя сам я уже стар и не пригоден к активной борьбе…
– Как это хорошо, тато… – начала было Бош. Но старик продолжал:
– Однако, используя право, которое дает мне мой преклонный возраст, позволю себе заметить вам: вы, большевики, действуете неверно…
– Ах, отец, – вмешался Коля, – вы снова за свое!
– Помолчи, когда говорят старшие, – сурово прервал его старик, и Коля послушно умолк. – Вы действуете себе во вред. Только та партия, которая широко раскинет свои корни на ниве народной, добьется победы и обратит эту победу на пользу народу…
– Это очень верно! – сказала Бош.
– А вы уходите от народа, пренебрегаете им!
– Ну что вы! Почему? Как раз наоборот!
– А потому… – Старик грозно взглянул на Бош, еще более грозно на сына. – Я отнюдь не упрекаю вас за тo, что вы говорите на русском языке – эта ваше неотъемлемое право, а русский язык – великий язык! Но весьма плохо, что сыну моему пришлось извиняться перед вами, руководителем большевиков на всем украинском Правобережье – я знаю, вы, товарищ Бош, председатель областкома большевистской партии, – извиняться, что, дескать, вы можете не понять, как мы с сыном разговариваем на языке народа, среди которого вы живете и которым хотите руководить, чтобы вывести его к вершинам свободной жизни…
– Тато, – снова не выдержал Коля, – вы забываете об интернационализме, о котором вы сами же твердили мне с детства!
– И мы боремся за социальное освобождение!.. – начала и Бош.
Но старик сурово продолжал:
– Нет для человечества ничего более возвышенного, чем освобождение обездоленных и осуществление идей интернационализма! Но ведь беднота украинского народа тоже жаждет социальной свободы и так же претендует на место в братстве равноправных народов!
– Но ведь, дорогой отец… – снова начала Бош.
– Помолчите и вы! – Старик грозно смотрел на своих оппонентов и говорил дальше, похлопывая рукой по столу. – Из всех партий я уважаю лишь одну партию – партию моего сына, и пускай осмелится он сказать, что это не я положил перед ним, когда он был еще в четвертом классе, «Коммунистический манифест»…
– Это правда! – сказал Коля, глядя на отца влюбленными глазами.
– И на выборах в Думу я голосовал за большевиков. Но почему же вы не поднимаете на Украине украинскую бедноту на борьбу за социальное освобождение?
– Ну что вы, тато! Именно – бедноту!
Старик Тарногродский повернулся к молодому Тарногродскому:
– Чтобы знать народ, нужно говорить с ним на его языке! Ты говоришь, я знаю. Слышу еще от одного, другого, третьего. Но разве дело только в том, чтобы вы разговаривали по–украински? Дело в том, чтобы за нами пошел тот, кто говорит на украинском языке, украинец! – Старик махнул рукой и повернулся теперь к Бош. – Украинцы в своих национальных чувствах угнетаемы веками, и эта историческая несправедливость останется бельмом на глазу у многих в народных низах; она застит свет, и из–за этого бельма они подчас не способны увидеть и великую идею социального освобождения, к которому вы хотите их повести. Чтобы повести за собой трудовой украинский народ, нужно чтобы было больше большевиков–украинцев. А вы не думаете об этом…
Коля Тарногродский молчал, уставившись в стол и рисуя что–то пальцем на скатерти. Бош тоже молчала. Она была взволнована. Усталость и сладкая истома уже оставили ее: страстная речь старика задела за живое. Он был как будто бы прав: украинцу лучше вести за собой украинцев, а среди руководителей, большевистских организаторов украинцев было… действительно маловато… Но что–то было и не так. По крайней мере, она привыкла мыслить по–другому. При любых условиях силами бедноты нужно завоевать социальную свободу, и эта победа, победа социалистической революции, откроет путь для разрешения и всех прочих тугих узлов, затянутых и запутанных господствующими классами в эпоху империализма. Узел национальных противоречий – тоже. Старик не понимал этого…
Старик еще говорил, но за своими мыслями Бош уже плохо слушала его.
И вдруг старик умолк: в окно с улицы кто–то постучал. Сначала негромко, спустя минуту – громче, тревожно.
– Кто там? – вскочил Коля.
Старик тоже приподнялся, оттеснив Колю, и подошел к окну.
– Кто такой? – сурово спросил он.
С улицы, сквозь окно и прикрытые ставни, глухо прозвучал мужской голос:
– Откройте!
Старик поднял брови – голос был для него незнакомый. Открывать или нет? Дни стояли тревожные. Да к тому же еще и ночь… Старик обеспокоенно посмотрел на сына: его сын был главным большевиком в городе, где, однако, большевистской власти не было, а, наоборот, на большевиков смотрели искоса. А тут еще юнкера – «ударники» со своими комиссарами фронта.
Коля подошел к окну и прижался ухом к стеклу.
– А ну еще раз переспросите, тато, – прошептал он, – Зубрилин! – воскликнул Коля, когда с улицы снова послышался голос.
5
Через минуту в комнату вошел Зубрилин. Он был в офицерской шинели без погон, под офицерский кокардой на фуражке – красная лента.
Коля и Бош бросились к нему:
– Что случилось, товарищ Зубрилин?
– Здравствуйте! – не забыл поздороваться с хозяином офицер. Но он был встревожен, тяжело дышал от быстрой ходьбы и заговорил сразу: – Товарищ Тарногродский, товарищ Бош! – Потом он спохватился, кивнул на старика – Я могу говорить?..
Старик сразу же сделал движение к двери, но Бош задержала его:
– Вы можете говорить, товарищ Зубрилин! Какая–нибудь беда? Костицын?
– Беда! Костицын сидит в своем вагоне, выставив охрану с пулеметами… Но по его вызову на Винницу двинулись войска из ставки… – Зубрилин взглянул на часы: был четвертый час. – Полчаса назад из Жмеринки прибыл Тридцать пятый бронеавтомобильный дивизион! Из Бердичева подходит эшелон с Тридцать вторым бронеавтомобильным дивизионом…
– Артиллерия! А у нас ведь совсем нет артиллерии!
– Да. Они, очевидно, хотят поставить город и казармы полка под угрозу пушек… Но это еще не всё. Из Проскурова двинулась артиллерийская часть Пятой казачьей дивизии. А также в полном составе Двадцать девятый и Сороковой казачьи полки генерала Каледина…
Зубрилин, молодой, только что назначенный ревкомом командир 15–го полка, кончил докладывать председателю только что созданного ревкома и по привычке приложил руку к козырьку – отдал чести. Потом вынул пачку папирос из кармана и начал закуривать.
– Считал своим долгом доложить немедленно и лично. Мои связные ждут на улице. Какой будет приказ ревкома? – Он зажег спичку, выпустил клуб дыма и спросил еще: – Что будем делать, товарищи? А, Коля?
Старик Тарногродский переплел пальцы и хрустнул суставами.
– Неужели они решатся… дать в городе бой?.. А впрочем, – он покачал головой, – теперь всего можно ожидать: такие события в Петрограде.
Бош сказала:
– Осмелятся или не осмелятся дать бой, но у них… превосходящие силы…
– Я думаю, – сказал Зубрилин, глубоко затянувшись, – что пока не может быть и речи о том, чтобы… двигаться на Киев!
Бош молчала. Молчал и Коля. Он сосредоточенно думал и грыз ноготь.
Тикали ходики, тяжело дышал Зубрилин. Старик Тарнопольский поглядывал то на одного, то на другого грустным, встревоженным взглядом.
– Не грызи ногти, – прикрикнул он на сына, – сколько раз я тебе говорил!
Коля промолвил:
– Силы нужно… по крайней мере уравновесить. Мы имеем, кроме Пятнадцатого, эскадру самокатчиков, пулеметчиков, Красную гвардию…
– Но ведь артиллерия, артиллерия! – откликнулась Бош.
– Да, артиллерия. Артиллерии мы не имеем… – Коля посмотрел на всех. – Но ведь в артиллерии тоже… люди, солдаты? Мы пойдем в части, которые прибудут…
– Нужна артиллерия! – решительно сказал Зубрилин. – Люди людьми, кое–кого мы, конечно, перетянем на свою сторону, однако же… за всех поручиться нельзя. Тем более – казаки и юнкера. Они подтягивают отборные части, верные Временному правительству.
– Артиллерия есть! – вдруг сказал Коля. – Только ее нужно привезти. И она близко, – уже загорелся он. – По селам между Винницей и Жмеринкой!
– Второй гвардейский корпус? – в один голос переспросили Бош и Зубрилин.
– Второй гвардейский. Шестьдесят тысяч штыков. И артиллерия. Тяжелая артиллерия: корпусная! И легкая, и тяжелая.
Бош схватила свою кепку, лежавшую на стуле:
– Коля! Я еду во Второй гвардейский!
– И я, – сказал Коля, – мы поедем вместе. Но нужно сначала в Жмеринку – там солдатский комитет корпуса.
– Может, по телеграфу? – подал мысль Зубрилин. Но сразу же сам и отбросил ее. – Нет, тут требуется живое слово. И говорить нужно не в корпусном комитете, а с солдатскими комитетами в частях.
– Поезд? – спросила Бош. – Когда поезд на Жмеринку?
– Ну, поезда здесь через каждые пятнадцать минут: эшелоны, товарные…
– Поездом опасно, – сразу возразил Зубрилин. – Но можно взять нашу автомашину…
– Чудесно! – Коля обрадовался. – Поехали!
Старик Тарногродский снова стиснул руки, и смотрел на сына не мигая; во взгляде была печаль, но и покорность.
Бош положила руку Коле на рукав.
– Нет, Коля, ты не поедешь! – сказала она решительно. – Ты – председатель ревкома. Ты должен быть здесь. Ты должен всем руководить.
– Верно! – подхватил Зубрилин. – Коле выезжать нельзя.
– Я поеду одна, – сказала Евгения Богдановна. – Зубрилин, ты дашь мне одного или двух товарищей, которые своим солдатским словом могут взять за живое… солдатские души гвардейцев?
Коля все еще грыз ногти, раздумывая, потом глубоко вздохнул:
– Ты права, Евгения… В такую минуту я не имею права оставить Винницу и ревком. Но ты езжай немедленно!
Зубрилин направился к двери:
– Пошли! Ты, Коля, не ходи с нами. Я оставляю с тобой живую связь. И всех членов ревкома буду направлять сюда, к тебе. Можно?
– Пожалуй, так будет лучше всего, – согласился Тарногродский.
Затем он подошел к Евгении Богдановне, которая надевала свой солдатский полушубок и натягивала на голову клетчатую кепку.
– Желаю тебе успеха, Евгения! Возвращайся непременно с артиллерией… да и пехотой тоже. Потому что – кто знает, что будет завтра?.. – Он улыбнулся. – Нам нужно идти на помощь Киеву. А тем временем, – он еще раз улыбнулся, – помоги Виннице!
Они крепко пожали друг другу руки, и Коля покраснел:
– Береги себя…
Старый Тарногродский тоже подошел ближе. Он взял Евгению Богдановну обеими руками за плечи.
– Берегите себя, товарищ, – сказал он, – береги себя, доченька…
6
Тем временем на съездах – казачьем и войсковом – взаимоотношения были выяснены окончательно: оказалось, что они между собой не друзья, а враги.
Донцы спорили три дня, и пришли к выводу:
«Раз на территории Украины расположена сейчас половина полков Войска Донского, то донские казаки не могут отнестись равнодушно к положению на Украине. Поэтому власть в Киеве съезд представителей донских полков должен взять в свои руки. Съезд будет действовать в полном контакте со штабом военного округа и комиссаром Кириенко, всемерно поддерживая и отстаивая всероссийское Временное правительство».
На войсковом съезде поднялась буча. Делегаты кричали:
– Империализм! Днепр тут течет или Дон? Украина здесь или область Войска Донского?
И войсковой съезд тоже постановил:
«Времена коалиционных правительств миновали… У нас есть свой высший орган революционный власти на Украине – Центральная рада. Довольно соглашений, уступок, просьб! (Аплодисменты.) Требуем – требовать! (Бурные аплодисменты.) Таков наш приказ Центральной раде!»
– Долой Временное правительство! – кричали из зала. – Долой большевиков! На Дон – донцов! На фронт – казаков!..
Дальнейшая работа обоих съездов – и войскового и казачьего – происходила уже при закрытых дверях.
7
Гимназист Флегонт Босняцкий стоял на углу Пушкинской и Прорезной – на посту караульного начальника. Войсковой съезд проходил в клубе имени гетмана Полуботько на Прорезной, 19, и внешняя охрана окружила весь квартал. Внешнюю охрану съезда несла первая, только что созданная в Киеве, сотня «вольных казаков». На перекрестке улиц, откуда видны были обе линии охраны, и расположился карнач.
Гимназист Босняцкий не был, конечно, караульным начальником, не нес он и караульной службы. Первую киевскую сотню «вольных казаков» сформировали из дезертиров, согласно метрике – киевлян, из пригородов Куреневки, Приорки и Оболони. Флегонта – сознательного украинца, познакомившегося в Чигирине уже с «вольноказацким» движением, – «Просвита» направила для культурно–просветительной работы среди казаков. Должность его была наименована: «инструктор–информатор национального дела».
Сотня отправлялась в наряд, Флегонт должен был быть с нею – для инструктирования и информирования в национальном деле, – и он избрал местом своего пребывания как раз пост караульного начальника, ибо именно сюда то и дело подходили казаки с донесениями, тут собирались и сменяющиеся со своих постов и, таким образом, создавались максимальные возможности для выполнения возложенной на Флегонта высокой миссии.





