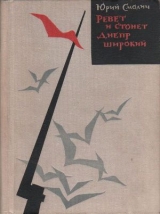
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 59 (всего у книги 62 страниц)
На родную Соломенку наступал и Симпсон. С Соломенки он отошел на Демиевку. В соединении с демиевцами и боженковцами это уже была кое–какая «сила». А главное, над Днепром снова участилась стрельба. Пришла весть: из–за Днепра подходят долгожданные, уже и не чаянные, боевые порядки красных войск!
Соломенцы, демиевцы, боженковцы решили лечь костьми, но остановиться: дальше не отойдем ни на шаг. А новое известие родило еще новые надежды: советские части переправились через Днепр! Советские бойцы захватили петлюровский бронепоезд и теперь палят из него по Киеву–третьему, Киеву–второму, Киеву–первому!..
Так это на самом деле и было; полупановцы, триста матросов–большевиков, таки взяли «Славу Украине!» на «абордаж», намалевали на бортах «Свобода или смерть!» и теперь уже на настоящем, на красавце бронепоезде штурмовали только что занятую гайдамаками территорию железной дороги.
Соломенцы, демиевцы, боженковцы тоже закричали: «Свобода или смерть!» – и рванули вперед.
Киев–третий взят.
В это время пришло еще известие: выше Киева по льду Днепра внезапно налетела на гайдамаков красная кавалерия – видимо–невидимо; может, сотня эскадронов, может – целая конная армия! И рубают Петлюру на капусту.
Соломенцы, демиевцы, боженковцы уже не кричали: «Или смерть!» Крикнули только: «Свобода!» – и рванули еще.
Киев–второй взят.
С Черной горы, с Лысой горы гайдамацкие батареи поливали и их и полупановцев шрапнелью и секли свинцом из пулеметов. Соломенцы, демиевцы, боженковцы свернули вбок, крикнули: «Смерть!» – и взяли и Черную и Лысую горы, вместе со всем петлюровским хозяйством: орудиями, снарядами и пулеметами.
В это время матросы–балтийцы, что поодиночке и группками, петляя по льду Днепра между пробоинами от снарядов, переправлялись с Труханова острова, соединились с матросами–черноморцами и вместе, посланцы и хозяева двух морей, двинулись с Набережной, с Наводницких яров – на Печерск.
Из Цитадели к ним подошла подмога. Петлюровские казаки, гордиенковцы, несшие караул при согнанных на гауптвахту оставшихся в живых арсенальцах и авиапарковцах, восстали. Они отворили казематы, выпустили пленных и отдали им свое оружие.
Теперь на Печерске против войск Центральной рады снова образовался фронт.
С освобожденными арсенальцами шел и старый Иван Брыль. В руках у него был карабин – он уже научился целиться и стрелять из винтовки. Иван Антонович всю жизнь был против кровопролития и только за мир, однако ж отстоять мир – без кровопролития – оказалось невозможным. Старый Брыль, посапывая, перебегал от канавы к кустику, припадал к земле, выпускал обойму, покряхтывая, подымался, снова бежал до столбика, снова падал и снова выпускал обойму: в проклятых самостийников, во врагов свободы и демократии, и лживых и коварных нарушителей пролетарский солидарности.
«Жив ли мой архаровец Данько? – думал между выстрелами Иван Антонович. – И убережет ли старого дурня Максимку?..»
В цепи шел и раненый Фиалек. Левую, порубленную руку он взял на перевязь и одной правой стрелял из маузера. Руку так и разрывало от боли, весь он горел в лихорадке, но шел со всеми, опирался плечом о забор, о дерево, о телеграфный столб, целился – и стрелял.
Матросы и красногвардейцы – опять со стороны Печерска – снова просачивались в только что оставленные улочки родного города.
НА ПОДСТУПАХ
1
Теперь петлюровцам пришлось туго.
Петлюра засел в «Шато де флер’”.
«Матерь божья!.. К чертовой матери!.. Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!.. Будь проклято, будь проклято, будь проклято!.. За неньку Украину!.. Ах, мать его…»
Обрывки молитв, заученных еще в семинарии, перемежались проклятьями, патетические возгласы – базарной бранью.
Давно ли вот так же как раз этот самый шантанчик, этот привилегированный бордель занимал, в разгар октябрьского восстания, боевой штаб защитников Временного правительства?.. Если бы он, Петлюра, догадался еще тогда пристать к восставшим, – может быть, потом как–нибудь обошлось и не завязалась бы эта чертова непосильная война с большевиками… Но он действовал тогда слишком уж мудрено: и к восстанию не пристал, и против русской контрреволюции не дошел, отсидел он тишком, а потом – наше вам! – моя сверху!.. И вот, пожалуйста… Вон оно как оборачивается теперь… Матерь божья!.. К чертовой…
С Петлюрой в Мариинском, Царском и Купеческом садах были, впрочем, еще немалые силы: «черные гайдамаки», Черноморский курень, сечевики – отборная гвардия войск националистов. «Вильных козаков» Петлюра отправил в центр, на подмогу гайдамацким сотням, державшим фронт – да, это был снова фронт – против Куреневки, где опять, словно из пепла, возникли красногвардейские отряды, как только неведомо откуда свалились на голову Петлюре украинские красные казаки… Красные украинские казаки!.. Петлюра приходил в бешенство: будь проклято все украинское, если оно – красное!.. «Вильные козаки» пошли, но по дороге их становилось меньше и меньше: «вильные козаки» начали разбегаться – пришлось верным сечевикам догонять и каждого десятого пристреливать. А впрочем, и верных сечевиков – «yсyсов» – тоже становилось все меньше и меньше: полегли в бою…
Петлюра позвал Коновальца:
– Пане атаман! Сколько вас?
– Три сотни консеквентно: первая – сотника Сушко, вторая – сотника Мельника, третья…
Петлюра остервенел:
– Сколько числом, я спрашиваю?!
Коновалец позвал Мельника:
– Пане сотник, сколько нас?
Мельник посмотрел на Софию Галечко. Пани София уже оставила министерство. Ее новый шеф, добродий Винниченко, ушел в отставку, генеральному секретариату в грозный военный час вообще нечего было делать – и, горл священным энтузиазмом, воинственная хорунжесса снова надела мундир. Она была теперь начальницей штаба куреня «усусов».
– Эвентуально, пршу панов атаманов, по полста стрельцов в каждой сотне…
Значит, сто пятьдесят! Вполне надежного войска всего полтораста человек…
Петлюра прислушался.
В уютном фешенебельном отдельном кабинете привилегированного борделя деревянные стены были обтянуты штофом, висели бархатные портьеры, шелковые шторы – звуки доносились глухо и смягченно, однако все равно было слышно: на Печерске стрельба, на Набережной стрельба, на Подоле стрельба, даже далеко за центром, где–то на Брест–Литовском шоссе, тоже стрельба. А из–за Днепра не смолкая бьют и бьют орудия: Коцюбинский подтянул тяжелую артиллерию. Снаряды ложатся и в Мариинском и в Царском саду. Один взорвался совсем возле «Шато», под висячим, ажурным мостиком из Царского в Купеческий сад – тем самым мостом с которого на памяти Петлюры какой–то ошалелый гимназист в припадки ревности сбросил изменницу–гимназистку.
– Пане атаман, – приказал Петлюра решительно, – «усусы» должны быть немедленно доукомплектованы.
Откуда? Кем?
Коновалец, Мельник, Галечко смотрели на головного атамана с удивлением и опаской: в своем ли он уме?
– Но, пршу пана головного атамана, – отважилась хорунжесса, – «усусы» комплектуются лишь из галичан… А Галичина…
– Я и приказываю, – затопал ногами Петлюра, – доукомплектовать именно галичанами! Самыми верными нашему делу, самыми сознательными патриотами…
– Но, пршу, где…
– Забрать остатки из лагерей!
В лагере военнопленных галичан – солдат австрийской армии – под Черепановой горой так до сих пор и не снята была колючая проволока. Они так и оставались пленными, даром что украинцы, а власть как будто тоже была украинская – Центральной рады. Галичан из этого лагеря считали и теперь, как при царе или при Керенском… неблагонадежными: на принудительных работах они общались с местными рабочими, якшались с «большевистским элементом» – и генеральный секретариат решил на всякий случай оставить их и впредь на положении военнопленных.
Мельник, уже не чотарь, а сотник, решился напомнить Петлюре:
– Но, пане Симон, комплектование в боевой обстановке… И вообще – это небезопасно: в такое время и при такой ситуации… Они могут… не пожелать…
– Тогда – под пулемет! – завопил Петлюра и затопал ногами. – Приказываю! Комплектовать через одного: один старый «усус» – один пленный, один пленный – один старый «усус»…
Операцию поручили Мельнику и Галечко.
Сотня Мельника – пять десятков сечевиков – по Левашевской спустилась на Собачью тропу. Над Собачьей тропой, за Печерским базаром, уже стучали пулеметы. За Черепановой горой, над Владимирским базаром часто хлопали винтовки: полупановцы, соединившись с демиевскими, выходили уже на Васильковскую.
Когда отряд «усусов» приблизился к баракам, опутанным колючей проволокой, там поднялась суматоха. Пленных галичан уже давно – еще с тех пор, как началась восстание, никто не караулил: охрана бросила пленных и сама пошла воевать, а не то разбежались. Но пленный никуда и не уходили – куда им деваться? – и хоронились сами, как могли «Чуєш, брате мій…» они уже не пели…
«Усусы» с Мельником и Галечко вошли за ограду
– Стройся! – приказал Мельник.
Пленные, оглядываясь, переминаясь, начали строиться.
– Быстро! – подгоняла Галечко. – Позир!
Пленные чуть подтянулись: их давно уже не муштровали. Они переглядывались, безмолвно спрашивая друг друга: что это означает? Галечко выставила с двух концовн пулеметы – на всякий случай. Пленные пугливо оглядывались на них.
Две–три сотни пленных галичан стояли вытянувшись против своих братьев – может, из одного уезда, из одного села, соседи через улицу или через тын. Но те были при оружии, почерневшие, забрызганные грязью в бою, а эти – безоружные, изможденные и вшивые. И слушали речь пана старшины, обращенную к ним: их звали в ряды воинов, к оружию, в бой – встать за неньку Украину.
За Украину. За неньку. Украина была там – под австрийским цесарем. Но не была им ненькою. Украина была и здесь куда они пришли, бросив оружие и подняв руки вверх, чтобы быть вместе – соборно – с братьями–украинцами. Но и здесь они не нашли себе неньки: их бросили за колючую проволоку и томили на особо тяжелых работах…
– Кто идет воевать, в славные ряды украинских сечевых стрельцов, – три шага вперед и стройся вдоль проволоки!
Шеренга стояла. Люди жались, переминались с ноги на ногу поглядывая друг на друга.
– Второй раз говорю, – крикнул Мельник, – три шага вперед!
Стрельба все приближалась и приближалась: вот–вот затрещит уже и на Госпитальной. Пани София то и дело испуганно поглядывала на Печерские яры.
– Говорю в третий раз и в последний!
В третий и в последний!.. Сколько же можно повторять в такой грозный час, когда враг наседает, когда через несколько минут идти в бой, и как бы еще – упаси господь! – не отрезали от своих на круче над Днепром.
Но пленные стояли и переминались,
– Машингвер! Приготовиться! – приказал Мельник.
Пулеметчики медленно, неуверенно потянули ленты из цинок.
По шеренге пробежал шорох. В рядах зашумели – даром что стоили «смирно». Кто–то сделал движение – то ли ступить, то ли бежать?
– Позир! – завопил Мельник. – Еще один последний раз: три шага вперед!
Шеренга колыхнулась. Кто–то крикнул: «Какого дьявола!..»
Мельник макнул рукой. Галечко скомандовала;
– Пли!
Пулеметы молчали. Бледные как полотно пулеметчики отворачивались.
Тогда пани София завизжала и ткнула пулеметчика носком сапога в бок. Пулеметчик отлетел – дальше, нежели в силах была оттолкнуть его стройная ножка прелестной пани. Пани София сама припала к пулемету и схватила рукоятки.
Шеренга колыхнулась, попятилась и бросилась врассыпную.
Но пани хорунжесса уже нажала гашетку: из горла пулемета полетели пули.
Пленные побежали кто куда: те, что стояли с краю, – за бараки; те, что посредине, – толпой ко входу в барак. По ним и прошла первая очередь. Пленные разбегались во все стороны – веером, но ведь и пули из пулемета тоже могут лететь веером.
Пани София водила стволом из конца в конец – и падали даже те, что укрылись за бараками.
Люди падали ничком, ногами к пулемету, головами вперед, руки вытянуты: так падают, убегая, когда пулемет позади…
Опасения атамана Коновальца оказались небезосновательны: «усусов» не стало больше, а пленных галичан под Черепановой горой вовсе не стало. Тем, кто успел проскочить за бараки и через ограду – на Госпитальную, теперь был один путь: к восставшим! А кто полег…
…Заки море перелечу, в чужині умру…
2
Не успели черноморцы–полупановцы прорваться на этот берег Днепра, разведка балтийцев–матросов выйти на Труханов остров, Примаков переправиться по льду на Куреневку, а, главные силы советских войск закрепиться в Дарнице и начать артиллерийский обстрел Киева, – как Муравьев уже посылал телеграмму за телеграммой Антонову–Овсеенко в Харьков и Совету Народных Комиссаров в Петроград.
Сперва он телеграфировал: «Вижу Киев»; потом, узнав, что Дарница, где находился его полевой телеграф, фактически является киевским предместьем, послал депешу: «Взял Киев». Подписывал он свои рапорты: главнокомандующий или главком Муравьев.
И это снова послужило поводом для конфликта между ним и Юрием Коцюбинским.
Собственно, на хвастливые рапорты тщеславного «главкома» Коцюбинский не стал бы обращать внимания, но толчком к очередной стычке явился случайный эпизод, как будто бы и незначительный, однако для Юрия нестерпимый.
Откуда–то с Теличек, перебравшись по льду через Днепр, пробились к красногвардейцам, заходившим слева от Бортничей, несколько киевских повстанцев. Их немедленно доставили к Муравьеву: ведь люди вырвались из самого сердца расположения врага – как драгоценна их информация в момент наступления!
Выглядели все беглецы страшно: изнуренные, худые, прямо черные – заросли щетиной, глаза голодные. Однако сейчас глядели они весело: пробились–таки к своим, пришла наконец и долгожданная, так необходимая помощь!.. Одеты они были все по–разному: один в рабочей кожанке, другой в ватнике, иные в солдатских шинелях, а кто–то даже в гайдамацкой чумарке и шапке с отрезанным шлыком. Всего – человек семь–восемь.
Муравьев подозрительно оглядел их:
– Кто такие?
Беглецы–повстанцы наперебой начали еще раз рассказывать то, о чем уже неоднократно говорили красногвардейцам, с которыми им посчастливилось встретиться. Они – из «Арсенала». В ночь перед разгромом довольно значительный отряд защитников «Арсенала», сотни две–три, пошел на прорыв, чтоб соединиться с авиапарковцами. Гайдамаки сразу же напали на них и раскололи на несколько групп. Большинство отошло за бастионы к железной дороге, а они – было их тогда человек двадцать, товарищи полегли потом в боях – пробились к берегу, и вот они здесь, у своих: какая радость!
Муравьев смотрел хмуро: не иначе как вражеские лазутчики!.. Нарочно обрядили гайдамаки своих шпионов во всякое отрепье, в рубище, велели прикинуться перебежчиками и выведать силы и расположение его войск… Расстрелять сразу или сперва допросить?..
– Не орите все вместе! – прикрикнул он. – Говори один! Вот ты, например.
Он ткнул нагайкой в самого невзрачного из них, щуплого, немолодого уже – седая щетина, словно перья полуощипанного цыпленка, торчала на щеках чуть не до самых запавших глаз. Такой «шмендрик» сдаст первым, будьте спокойны, – наложит в штаны и выложит всю правду, только пригрозить, – можете поверить полковнику, кадровому капитану еще царской армии: не одного заподозренного в шпионаже, особенно из жидов и галичан, повесил капитан Муравьев в своем победоносном шествии по Галиции, еще во время настоящей войны, на позициях.
Как раз в эту минуту и явился Коцюбинский: услышав о прибытии перебежчиков с той стороны, он поспешил к Муравьеву. Полковник и своей малиновой черкеске перед оборванными «пленными» выглядел весьма картинно под высокими соснами у заснеженного днепровского песчаного бархана.
– Ты кто такой? – грозно гаркнул Муравьев. – Только – правду! А то…
Он играл нагайкой из свиной кожи и проволоки, то посвистывая хлесткой плетью то похлопывая себя по голенищу.
– Я арсеналец! – гордо ответил щуплый дедок. – Коренной. Слесарь. По фамилии, если интересуетесь, Колиберда. Максим Родионович.
Муравьев фыркнул: фамилию себе какую выдумал!
– Турок?
Максим Колиберда тоже усмехнулся. На измученном – кожа да кисти – лице улыбка выглядела гримасой боли.
– Казак!
Вправду, почему не пошутить, коли и сам начальник, видимо, шутит? И вообще – ведь такая радость: пробились–таки к своим! И вконец замученному станет весело! А уж если шутить, так… в точку: у старого, в течение четверти века участника любительских спектаклей, сразу и соответствующая реплика оказалась «под рукой» – из «Запорожца за Дунаем», только чуть переиначенная для смеху.
Муравьев разъярился:
– Ты мне зубы не показывай! Язык покажешь – на веревке! Я и сам знаю, что «казак»! Ишь гайдамацкая душа – арсенальцем решил прикинуться!
– Товарищ Муравьев… – начал Коцюбинский. Но Муравьев прервал:
– Погодите… прапорщик! Видите: допрос? Закончу – побеседуем.
Беглецы–повстанцы смотрели с недоумением.
– А ты? – ткнул Муравьев в того, что был в чумарке и шапке с обрезанным шлыком. – Ты и перерядиться не успел! Думаешь, если обрезал свой «оселедец», так уже не узнать, что ты гайдамацкое отродье!
– Я и правда из гайдамаков, – угрюмо молвил казак, – из полка Сагайдачного: восстали мы против буржуазии и к рабочему классу пошли на баррикады.
Максим Колиберда заволновался:
– Истинно так! Пятьсот хлопцев–молодцов к нам пришло, кровь с нами проливали, гибли рядом, живыми в руки Петлюре не давались! Братья по классу! Обдурить хотел их изверг Петлюра, – так не вышло, раскусили они, где свой, где чужой…
– Молчать! – крикнул Муравьев. – Жди, когда спросят! И эту… петлюровскую… «мову» ты брось! Говори по–человечески, по–русски!
И Колиберда, и бывший гайдамак говорили, конечно, по–украински.
У Коцюбинского потемнело в глазах. Рука его невольно потянулась к поясу, к кобуре с пистолетом: никогда никого не убивал Юрий, но сейчас он, кажется, убьет… этого… полковника, царского «кадровика», «левого», видите ли, «эсера», который примазался к революции и скалит теперь свои… белогвардейские зубы…
Максим Колиберда так и затанцевал на месте, словно собрался бежать куда–то. Он был скор на язык, и прежде чем Коцюбинский, силившийся обуздать свой гнев, успел промолвить слово, – Максим уже затарахтел, чуть не захлебываясь:
– Господин–товарищ, или товарищ–господин, уж не знаю, кто ты есть, только нам такие ваши слова… очень удивительно слышать! Разве что – не понимаете? Так мы, известно, можем и по–русски: научены! Однако же…
– Молчать! – снова заорал Муравьев. – Понимаю! Но не желаю слышать контрреволюционного петлюровского диалекта!
Максим ударил руками о полы продолжал частить:
– Ишь ты! Русский язык – знаю, украинский – знаю, а вот про «петлюровский» что–то не слыхивал… – Вдруг он все–таки сорвался. – Да знаешь ли ты, генерал, что мне на этом языке матинка песни над зыбкою пела? Сама артистка Заньковецкая все свои коронные роли играла! А мы на красном знамени «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» на этом языке пишем?..
Максим Родионович уже размахивал руками и наступал на Муравьева несмотря на плеть, которой тот играл. Все остальные «пленные» тоже заговорили – и по–украински и по–русски, потому что были среди них и украинцы и русские, и тоже подступили ближе.
– Так это что же, – уже вопил старый Максим, – выходит, мы и народ «петлюровский»?! Что–то мы такого от Ленина не слыхали! Не на таких напал! Не знаю кто ты, господин–товарищ генерал, есть, но своему Петлюре ты нас не подкинешь! Мы ему уже кровь пустили! И свою против него пролили!..
– Молчать! – замахнулся нагайкой Муравьев. – Бойцы! Взять его!
Красногвардейцы с недоумением поглядывали на своего командира, на пленных, на разгорячившегося дедка.
– Взять, приказываю!
Коцюбинский стал между Муравьевым и Колибердой:
– Спокойно… Муравьев!
Муравьев, взбесившись, оттолкнул его предостерегающе поднятую руку:
– Не мешайте! Я приказываю! Взять… Расстре…
– Спокойно! – уже крикнул, не в силах сдержаться, Коцюбинский. – Спокойно: я приказываю.
Один из красногвардейцев, по возрасту старше других добавил и от себя:
– Товарищ главком, вы, в саном деле, успокойтесь… немного… Оно вроде недоразумение выходит… Товарищи ведь – наши…
Но Муравьев, задохнувшись от бешенства, только дико вращал глазами. Он уже не видел дерзкого дедка с его «петлюровской» речью, не видел никого и ничего – одного только ненавистного Коцюбинского.
– Вы… вы… осмеливаетесь… Я отдал приказ…
– Я отменил этот приказ…
У Коцюбинского тоже перехватило горло от волнения и перед глазами пошли зеленые круги, но он все–таки сумел сдержать свой гнев, свое желание выхватить из кобуры пистолет:
– Приказы мы… отдадим потом… когда и в самом деле все немного… успокоимся.
Он через силу заставил себя это сказать – ведь здесь красногвардейцы, добрые боевые друзья, и товарищи из «Арсенала», измученные люди, герои. Он должен был… уладить дело с этим истериком и… черносотенцем. До времени – пока Народный секретарит разберет все его конфликты с… полковником Муравьевым, до времени – потому что идет сейчас отчаянный штурм захваченной петлюровцами столицы, а Муравьев – командир, бойцы ему верят и подчиняются его военному авторитету…
– Я главком! – прохрипел еще Муравьев, но уже выдыхаясь: в этот момент, как все неврастеники и истерики, он был на той точке взрыва, когда вот–вот уже начнется нервный спад – и он либо учинит какое–нибудь безумство, либо начнет биться головой о стенку, либо… увянет, утихнет и расплачется. – Шаров! – хрипел Муравьев, озираясь и вращая в беспамятстве глазами.
Шарова – верного муравьевского адъютанта и главного опричника – поблизости не было: Муравьев забыл, что недавно отправил его со своими «главкомовскими» приказами по фронту наступления.
Догадливый, вышколенный вестовой подбежал с флягой и подал отвинченный стаканчик: чарка спирта всегда кое–как возвращала равновесие разошедшемуся наркоману.
Разгоряченный Максим Колиберда тоже все бормотал, что, мол, петлюровцам нас не спихнешь, и стреляй, пожалуйста, чертов сын, агент мировой контры, если уж ты такая гадюка и замахиваешься на «вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов…» Коцюбинский обнял его за плечи, хорошенько тряхнул, прижал к себе и сказал как только мог в эту минуту мягко:
– Товарищ, брат, успокойся! Мы здесь – украинцы и русские, крестьяне и рабочие, друзья по классу, и петлюровцы всем нам враги. Нет, друже, «петлюровского» языка; горе наше, что на нашем украинском и изменник, выродок Петлюра говорит… А на этого – плюнь… призовем к порядку…
Услышав украинскую речь, Максим сразу успокоился и даже хлюпнул носом, припав к плечу Коцюбинского.
Красногвардейцы – русские: рязанские, брянские, петроградские – стояли угрюмые, смущенные. Они шли в бой за своим командиром, они выполняли каждый его приказ – в бой он вести умел. Они знали его недостатки и причуды: пьянство, бешеный и несправедливый гнев, беспричинные болезненные взрывы. Но сейчас они не могли его ни понять, ни оправдать. Они осуждали его. И им было… неловко.
Коцюбинский сказал еще Муравьеву – стиснув зубы, тихо, чтобы не услышали ни арсенальцы, ни бойцы:
– И будьте добры… товарищ… «главком», прекратите ваши… парадные преждевременные рапорты… победителя: я это вам запрещаю! Мы, Народный секретариат, правительство Советской Украины, сами отрапортуем Ленину, когда действительно возьмем Киев…
3
А матросы шли вперед. Черноморцы и балтийцы.
Бронепоезд «Свобода или смерть!» уже стоял против вокзала, и бил через территорию железной дороги по центру города. Отсюда, с железнодорожного полотна, панорама города поднималась амфитеатром, и купол здания Центральной рады сверкал паникадилом, когда сквозь пелену туч пробивался косой лучик солнца. Канонирам до смерти хотелось попасть именно в купол. Снаряды густо ложились в парке первой гимназии, терещенковском и галагановском садах.
Иные задевали оперу, ресторан «Франсуа», номера «Северные».
Артиллеристы посылали снаряд за снарядом, а трехсотенный полупановский десант тем временем продвигался вверх – от Батыевой и Бульонной к Мариино–Благовещенской. С Бастионной, вдоль Черной горы, в конец Предславинской выходили – на соединение с полупановцами – балтийцы из группы Муравьева.
Через головы матросов, сзади, летели из–за Днепра снаряды тяжелой артиллерии и взрывались за квартал впереди, словно вестники наступления, словно передовые бойцы атаки. Случалось, корректировщики запаздывали изменить прицел или матросы слишком уж спешили – и снаряд разрывался на занятой уже матросами территории и под своими снарядами падали свои. Тогда матросы посылали в небо проклятья и грозились своих канониров после боя «заякорить на суше». Однако поднимались, отряхивались и шли дальше – вперед.
Матросы приближались к Госпитальной.
Но тут в бой впутался сам «царь небесный».
Внезапно с высоченной лаврской колокольни из амбразур под куполом Успенского собора ударили пулеметы – матросам, и балтийцам и черноморцам, в тыл.
Матросы растерялись, начался переполох: цепь бушлатов и бескозырок с георгиевскими ленточками метнулась назад, врассыпную – к Саперным лагерям и кирпичному заводу Берпера.
В бой – на стороне контрреволюции – вступило «Христово воинство». Пулеметчики на колокольнях лаврских церквей были долгогривые, в скуфейках и в подрясниках. Митрополит Киевской и Галицкой Руси, настоятель и игумен Киево–Печерской Успенской лавры, святейший архимандрит Флавиан оказался также и военачальником: в пещерах, со святыми мощами не только имел отличный подземный арсенал, но и муштровал кадры, которые могли бы управляться с новой военной техникой. Пять пулеметов «максим» и «льюис» поливали красногвардейцев свинцом с самых высоких точек Киева; тридцать смиренных «божьих слуг» со скорострельными американскими винтовками «дукс» удобно расположились у бойниц в стене лавры. Одни монахи расстреливали в спину балтийцев за лаврским спуском, а другие с верха стены сбрасывали камни на головы бойцам отряда, пробивавшегося от Цитадели: то были освободившиеся из заключения арсенальцы вместе с охраной, восставшими казаками–гордиенковцами. Немногочисленный отряд вынужден был откатиться.
Старый Иван Брыль отходил последним – от кустика к столбику: обоймы свои он расстрелял и теперь обстреливал церковную братию… словами:
– Нехристи!.. Звери!.. Патлатая контра!.. Олухи царя небесного… Не зря я вам дулю показал!.. Пижоны!
Дальнейшие высказывания Ивана Антоновича в точности пересказать невозможно: никогда за всю жизнь не вымолвил грязного слова старый пролетарий, двадцать пять лет член тайных социал–демократических кружков, а тут разом вылилось все не сказанное за четверть века…
Но монахи, хотя и «в небеси», недолго правили свою тризну. По льду Днепра, там, где он не был еще разбит снарядами, петляя, перебежками, двигалась цепь – в лоб на Набережную, Аскольдову могилу и лаврский Провал. То был отряд авиапарковцев – несколько сот русских солдат, которых месяц тому назад ночью, внезапно Мельник с Наркисом и бароном Нольде голыми, босыми, в запломбированных вагонах выслали за пределы Украины, в Россию. Авиапарковцы доехали лишь до хутора Михайловского, там кое–как обмундировались, взяли оружие из присланного Лениным тульского запаса и двинулись из Брянских лесов назад, в родной Киев: отбивать!
Авангардом наступления одолевали они теперь ледовый покров Днепра – где проваливались, где тонули в полыньях, но шли и шли: солдаты, слесари, техники и пилоты. С ними шел и отряд донецких шахтеров, приданный им из группы войск Муравьева. Не доехал киевский молодой шахтер Харитон Киенко до своей «Марии–бис» на Донбасс, – так донецкие подземные братья сами пришли к нему. И выходили теперь как раз к тому месту, где сложил голову донецкий рабочий Харитон, в Аносовский парк, святой и злокозненной лавре в обход.
Авиапарковцы и донецкие шахтеры ворвались в монастырское подворье снизу, от петровской стены.
В это время меткий канонир артиллерийской базы Коцюбинского угодил под самый купол лаврской колокольни. Колокольня устояла, лишь слегка покорежило золотую луковицу, но пулеметы под нею замолкли. Патлатое воинство переселилось в «райские кущи».
– Отставить! – приказал Коцюбинский канониру. – Достаточно. Больше по территории лавры ни одного выстрела…
Канонир посмотрел на него удивленно:
– Товарищ главнокомандующий народный секретарь! Так ведь как раз, видите, пристрелялся в самую точку! Теперь я от этого поповского курятника щепки не оставлю: религия же опиум для народа!..
– Религия – опиум, – согласился Юрий, – но здания монастыря и все церковное убранство – государственное достояние, исторические ценности, не имеющие себе равных! Должны сохранить…
– Понятно! – несколько разочарованно проговорил канонир. – Есть сохранить историческую ценность опиума для народа!..
Боженко, который в октябрьских боях из пехотинца превратился было в кавалериста, теперь овладел еще одной военной специальностью: той же артиллерией. На переезде под Киевом–вторым гайдамаки выставили полевую трехдюймовку и сильно допекали шрапнелью – и балтийцам с левого фланга и черноморцам с правого. По сути, этой пушечкой они расклинили сплошную матросскую лаву. Василий Назарович не мог этого снести. Кликнув своих «с Бульонной и Прозоровской, которые еще живые!» он, укрываясь за надгробиями Байкова кладбища, двинулся через Комскую на переезд. Гайдамацких пушкарей было в два раза больше, однако Василии Назарович их порубил и кинулся к пушечке – выбить замок и закинуть к чертям собачьим! Но возле пушки оказалось два полных комплекта снарядов, и Василию Назаровичу стало жалко государственного добра: не пропадать же на «холостяка» огневому припасу.
– Хлопцы! – подал команду Боженко. – Были пешие, сидели на конях, айда теперь самим впрягаться!
Бойцы–красногвардейцы захохотали.
– Ржание – отставить! – вспыхнул Боженко. – А ну!..
Он поплевал на руки и взялся за железные спицы.
Так и покатила пушечка жерлом вперед, с переезда на Ямскую, а там – к углу Дьяковской. За ней подкатывали и снарядные ящики.
На углу Дьяковской Боженко приказал остановиться, огляделся, повернул жерло на Бульонную и пальнул. Картечь обрушилась заставе «вильных козаков» на голову. Они бросились назад, к Лыбедской.
– Наша берет! – отметил Василий Назарович. – А ну, хлопчики, поддадим еще!..
Пушечку подкатили к углу Лыбедской.
– Пли!
«Вильные козаки» отбежали еще назад, на угол Лыбедско–Владимирской.
Василию Назаровичу понравилось. Однако уходить с Бульонной было жалко: вон же в полсотне шагов и бывший домашний очаг – может, вернулась на родное пепелище «мадама»? И могилка хлопчика Ростика там…
– Эх, за жизнь товарища поручика, за обиду моей «мадамы» – давай, хлопцы, еще!





