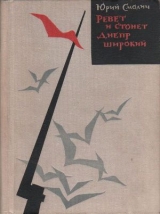
Текст книги "Ревет и стонет Днепр широкий"
Автор книги: Юрий Смолич
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 62 страниц)
Но Савинков не реагировал ни на слова, ни на взгляд Муравьева. Он уже отвернулся и снова смотрел в окно, на толпу солдат и рабочих, удалявшуюся с криками и хохотом, забрасывая арестованных корниловских эмиссаров навозом. Не повышая голоса, как всегда тихо и мягко, Савинков сказал:
– Вы – храбрый офицер, Муравьев. Я знаю вас по боям в Карпатах, знаю по Мазурским болотам, по вашим Георгиям. Вы хороший, очень хороший военный специалист – не только отчаянный рубака, но и командир, организатор. В конце концов, вы совсем неплохо провели всю эту халабурду с батальонами «ударников». И вы – русский, безусловно – патриот. Разве вы не видите, что сейчас, как никогда, России необходима власть твердой руки? Ведь фронт гибнет! Армия разваливается. Солдаты вышли из подчинения! Офицеры деморализованы! Командиров – самых лучших командиров, вы видите, сбрасывают, арестовывают, посыпают им пеплом главу… – Он криво и злобно усмехнулся.
Муравьев вскипел:
– Что вы мне говорите! Я это знаю лучше, чем вы, тыловая крыса!
Но Савинков не реагировал и на оскорбление, лишь голос его утратил глухость и зазвенел металлом:
– Только власть твердой руки может отвратить от нас гибель! Вы согласны со мной, товарищ Петлюра? – вдруг метнул он свой острый, убийственный взгляд в сторону Петлюры.
Петлюра еще не успел сообразить, что этот вопрос адресован ему и почему именно ему, а Боголепов–Южин горячо отозвался:
– Да, только власть твердой руки!
Савинков холодно посмотрел на него:
– Мы с вами, господин штабс–капитан, имеем в виду совершенно разные руки!
– И мы с вами – тоже! – вызывающе рявкнул Муравьев.
Савинков ответил так же холодно, даже брезгливо:
– Рук, Муравьев, бывает… только две: правая и левая. Какую еще – третью – вы имеете в виду?
– Левую!
– Очевидно, – тонко, словно резанув бритвой, улыбнулся Савинков, – нужно понимать, что вы говорите не о всей руке, а только о ее… большевистском пальце?
– Лучше уж большевики, – снова свирепо огрызнулся Муравьев, – чем, чем…
Он не находил слова, ненависть душила его. Керенский, Корнилов, Савинков! Претенденты на верховную власть в стране. Идеологи власти твердой руки! Потому, что каждый прочит самого себя кандидатом в вожди! Нет, он, Муравьев, не мог дать на это своего согласия. Во–первых, потому что не хотел менять шило на швайку: историческую династию монархов – на копеечного регента–диктатора из адвокатов, генералов или мужицких мстителей–террористов. Во–вторых, потому, что ни один из этих претендентов на власть не способен возглавить, прибрать к рукам и повести за собой стихию разворошенной революцией черни, мужичья!.. О, ему, Муравьеву, понятна эта жажда властвования – он сам изведал эту умопомрачительную страсть: армия, война, командование, непреложный закон выполнении твоего приказа, безликая масса, подчиняющаяся каждому твоему слову и готовая оголтело переть хотя бы и к черту на рога, – чудесное, ни с чем не сравнимое чувство власти: твое слово – закон, ты – бог!.. Но если уж речь идет о том, что неистовую, обезумевшую стихию нужно возглавить, то – будьте уверены – найдутся кандидаты похлеще, чем адвокат Керенский, царский сановник Корнилов или этот специалист по тайным убийствам – из–за угла из пистолета! Есть личности, в самом деле богом помазанные, вдохновленные страстью, зажженные священным огнем, все – порыв, все – движение! Личности, которые могут стать олицетворением масс! И стать во главе масс, и повести их безоглядно за собой! Настоящие вожди! Есть такие личности! Есть такие сильные духом! Есть… Хотя бы и он сам – полковник Муравьев! Да! Он, Муравьев, а не кто иной должен стать и – будьте уверены! – станет во главе масс и поведет их, разъяренных, осатаневших в бой, на истребление и сокрушительство, на всеиспепеляющий ураган, стихию, смерч! Он, и больше никто! Он будет вождем! И сметет с лица земли все…
– Вы… вы, – наконец, почти задыхаясь, выдохнул из себя Муравьев, – вы тлен, вы мразь, вы гниль России! Не вам ее спасать! Не вам очистить ее от скверны испепеляющим огнем! Вы обречены на гибель!..
Это уже была истерика. Савинков внимательно наблюдал за Муравьевым: по своему образованию, хотя незаконченному, Савинков был медик. Перед ним был чисто медицинский случай: клиническая картина истерического припадка. Дальше должна была появиться пена у рта, затем – окостенение зрачков, наконец – битье головой о пол или стены. Сейчас лучше всего не связываться с Муравьевым: это не партнер для политических дискуссий. И Савинков мягко сказал:
– Спокойно. И давайте сядем за стол и…
Но Боголепов–Южин не имел медицинского образования – он выхватил пистолет.
Впрочем, выстрел не последовал. Петлюра стоял рядом с ним и успел перехватить руку штабс–капитана. С другой стороны подскочил Савинков и вывернул ему руку назад. Пистолет упал на пол.
– Вы… вы… – вопил Боголепов–Южин, – вы негодяй! Вы!.. Какое вы имеете право носить этот священный шеврон русского патриота? Вы позорите погоны офицера русской армии!
Как это ни странно, однако Муравьев вдруг успокоился. Припадок истерики был клинический, и, как всегда, внезапное потрясение оборвало его. Муравьев только побледнел, стал почти прозрачным, и его безумные глаза еще глубже запали в орбиты.
Муравьев спокойно захватил двумя пальцами свой ромб с черепом и костями на рукаве, дернул его, оторвал и бросил на пол.
– Пожалуйста, – промолвил он так же спокойно, – вот вам ваш священный шеврон! Подавитесь! Я больше не «ударник» и не организатор «ударных батальонов» для Сашки Керенского.
Затем, точно так же спокойно, Муравьев рванул золотой погон с левого плеча, потом с правого. И тоже швырнул их на пол под ноги.
– Вот вам ваши погоны офицера русской армии!
Потом он наклонился и поднял с пола пистолет.
– Прошу! – С насмешливым вызовом он протянул оружие Боголепову–Южину. – Уверен, что, как доблестный офицер русской армии и носитель славных традиций русской аристократии, вы не будете стрелять меня здесь, как собаку. Но я к вашим услугам! Буду ждать ваших секундантов. Место дуэли и оружие – по вашему выбору. Буду ждать здесь, в этом бардаке, в кабинете номер три, в постели Маруськи–кокетки – лучшего пристанища я не нашел в этом проклятом жидовско–генеральском местечке!
После этого он коротко поклонился – всем троим, затем отдельно Боголепову–Южину и направился к двери. Шеврон и погоны попали ему под ноги, и он небрежно отбросил их носком элегантного мягкого кавказского сапожка.
Внутренняя дверь – та, которая вела в коридор с номерами проституток, – хлопнула за ним.
Старый Лейба тихо протиснулся у всех за спиной, подобрал разбросанные на полу золотые погоны и черный бархатный с серебром шеврон и осторожно положил их на столик.
Савинков презрительно усмехнулся:
– Вот какие дела, товарищ Петлюра! У нас, в русской армии. Боюсь, что не лучше и у вас, в ваших сепаратистских кругах… Вот такие дела.
Петлюра уже и сам видел, какие дела. Он мельком взглянул на телефонный аппарат, затем на дверь, ведущую на улицу. Нет, сейчас не стоило уже звонить в Киев. Нужно было садиться в свой «сестровоз» и возвращаться, как говорят русские, восвояси. Дела в русской армии были плохи – и это Петлюра мог констатировать только с удовлетворением. И не только в армии, о делах в армии Петлюра знал и без того, – дела были плохи у тех, кто хотел руководить этой армией, у всех, кто бы они ни были, какой бы ни придерживались ориентации. И это Петлюра отметил тоже с радостью. Ни на одну из этих ориентаций не стоило… ориентироваться… Но ведь и в его – украинской – армии дела покамест тоже не вызывали ни радости, ни удовлетворения. В его петлюровской армии дела, тоже были плохи: армии этой, попросту говоря, еще не существовало.
– Что ж, товарищ Петлюра, – молвил Савинков, он уже возвратился к своему столику и бутылке кефира, – давайте, обменяемся мнениями?
– Простите, – ответил Петлюра. – Но я и так задержался: спешу. Прощайте!
4
Они наконец встретились – и это было крайне необходимо.
Но вот теперь, поздоровавшись, они стояли друг против друга в прихожей и не знали, что дальше делать и как им вести себя? До сих пор они не были знакомы, даже видели друг друга впервые, и, конечно, прежде всего, как это и водится у женщин, они внимательно и придирчиво осматривали друг друга с ног до головы и с головы до ног.
Лия думала: а она симпатична! Напрасно Флегонт так настойчиво старался меня убедить, что она вовсе не хороша собой. Что с того, что она несколько высока? Женщине к лицу стройная фигура. А некоторая неуклюжесть с годами пройдет. С годами – гм! А почему, собственно, она, Лия, должна думать о том, что из этой девушки получится… с годами? Словом, вслед за первым чувством симпатии зашевелилось где–то там, неизвестно где, и нечто подобное чувству ревнивой неприязни.
Марина думала: а она красивая! Какие глаза, какие ресницы, какой профиль! А сложена как! Ясно, почему Флегонт полюбил эту девушку, а не ее, Марину, длинношеюю, неповоротливую, вовсе не грациозную. Слоном, за первым приятным – чисто эстетическим – впечатлением от созерцания красивой девушки в душе Марины появилось и чувство враждебности – двойной враждебности: и к этой девушке Лии, и к Флегонту. Ведь перед ней стояла обидчица, злая разлучница!
– Что ж, – наконец молвила Марина, – почему же мы стоим здесь? Заходите… раз уж пришли. Прошу!
Лия сделала неуверенный шаг.
– Нет, нет! – преградила Марина путь, когда Лия направилась прямо. – Не сюда! Пожалуйста, налево, в эту дверь.
И она поспешно провела Лию в столовую, – в свою комнату в эту минуту она никак не могла войти с гостьей: эта девушка появились так неожиданно, не предупредив даже, что она собирается знакомиться.
Что случилось? Почему так произошло?
А случилось так вот почему. Главнейшей причиной прихода Лии к Марине – как в этом уверяла самое себя Лия – была чисто деловая и очень, важная причина: общественная, политическая, даже партийная. Лаврентий Картвелишвили по поручению городского комитета партии, организовывал Союз молодежи – и время не ждало: события в стране разворачивались, и в предвидении грядущих революционных битв в Киеве необходимо было как можно скорее вырвать молодежь из–под пагубного влияния эсеров и меньшевиков. Флегонта с Мариной роднит, конечно, не только – как он утверждает – сердечная и душевная склонность; их объединяет идея! В понимании национального вопроса Марина и Флегонт, несомненно, единомышленники, и Марина – любимая девушка! – вне всякого сомнения, имеет влияние на милого Флегонта. Нужно вместе с ними, и прежде всего с Мариной, разобраться в этом вопросе с позиций, так сказать, классовых, с точки зрения, так сказать, общеполитической. И это крайне необходимо сделать, ибо Марина и Флегонт – это не просто одна девушка и один юноша: за ними стоят более широкие круги таких же, как и они. За Флегонтом – украинские круги школьников средних учебных заведений. За Мариной – молодые украинские курсистки, а главное – даже какая–то группа и рабочей украинской молодежи. Например, Данила Брыль и Харитон Киенко. И вообще, хор печерских парней и девчат и молодежь из «Просвиты». А теперь еще пошел слух – от Флегонта, конечно, – что и в создании Юнацкой спилки при Центральной раде Марина примет самое активное участие… Но за Центральной ли радой идти киевской молодежи? Молодые интеллигентные силы вот как, до зарезу нужны и в Союзе социалистической молодежи, который еще надлежит завоевать и сделать большевистским.
Это была самая главная причина. Но, если честно признаться, и другая причина была.
Лия чувствовала, что она должна – ибо это дело чести и женской гордости, а если хотите, то и человеческого долга, – должна прийти к Марине и сказать: «Марина, вас любит Флегонт и вы любите его, а я… я… я…»
Тут Лия еще не могла представить себе, что именно она скажет. Сказать нужно: «Я отступаю». Или: – «Это – недоразумение». Или еще: «Я не люблю Флегонта». Но Лии почему–то трудно было сказать и так, и так, и этак. Все–таки, если признаться, то Флегонт… Словом, она, Лия, должна подавить в себе какое бы то ни было чувство к этому милому гимназистику. И вообще ей не до этого: разве до личных чувств, когда вокруг такие события, когда предстоят классовые битвы, а быть может, и бои с оружием в руках?..
5
Они вошли в столовую, и Марина холодно, стараясь быть предельно учтивой, указала на стул:
– Прошу, садитесь. Чем могу служить? Итак, ваша фамилия… Штерн?
– Да, я Лия Штерн. Вам, конечно, – Лия заставила себя непринужденно улыбнуться, – известно это имя?
Марина постаралась сделать вид, что не расслышала.
Лия чувствовала себя неловко. И разговор предстоял трудный, и знакомство начиналось как–то уж больно салонно – как между двумя дамами высшего света, а ни с высшим светом, ни с дамами Лии никогда не приходилось иметь дела. Да и вовсе не дама сидела перед нею, и никакого высшего света и близко не было.
Лия расправила складки на юбке, выпрямилась на стуле, затем откинулась на спинку, но спинка стула была слишком отлогой, и она снова села ровно.
Марина тоже попыталась закинуть ногу на ногу, потом ноги переменила, потрогала рукой бахрому скатерти на столе, передвинула с места на место пепельницу, наконец, зажала сложенные ладони меж колен – юбка у нее была спортивная, короткая, ей было неприятно, что из–под кромки юбки выглядывали ее острые, ну совсем детские коленки.
Нет, все–таки нужно было говорить прямо. Лия начала:
– Слушайте, товарищ…
– Меня зовут Марина.
– Ну конечно, – товарищ Марина! Я пришла по важному делу, и хотя мы с вами до сих пор были… знакомы лишь, так сказать, заочно…
Марина повела бровью, это должно было бы символизировать выражение известного удивления, но это у нее получилось не совсем удачно: ее скуластое, монгольского типа лицо плохо поддавалось мимике, да и бровей у нее почти не было. От движения кожи на висках лишь вздрогнули за ухом ее стриженые, непокорные, растрепанные волосы.
– Однако, – с трудом выдавила из себя Лия, – вам, очевидно, известны мои взгляды и мысли, точно так же, как… и в какой–то мере, разумеется, я могу составить себе представление… тоже… с чужих слов, – поторопилась добавить Лия, обходя тем временем имя автора этих «чужих» слов, – и о ваших убеждениях и вообще о вашей общественной деятельности, которые я глубоко уважаю, конечно…
– Какое вам дело до моей общественной деятельности? – сразу насторожилась Марина. – И вообще, товарищ Лия! – решительно молвила Марина. – Говорите сразу, с чем вы пришли! Вы пришли говорить со мной о товарище Флегонте Босняцком. Что вам нужно о нем сказать? Прошу!
Да, Лия уже видела: вести разговор с людьми это не то, что выступать на митингах с зажигательными призывами или отвечать на лирические признания влюбленного юноши. Прямые, без обиняков, и острые слова Марины бросили ее в краску.
– Да, и о товарище Босняцком также…
– Ну вот, с этого «также» и начинайте! – сердито сказала Марина. – Вы пришли заявить, что любите его, что он вас любит, что вы друг без друга жить не можете и всякое такое. Но помехой на вашем пути якобы стою я. Так вот запомните, что я никому не помеха, к Босняцкому я равнодушна, и какие там у вас с ним отношения – меня вообще не интересует! Итак, я высказалась. Слово предоставляется вам. Прошу! Только имейте в виду, что на такой разговор, как мне кажется, не стоит тратить драгоценное время. К тому же… меня ждут…
Марина понизила голос и прислушалась: в самом деле, не слишком ли громко она обо всем этом говорит, не слышен ли их разговор в ее комнате?
Наконец и Лия овладела собой: прямая и решительная речь Марины помогла ей взять себя в руки. Марина ей все больше и больше нравилась. Право же, чудесная девушка! И какой же глупой выглядит перед нею она сама, Лия! Тоже мне – революционерка, пришла с ответственным партийным поручением! И Лия вдруг весело рассмеялась:
– Милая Марина! Я просто счастлива, что наконец познакомилась с вами! Заверяю вас, что о Босняцком речь в самом деле – «также», ибо имею к вам более важное общественное и, прямо скажу – потому что вам, вижу, все нужно говорить только прямо, – партийное дело. Но если хотите, чтобы не путать себя самих, давайте сначала – о «также». О Флегонте. Я не люблю Флегонта! – Лия выговорила эти совсем легко и, видимо, совершенно искренне. – Что касается его, то он, в самом деле, сначала немного было влюбился в меня, но, можете мне верить, эта влюбленность ничто против силы любви к вам, и я от всей души уважаю эти чувства. Давайте же сразу вынесем, так сказать милого Флегонта за скобки, и вы разрешите мне начать прямо с самого главного, с чем я действительно к вам и пришла.
6
Лия встала с места и прошлась по комнате из конца в конец. Марина следила настороженным взглядом, из–под тех мест на выпуклом лбу, где должны были быть брови. Лиины слова были успокаивающими: женщины любят слова, любят им верить, а Марина ведь была пусть и несовершеннолетняя еще, но все–таки женщина. Однако полного облегчения эти слова еще не дали: женщины любят верить словам любви от любимого, а к словам соперниц они всегда относятся предубежденно и ревниво.
И Марина сделала вид, что слов о любви она не услышала, а отвечает лишь, на вторую половину Лииной речи:
– Должна предупредить вас, что я тоже считаю себя большевичкой, хотя и не являюсь членом партии. Только, конечно, украинской большевичкой…
Лия остановилась перед Мариной и горячо вскрикнула:
– Марина! Милая моя! Нет большевиков украинских, русских, немецких или каких–то там еще! Это стоит выше!
Как это – выше? – мрачно насторожилась Марина.
– Национальность человека – это его происхождение, а большевизм – мировоззрение, программа жизни. И большевизм интернационален. Большевик борется в Киеве за свободу украинских пролетариев, но тем самым он добивается освобождения и… китайского кули в Шанхае, и негра в Африке, и всех трудящихся в Европе! Большевизм – категория социальная, классовая, политическая, a национальное – только биологическое… Вы понимаете меня?
– Понимаю, – молвила Марина сердито, – но не разделяю вашего взгляда. Национальные и социальные категории не существуют изолированно. Думать так – идеалистический дуализм. Если вы марксистка, то вы должны знать закон единства противоположностей. Кроме того, – Марина торопилась, чтобы Лия не перебила ее, – чувство патриотизма, любви к своему народу и родине – чувство не только биологическое – какой вульгаризм! – но и социальное чувство…
Лия остановилась, несколько ошарашенная: ого! Вон какие высокие материи!.. Флегонт несколько упростил Марину – из его рассказов она выглядела более примитивной.
Лия была так удивлена, что даже присела в кресло в углу. Но Марина вдруг вскочила испуганная:
– Нет, нет! Не садитесь сюда!.. Садитесь здесь!
Она даже взяла Лию за руку и подняла с кресла, чтобы пересадить на стоявший рядом стул.
На недоуменный взгляд Лии Марина ответила, стесняясь и хмурясь:
– Понимаете, это – мамино кресло… Ну, понимаете, после ее смерти мы в него не садимся… Понимаете…
– Я понимаю. Простите! – Лия растерялась. – Если бы я знала… мне так неудобно…
Теперь они стояли друг против друга, зардевшиеся, и снова неизвестно было, как же продолжать дальше разговор. Марина нашлась первой. Она сказала угрюмо:
– Любовь к родине – чувство прогрессивное, а не реакционное! Это – освободительное чувство!.. Конечно, если государство буржуазное, то к патриотизму призывает буржуазия и использует его в своих, антинародных интересах. Именно это мы и имеем сейчас с этой проклятой войной, прежде всего! И если бы вы, большевики, не убивали чувства патриотизма в народе, в пролетариате, то мы имели бы патриотизм пролетарский, и с этим пролетарским патриотизмом завоевали бы себе пролетарское государство – социализм!
Марина спохватилась и прислушалась: она снова говорила слишком громко – не слышно ли ее речь через прихожую в соседней комнате?
Уже совсем тихо, но отчетливо она закончила:
– И повторяю еще раз: я – большевичка, хотя и не являюсь членом партии. Я подробно ознакомилась с тезисами, которые изложил Ленин еще в апреле – о путях пролетарской революции! Слышите: я за эту программу! За неуклонное ее выполнение! Но…
Марина остановилась, и Лия смотрел на нее, ошеломленная потоком страстной речи, и ждала с испугом, что Марина сейчас скажет, каким будет это ее «но»?
– …но я за выполнение этой программы на земле, а не в безвоздушном пространстве, в какой–то… торричеллиевой пустоте! А раз на земле, то, в частности, и на нашей земле, заселенной украинским, а не каким–то абстрактным народом – слышите, украинским, точно таким же как и русским, польским, еврейским, всеми другими, какие только есть на свете! А вы с вашими теоретическими абстракциями – вы… вы только отталкиваете наш народ от большевистской программы! – Марина сердито рассмеялась и почти крикнула снова: – Большевистская программа самая революционная, а вы, те, которые заявляют, что хотят осуществить эту программу, – реакционеры, а не большевики! Не хотите понять, что кроме русских, народа, сложившегося в одних исторических условиях, есть и другие народы в России, например украинцы, исторические условия для которых были… несколько отличными: национальный гнет…
Она умолкла и пугливо оглянулась на дверь. Лия молчала, пораженная. Настороженный взгляд Марины на дверь она перехватила уже не первый раз.
– Простите, вы все время оглядываетесь: там кто–нибудь есть?
Марина сердито буркнула:
– Простите. В самом деле, давайте не так громко.
Лию вдруг осенило:
– Там – Босняцкий?
– Что? Где Босняцкий?
– Там, в соседней комнате!
– Ах, там…
Марина смотрела на Лию гневно, даже с ненавистью. Вот о чем она подумала! Что же, она ей скажет сейчас. Пускай знает.
И Марина сказала:
– Там мой брат…
Лия ужаснулась и спросила шепотом:
– Поручик Драгомирецкий… адъютант командующего?.. Этот чванливый черносотенец, а мы… мы так громко…
– Не бойтесь, – криво улыбнулась Марина. – Это в самом деле поручик Драгомирецкий, только авиатор…
– Ах, авиатор…
– Да, авиатор–дезертир! – Если бы он и хотел вас выдать, то он лишен возможности это сделать, ибо сам скрывается…
Марина сказала это с вызовом, – теперь, мол, ты знаешь и поступай как хочешь. Этим признанием я отдаю жизнь своего брата в твои руки, но поступаю так, потому что не боюсь и даже… презираю тебя.
Но ей сразу же стало стыдно: нет, нет, что угодно, но донести эта девушка не может! Да и какими бы там ни были большевики, они все же против войны и против власти существующего правительства, следовательно…
Чтобы преодолеть свою растерянность, Марина снова перескочила на другое, на тему предыдущего разговора.
– Мне неизвестно, с каким – важным, общественным, даже партийным, как вы говорите, – делом вы пришли ко мне, – эти слова она постаралась иронически подчеркнуть, – но перед тем, как вы начнете меня агитировать, хочу сказать вам заранее: Украинская центральная рада имеет больше прав претендовать на власть на Украине, чем Советы рабочих и солдатских депутатов, претензии на власть, которых вы так отстаиваете! И хотя и в Совете и в Раде тьма партий, которые никак не могут между собой договориться, Центральная рада, однако, располагает более интернационалистической программой, чем ваш Совет, которой тоже вовсе не ваш, поскольку большевики в нем в меньшинстве! И, чтоб вы знали, именно этот интернационализм Украинской рады мне более всего импонирует…
– Интернационализм… Центральной рады? – ошеломленно переспросила Лия, хотя она и задавала вопрос и слушала Маринину речь рассеянно. В эту минуту ее волновало другое: там, за стеной, офицер–дезертир, то есть активный противник войны, за которым вот уже три месяца охотятся разведки и контрразведки, и ведь он – брат Марины… – Товарищ Марина, что вы говорите! – ужаснулась Лия. – Где же у Рады интернационалистичность?
– А кто созвал съезд народов? Вы или Центральная рада! Ведь большевики даже не приняли участия в съезде! И всем известно, что самым первым шовинистом в Киеве является ваш Юрий Пятаков, только он ведь шовинист великорусский, и потому это легко сходит за… интернационализм! Вот какая цена вашему интернационализму! – Марина распалилась и уже не прислушивалась к тому, может быть слышен или нет ее голос в соседней комнате. – А какая цена вашей большевистской политике, видно уже из того, что вы, большевики, обвиняете Центральную раду в национализме, клеймите ее сепаратизмом и шовинизмом, обзываете ее буржуазной и контрреволюционной, а сами всего несколько дней назад вошли в состав этой самой националистической, сепаратистской, шовинистской, буржуазной Рады! Это же правда! И кто стал вашим, большевистским подстрекателем в этой самой контрреволюционной Раде? Да тот же Пятаков! Заядлый, ярый, первейший русский националист!
Марина уже кричала, стуча кулаком по столу, глаза ее горели, стриженые волосы растрепались. Лия, совершенно подавленная, смотрела на разъяренную Марину и молчала…
А что могла сказать Лия, если киевские большевики в самом деле бойкотировали съезд народов, созванный Центральной радой? Что она могла сказать, если киевский большевистский комитет и в самом деле послал своего представителя в Центральную раду? И что она могла сказать, когда этим представителем действительно стал… Юрий Пятаков?
– Марина! – наконец почти простонала Лия. – Вы – человек сознательный, хорошо разбираетесь во всем и должны понять…
– Можете оставить свои комплименты при себе! – вспыхнула Марина; глаза ее горели гневом и возмущением.
– Вы должны понять, – повторила Лия, – Центральная рада в своей политике демагогически оперирует действительно демократическими и даже социалистическими лозунгами…
– А кто вам поверит, что вы не демагоги?
– …и собрала она на этот съезд представителей от организаций с такими же, как у нее самой, националистическими программами…
– А программа Пятакова не националистическая?
– …и именно потому большевики бойкотировали этот съезд.
– И в то же время вошли в состав этой самой националистической Центральной рады?
– …потому что Центральная рада втягивает в свою орбиту и трудовые слои – крестьянство и даже пролетариат, силясь и на них распространить свое шовинистическое влияние.
– Слушайте! – уже закричала Марина. – Оставьте вы это! Я, в самом деле, не маленькая! Говорите уж лучше, с чем вы пришли ко мне, и хотя я знаю, что вы не украинка, – почему вы разговариваете со мной на украинском языке? Ведь совсем еще недавно – это мне доподлинно известно – вы говорили на русском языке?.. Дипломатический демарш? Политический ход? Чтобы найти ключ к моему… сердцу? Чтобы таким манером легче меня сагитировать? Купить меня?
Лия встала. Она уже тоже пришла в бешенство. Ей стоило огромных усилий сдержать себя и сказать холодно:
– Товарищ Марина! Вы напрасно стараетесь оскорбить меня. Но, если хотите, я могу ответить на ваш вопрос. Я родилась и выросла в глухой украинской провинции и с малых лет слышала вокруг себя, собственно, только украинский язык и разговаривала на нем. Даже еврейский язык, язык моих отцов, я понимаю хуже: мне почти не приходится разговаривать на еврейском языке – разве что отдельные слова или фразы в разговоре со стариками родителями. Но потом, попав в город, в школу, в консерваторию, даже в самой партии, я привыкла к языку русскому, и он стал для меня как бы родным языком. Но в последнее время… не так, правда, давно…
– С каких пор?
– …не так давно я задумалась над этим вопросом и пришла к выводу, что лучше мне говорить по–украински: на языке народа, среди которого я выросла, на языке страны, в которой живу и за свободу которой хочу бороться вместе с ее народом. Хочу, чтобы вы поверили мне, что это вовсе не… демарш, а сознательное решение – и политическое, и общественное, и… и личное, если хотите: украинский язык я искренне полюбила, – очевидно, я всегда его любила, но просто не задумывалась над этим, не осознавала этого. Теперь осознала…
– И давно? – язвительно прервала Марина.
– Не так давно.
– Под чьим–нибудь влиянием?
– Возможно, и под влиянием.
– Надо полагать, не под влиянием Пятакова?
Лия молчала минутку и глядела Марине прямо в лицо. Марина тоже смотрела ей прямо в глаза. По глазам они давно уже поняли друг друга: о чем допытывается одна и чего не говорит другая. Во взгляде Марины была только неприязнь. Во взгляде Лии – и неприязнь, и сожаление, и желание, совершенно искреннее желание, чтобы неприязни не было.
Потом Лия сказала:
– Под влиянием Флегонта, Марина.
Марина отвела взгляд. Этого ответа она добивалась, знала, что услышит его, знала и то, что услышав, почувствует себя неловко.
– А… взамен, – молвила Марина, переводя взгляд на окно, за которым ничего не было видно, кроме ясного неба и небольшого белого облачка, – взамен… он должен был попасть под ваше, большевистское, влияние?
– Я бы хотела этого, Марина, – ответила Лия, тоже переводя взгляд на окно, на ясное небо и белое облачко, – только не «взамен», а просто так, потому что мои большевистские идеи для меня дороже всего, я считаю их самыми правильными и хотела бы, чтобы ими прониклись все. И вы, Марина, тоже… И, быть может, вы разрешите теперь перейти к делу, с которым я к вам пришла? – Момент был наименее подходящий для этого, но Лия все–таки это сказала. – Можете считать это агитацией, если хотите, но позвольте мне все–таки начать… эту агитацию.
Марина смотрела на небо, на облачко – облачко быстро скользило в сторону и вот уже исчезло за косяком окна – и молчала. Марина не то чтобы успокоилась, а как–то увяла: весь ход разговора между ними был сплошным кружением в каком–то заколдованном круге. И от такого кружения вокруг да около в конце концов всегда наступает опустошенность.
– Говорите, – вяло отозвалась Марина, пожав плечами, – Разве вы хотите сказать мне что–нибудь сверх того, о чем вы уже столько наговорили? У вас действительно есть какое–то конкретное дело ко мне?
– Да. Понимаете… – Вдруг Лия оборвала и заговорила снова не о том, с чем пришла, – о проблемах организации Союза молодежи, – а спросила неожиданно для самой себя, хотя этот вопрос и назревал уже в ней во время разговора: – Но перед тем не можете ли вы познакомить меня с вашим братом–авиатором? Ну, с дезертиром? – выдержала она озадаченный взгляд Марины.
Но Марина не успела ответить. Позади них, с порога, вдруг послышалось:
– Пожалуйста. Я здесь. Если вы хотите со мной познакомиться… Только не понимаю, почему…
Они вздрогнули обе. На пороге стоял Ростислав.
– Ростик! – вскрикнула Марина, в ее голосе прозвучал испуг.
7
Ростислав шагнул через порог:
– Вы так шумели здесь, что мне был слышен ваш разговор, и я считаю, что это… неделикатно… слушать, когда тебя не просят об этом. И решил предупредить вас о своем невольном присутствии. – Он протянул руку Лии. – Ростислав Драгомирецкий, поручик… бывший, – добавил он, криво улыбнувшись. – Дезертир, как вы сказали. Слушаю вас и в… в вашем распоряжении. – Уже без улыбки он смотрел Лии прямо в глаза.





