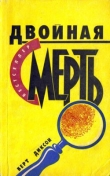Текст книги "Путь бесконечный, друг милосердный, сердце мое (СИ)"
Автор книги: Marbius
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 53 страниц)
Слышать это от Горрена было несколько непривычно. И это настроение заставляло Берта присматриваться к нему повнимательней. Все казалось прежним – все было совершенно иным. Вначале их знакомства Берт присматривался к Горрену, и ему все не удавалось составить определенное мнение. Горрен притворялся сентиментальным, немного восторженным, не очень приспособленным к жизни, идеалистом – и этому сложно было поверить. Он притворялся безобидным – и Берт очень подозрительно относился к этому, побаивался, не совсем отчетливо представляя разветвленность связей Горрена, его влиятельность – решительность тоже. У Горрена было практически неизменно хорошее настроение, и это тоже казалось подозрительным. Здравый смысл подсказывал, что из таких притворно-оптимистичных людей запросто может вылупиться маньяк. В компании с Бертом Горрен настаивал на незначительности тех дел, которыми занимался сам – а потом парой фраз давал понять, с кем знаком, к кому нашел подход, кто платит ему невесть за что, и Берт подбирался, пристыженный, прикусывал язык, послушно выполнял те задания, о которых его просил Горрен. Удивительно, насколько они были непохожи. Берт, предпочитавший удобство и немаркость – Горрен, осторожно относившийся к цвету и очень великодушно к фактуре Горрен. Горрен, с религиозной тщательностью следивший за собой, придирчивый к собственной внешности, очень любивший предпринимать легкую, обратимую корректуру.
Горрен изменился, если Берт прав, а не привык к нему до такой степени, что не замечал действительных изменений, а зацикливался на придуманных. И Берт не мог подобрать этому точного определения. Во-первых, Горрен постарел – именно так. Проступили морщины, истончились волосы и кожа. Кровеносные сосуды стали как-то заметней. Или Горрен потерял в весе. Он стал более скуп на улыбки, и взгляд у него был нехороший – снайперский. Словно он поджидал, когда его жертва оступится, чтобы своей атакой в самый неподходящий момент максимально унизить ее.
Но он оставался по-прежнему активным. Бывал то в Азии, то в Европе. Однажды связался с Бертом из Рима.
– Вечный город, милый Берт, – экзальтированно восклицал он и артистично заламывал руки, – и никто не смеет называть его вечной помойкой, хотя этого определения он удостоился не одно столетие назад. И даже, предположу, не одно тысячелетие.
Берт обреченно стонал и просил избавить его от никому не нужных подробностей. Горрен торжествующе ухмылялся, словно спрашивал: «Ты ведь согласен? Ты ведь согласен с тем, что я остроумен и остроглаз?»
– Меня интересует одна-единственная вещь. Какого хрена ты делаешь в Риме? Или в Ватикане, ты, отпрыск клерика, черная овца в отаре профессиональных душепопечителей? – уныло спрашивал Берт.
Горрен смотрел на него, склонив голову, и хмурился. Спрашивал:
– Как ты догадался?
– Что, правда? – восклицал ошеломленный Берт. Горрен оживлялся, снова ухмылялся. И подтверждал: действительно в Ватикане. Завершает совсем крохотное, совсем незначительное порученьице пары членов синода. Они тоже имеют прошлое, и оно настигает их, как и простых смертных, врасплох.
– С их полицией, служками и прочим – и обращаться к посторонним? – удивлялся Берт.
– Полиция не должна становиться слишком могущественной. – Поучительно говорил Горрен. – Тут я с ними совершенно согласен. – А если кто-то в полиции будет знать что-то неприглядное, это будет значить, что его самонадеянность увеличится, причем в разы. Причем не без основания. А великим служителям церкви это совершенно ни к чему.
– Иными словами, церковь не отличается ни от какого мирского института, – охотно продолжал Берт, жаждавший подробностей – не во имя собственного могущества, а из любопытства. Но Горрен отказывался распространяться.
Его крашеная макушка мелькала и в кулуарах Лиги. Он категорически отказывался становиться официальным членом какой-либо группировки; рассказывая Берту о своих успехах – в обычной своей псевдо-смиренной манере, он замечал, что это имеет все шансы стать кандалами на конечностях и шорами на глазах. «Или чего хуже», – бурчал он.
– Я – категорический приверженец свободного предпринимательства! – патетично восклицал он на посиделках с Бертом. – Но мою убежденность, мой принцип никто не ценит! Единственный принцип… или не единственный, но уникальный – и никто не хочет верить, что у меня есть принципы. И попрошу, приятель, не смей шутить на эту тему – ибо болезненно.
Берт и не собирался – ему ни к чему было. Он сам был из этих предпринимателей – волей судьбы ли, в соответствии с убеждениями. Информационные платформы одна за одной предлагали ему рамочный контракт с определенными обязательствами, сводившимися, в принципе, к одному: к регулярной поставке контента, который, к тому же, соответствовал бы их представлениям – либо целям, которые ставили перед ними держатели контрольного пакета акций. А Берт отказывался; он даже предпочел не продлевать свой старый контракт, отлично понимая, что ему придется прикладывать куда больше усилий, чтобы пристроить свои репортажи. Или как вариант: поинтересоваться у Горрена, не может ли он что-нибудь посоветовать.
– На аукцион выставляй. – Тут же предложил Горрен. – Я смею указывать звезде независимых СМИ, и да простит Клио мою дерзость.
– Клио? – хмурился Берт.
– Разумеется. Ведь ты – один из верных ее муравьев, ты – творишь историю.
Берт закатывал глаза, глухо стонал, прятал глаза под ладонью. Горрен вредно ухмылялся. А через сутки сообщал, на каком аукционе лучше всего выставлять тексты, к каким покупателям лучше всего присмотреться. И даже поделился парой приемов, как набить себе цену.
Ему казалось, что Горрен рад – почти счастлив той заварушке, на фоне которой выстраивалась, разворачивалась их карьера. По крайней мере, он был большей частью бодр, почти постоянно остроумен и улыбчив, задумчив – время от времени. Иногда злословил, что тоже было объяснимо. Берт получал удовольствие от общества язвительного Горрена куда больше, чем от его благожелательности, но остерегался попадаться под удар: бывало больно, Горрен его не щадил. Тем удивительней было прибыть домой, пострадать от одиночества, побродить от угла к углу в своей квартире, поужинать – и позавтракать, все в одиночестве – и не получить от Горрена ни одной приветственной фразы. Только сухой ответ на уведомление Берта, что он прибыл: «С приездом». Это было непривычно, но еще не подозрительно. Но похудевший, раздраженный, бледный Горрен – вполне. Он был зол, это чувствовалось уже в приветствии. Берт, неожиданно обрадованный встречей, был не против – невелика беда позволить ему поплеваться ядом. Тем более он по своему опыту знал, что Горрен не позволял себе слишком долго высказывать свое раздражение. Всегда. Но не сейчас. Горрен был недоволен всем: отчаянно жаркой погодой, слишком оживленным движением, обилием вооруженных людей на улицах, фигней, которую вещают из каждого утюга. Тем, что Берт слишком много времени провел в Европе, что его пребывание было не самым успешным. Что невозможно предсказать, что еще выкинут люди Дейкстра и Лиоско, что гарантировать сохранности денежных вложений не могут даже европейские банки. Что азиаты делают вид, что сражаются за свои интересы в Африке, а на самом деле выводят ресурсы обратно в Азию – в Южную Америку тоже. И это почему-то особенно задело Горрена.
Это удивило Берта куда меньше, чем следовало ожидать. Горрен, очевидно, обладал вполне внятными представлениями о мерках своего успеха, стремился к нему и по тому пути, который сам для себя обозначил; было это упрямством, желанием кому-то что-то доказать или наоборот опровергнуть– неизвестно, Берт не интересовался особенно, ему было нелюбопытно. Жить рядом с Горреном было интересно, тянуться за ним – в куда большей степени, и финансово сотрудничество с ним было более чем выгодно. Все остальные сложности, не входившие в этот перечень, не интересовали его; так представлял себе, пытался оправдаться Берт.
Оказывалось, ему было очень сложно разговаривать с угрюмым, меланхоличным Горреном. Он рассказывал о своих достижениях в Европе – и ему казалось, что Горрен едва слушает его. Берт обижался, сердился; Горрен смотрел на него прищуренными глазами и морщился.
– Ты выглядишь так, как если бы тебе сказали, что через сорок восемь часов лишат всех прав и привилегий и отправят чернорабочим в доки Момбасы, – недовольно заметил Берт. – Хотя что это я. Честный и почетный труд чернорабочего тебе явно не светит, ты слишком хорош для этого.
В ответ Горрен мрачно посмотрел на него и прошелся по комнате. Берт прикусил язык. Ему все больше не нравилось ни настроение Горрена, ни возможные его причины. И общая атмосфера была крайне натянутой. Он и спросил, что все-таки стало причиной этой меланхолии. «Это до такой степени непохоже на тебя, что я начинаю задумываться о своем будущем», – добавил он.
– Тебя интересует только твоя шкура? – спросил Горрен. – Меня почти не удивляет. Вполне в духе современных индивидуалистических традиций.
– Отчего современных-то? – искренне удивился Берт. – Им лет под пять тысяч. Если историки не врут. Разумный эгоизм, инстинкт самосохранения, прочая фигня. Говорят, что даже для альтруизма служит фундаментом.
– Иными словами, тебя действительно интересует только твоя шкура.
– Увы мне, увы. А тебя разве нет?
Горрен поморщился, передернул плечами и продолжил ходить по комнате.
– Моя ли шкура, твоя, это не меняет простого факта, что мы оказались в пренеприятной ситуации, – мрачно заметил он. – Вернее, в неприятной ситуации оказался я. По тебе если попадет, то только рикошетом.
Берт не сомневался, что Горрен прав. Он был согласен и с такой оценкой ситуации. Ему хотелось благополучного исхода дела, хотя он не особо представлял, что именно хотел сказать Горрен и на что он рассчитывает; значительно меньше хотелось оказаться в таком положении, которое вынуждало бы его что-то предпринимать, решать, иными словами – действовать.
– Ты неожиданно пессимистичен, – пробормотал Берт, в последний момент удержавшись и не брякнув: рикошет тоже может убить.
Любопытно было, смог ли Горрен прочитать его мысли. Он посмотрел на Берта подозрительно, скептически поднял бровь – промолчал, но по-прежнему нервно вышагивал по комнате.
– Если мне позволено будет поинтересоваться… – осторожно начал Берт.
Горрен покосился на него.
– Позволено. – Сухо ответил он. – Ты хочешь знать, как сильно пострадает твоя шкура?
Берт хотел поежиться – все-таки в проницательности этому типу не откажешь. Думал ли он так на самом деле или просто предположил, потому что у самого именно такие мысли возникли бы, Берт предпочел не задумываться. Он решил вильнуть в сторону и отвести его внимание от скользкой темы:
– Я хочу знать, с чего ты решил, что пострадает моя и твоя шкура. Если, конечно, я не нарушаю тем самым какой-то смертельный закон.
– Отчего же, никаких смертельных тайн, охотно обяжу, объясню. По-приятельски. В этой грандиозной гонке за место генсека ты на кого поставил?
Берт приоткрыл рот в удивлении. Он категорически не мог припомнить за собой такой самонадеянности. Он делал предположения, обсуждал со всеми, кто изъявлял желание, перспективы карьер Дейкстра и Лиоско, сплетничал насчет приближенных к ним, но чтобы решить для себя – по крайней мере, кто, по его мнению, заберется на самую вершину Олимпа, кто будет оставлен прозябать у его подножия, если, разумеется, его не растерзают на одном из склонов приспешники.
– Вот именно. Каюсь, оказался недостаточно дальновидным. Заигрался в игры, не длящиеся всю жизнь, ограничил свое внимание ближайшим будущим. В результате прощелкал свое будущее, – саркастично говорил Горрен. Он то замирал, злорадно смотрел на Берта, словно спрашивал: и что будешь делать теперь? – и снова шагал, от стены к стене, от окна к двери, не останавливался, не спешил. Напоминал какого-то грызуна, что ли, который всю жизнь проводил в движении, не осознавая, зачем и с какой целью он мечется по клетке. Ему-то все равно, природа требует, не меньше, великая богиня, пред которой преклоняют колена все, и даже великие. На нее вообще многое можно спихнуть, если не хочется нести ответственность.
И Горрен словно проверял Берта. Представлял самое мрачное будущее из возможных, описывал его в тусклейших красках, обращал внимание на удручающее состояние человеческой природы и породы, и прочая. Берт предпочитал не вслушиваться в слова Горрена – была опасность уверовать в них, и тогда пиши пропало. Придется ждать нападения из-за каждого угла, в каждом видеть потенциального если не палача, так стукача, а от этого может случиться изжога – в лучшем случае. В худшем – злые предчувствия могут оказаться верными. А этого Берт хотел меньше всего. В конце концов, у него было несколько счетов, неплохие связи, много приятелей, желание жить спокойно и даже бессмысленно. Примерно как Горрен суетится без особой цели, так Берт улегся бы и бесцельно лежал на диване, перебирая в уме четки-воспоминания о былых свершениях.
Если относиться к стращаниям Горрена серьезно, то будущее представало в нерадостном свете. Берт предпочитал относиться к его монологу безэмоционально, не примерять на себя, а внимать, как пленарному выступлению какого-нибудь почетного председателя на второстепенном конгрессе. Но картина действительно представала нерадостная.
Хитрец Горрен Даг был уверен, что выборы генсека Лиги – больше формальность, чем действительно значимое событие, по накалу страстей приближавшееся к классической драме. Он и развлекался тем, что оказывал услуги сторонникам Квентина Дейкстра – но и консультировал, и не только: не гнушался оказывать кое-какую помощь людям, по разным причинам поддерживавшим других кандидатов. Он сталкивался с Лиоско, находил его жлобом и напыщенным придурком, но был исключительно вежлив и услужлив: эти люди рядом с верхушкой власти утрачивают связь с реальностью, как только вселяются в большой кабинет с видом на центральную площадь или на главный двор правительственного здания. Вдобавок к эйфории от успеха они обзаводятся служками, которые точно так же беспомощны против магии титула «государственный чиновник». Они угодничают тем больше, чем более уверенным становится их начальник в том, что заслужил свое положение, привилегии и так далее, а не попал в счастливый расклад. Лиоско не отличался от других. Был типичным продуктом своей среды, разве что мог прикинуться очаровательным – либо артистично-саркастичным – либо многозначительно недоговаривающим. За последнее Горрен не любил его особенно, словно считая, что тот узурпирует его право быть жеманным, наполнять речь многозначительными паузами и, словно этого было мало, сдабривать их двусмысленными взглядами.
Собственно, оказывая помощь помощникам Лиоско, а скорей, помощникам их помощников, Горрен делал это ни в коем случае не по убеждению, а потому, что рассчитывал на более щедрое вознаграждение: те, которые находились у власти, воспринимали желание оказать им услугу как нечто естественное, само собой разумеющееся, соответственно не считали нужным как-то особо поощрять. С людьми менее успешными, расположенными не у кормила власти, было куда проще. Куда выгодней экономически. Они были менее привередливы, более откровенны, более щедры.
И это оправдывало себя. Горрен напоминал Берту: мы сводили того и того, выискивали информацию о том и том, организовывали такую и такую поездку, находили таких и таких людей. Помнишь? Еще бы. Иногда они оказывались успешными, иногда не так. Но расположение и даже благодарность людей Лиоско и его самого Горрен успел завоевать. До того, как случилось внимание мегакорпов: до того, как они рассмотрели в Лиоско удобную марионетку.
– Я никогда не думал, что у этого… Лиоско получится стать… – Горрен замолчал – подбирал точный эпитет, очевидно. Это было нелегко: говорить предстояло о человеке с очень расплывчатой аурой и неопределенным характером, о человеке, предпочитавшим прятаться настолько глубоко за своей публичной персоной, что едва ли за слоями притворств и масок оставалось что-то значительное, стоящее внимания. Берт разделял эту неловкость: вроде и сказать нужно, вроде и охарактеризовать его – а как? – Получится пробраться так далеко. Он совсем не из того теста тип, – наконец выкрутился Горрен. Уселся напротив Берта, скривился, начал изучать стены, потолок – все, что угодно, лишь бы не продолжать свою исповедь. И не продолжать ее он не мог: словно решившись озвучить свои соображения, он рассчитывал уменьшить вероятность того, что они воплотятся в жизнь. – А теперь смотри: мы… – он посмотрел на Берта, неожиданно усмехнулся: – Я.
И замолк.
Берт тоже молчал.
Ему не нужны были особо пояснения Горрена: любой человек хотя бы с парой извилин вполне мог понять, что именно Горрен хотел сказать, и для этого не требовались особые способности, достаточно здравого смысла и немного опыта.
Они оказывали информационные услуги – за неимением лучшего Берт был согласен на такую невнятную формулировку – помощникам помощников Дейкстра, и дураками были бы, если бы отказывались: это какие возможности открывались перед ними! Они бывали полезными людям Лиоско – по таким же корыстным причинам. Горрен наверняка заигрывал и с чиновниками в свите нынешнего главы, и это тоже было объяснимо. Вполне понятно и уместно, оправдано и объяснимо, понятно всем и вся. В конце концов, не то было общество, не тот строй, чтобы оппозиция готова была отстаивать свои догматы до последнего, в том числе и последнего вздоха; все предпочитали бескровное решение проблем, которое, впрочем, могло оказаться не менее жестоким. Поначалу, когда существовал один-единственный кандидат в генсеки, когда никто не сомневался в успехе Дейкстра, в том, что он обеспечил (или близок к тому) себе победу, на заигрывания с аутсайдерами смотрели сквозь пальцы, как на причуду, при этом сокрее одобряя, нежели осуждая, добродушно посмеиваясь: мол, ничего не имеем против подобного оригинальничанья. Но Лиоско неожиданно отхватил себе значительный кусок рейтинга Дейкстра, и аналитики впервые признали, что возможен иной сценарий, по которому в самом главном кресле окажется совсем не очевидный кандидат, и большинство безразличных до этого людей внезапно встрепенулись и задумались о своем будущем. А еще о будущем других.
В то, что Лиоско доберется до самого верха, люди заинтересованные все-таки сомневались. Еще бы – не тот человек, не те у него приятели, чтобы допускать Лиоско на самый верх. О том, кому он служит, с кем обедает по воскресеньям и ужинает по субботам в элитных местах, если не знали, то предполагали многие. Говорить вслух не осмеливались – может оказаться чреватым, а то и губительным. Но шептались с близкими друзьями, точно с таким же удовольствием, как и обсуждали любовную жизнь Дейкстра. Но если некоторая беспорядочность последнего в поисках удовольствий оценивалась положительно: он полон мужской силы, значит, будет хорошим лидером – традиционное представление, от которого общество отказывалось избавляться, то беспорядочность первого в ином вызывала подозрение. Осуждать не рисковали: были бы на месте Лиоско, так наверняка бы присосались к «Астерре», к «Акуфин», «КДТ», чему угодно, рассчитывая на их щедрость. Но доверять не спешили тем более.
Противостояние этих людей достигло критической точки, а после этого превратилось в противоборство. А там кто не с одним из них, тот против него.
И следовало решить, от сотрудничества с кем следовало отказываться. И одновременно было ясно, что выбор – любой, каким бы он ни был, ни в коем случае не гарантировал успеха. Скорей наоборот. Обе стороны отличались злопамятностью просто в силу своего положения. У них не было выбора, как только внимательно следить за противниками и делать все возможное, чтобы ослабить их.
Что касалось мелких людишек вроде Горрена с Бертом, их могли размолоть в костную муку просто походя, не заметив помехи. И это точно так же было ясно Берту.
Горрен кратко обозначил это, говоря о себе, но не о них, и выжидающе уставился на Берта. Тот пожал плечами. Ответил:
– Это едва ли окажется настолько серьезным. Хотя… Нет, едва ли. Ну или можно попробовать где-то еще.
Улыбка Горрена не дрогнула. Он только глаза отвел на пару секунд.
========== Часть 34 ==========
На континенте происходило много чего, и полное представление о событиях едва ли имели и самые осведомленные государственные службы, тем более простые люди вроде Берта Франка. В аквариуме, в котором обосновался он, все было относительно спокойно. Люди рядом с ним были напряжены – бесспорно; не замечать усиленного патрулирования, военных и полицейских патрулей, бывших практически везде и выглядевших зловеще – готовыми в любой момент атаковать, не ожидавшими ничего хорошего от тех, кого видели, было все сложней, но и к ним люди привыкали очень быстро, тем более, на счастье самих гражданских лиц такие изменения оказывались постепенными, незначительными, если не оглядываться слишком далеко назад и не задумываться об очень далеком будущем. На глубокий анализ положения решались немногие, большинство предпочитало смотреть в землю перед собой. СМИ играли в ту же игру, предпочитая рассказывать о незначительных событиях, преподнося их как нечто существенное, судьбоносное даже. И люди упрямо продолжали жить как прежде. Они открывали новые магазины, рестораны и бары, они возводили новые небоскребы, учреждали новые компании, женились, разводились, сплетничали, советовали спортклубы, курорты и санатории, посвящали знакомых в новые хобби и так далее. Берт не стремился нарушить мир в его блаженном мирке, время от времени косился на прозрачные стенки аквариума, но у него не всегда хватало духу посмотреть и сквозь них.
За пределами его мирка, практически совсем рядом случалось слишком многое, и оставаться безучастным оказывалось сложно. Берт, предпочитавший созерцать, помалкивал, но слушал. К его присутствию были привычны, на то, что он большей частью задавал вопросы, а не отвечал на них – а иногда и просто избегал ответов, тоже не обращали особого внимания, и в его присутствии рассказывали самое разное. О том, что горничная внезапно не вышла на работу, а через несколько дней хозяев допрашивала полиция: женщина оказалась связана с какой-то странной полулегальной группой, заинтересовавшей секретную полицию, и теперь сидит в тюрьме. Человек, рассказывавший это, возмущался не столько присутствием мятежницы под крышей своего дома, сколько тем, что агентства работают так ненадежно. Он хвастался чуть позже, что предъявил агентству иск и, по мнению адвокатов, может рассчитывать на солидную компенсацию за моральный ущерб. «Они обязаны следить за нашей безопасностью, а не относиться так наплевательски к жизням своих клиентов!» – возмущался он. Берт слушал, неопределенно угукал – предпочитал не задумываться слишком сильно о том, что это могло обозначать. Но не утерпел: воспользовался журналистским удостоверением, добрался до тюрьмы, где сидела та женщина, поговорил с ней. Удивился, насколько нормальной она выглядела, не смог распознать в ее ответах, в ее безнадежных рассказах ни намека на активное участие в каких-то сомнительных заговорах. И обнадежить ее тоже не рискнул, особенно в помещении для допросов, которое выделило ему тюремное начальство: он был почти уверен, что их прослушивают, и не хотел рисковать благим настроением местного начальства. Перед тем, как отправиться на чашечку кофе к директору – приглашение было облечено в любезные слова, но не оставляло сомнений, что отказ будет оценен очень сурово. Этот же директор, слышавший о славе Берта, пусть крошечной, но стабильной, о том, что его статьи пользуются успехом в Европе – точно так же: пусть крошечным, но стабильным, – решил воспользоваться такой замечательной возможностью и поиграть в потенциального Очень Крупного Политика. Он рассказал о деле, причем Берт не мог избавиться от неприятного ощущения, что директор жаждет увидеть себя на экранах медиаустройств. И там он не будет выглядеть глупо, как предполагал Берт, улыбавшийся этому типу, неприятно походившему на обрюзгшего, ленивого, но сильного и очень хитрого бурого медведя куда больше, чем на человека, а наоборот, проявит красноречие, государственную мудрость и гражданскую ответственность – все то, чего Берт не замечал в нем. Но он цедил кофе, поданный в маленьких чашечках – неплохой, густой, ароматный, слишком крепкий для послеобеденного кофепития, – и не стремился ни обнадеживать его, ни разубеждать, что не видит в его рассказах ничего, что способно было бы заинтересовать европейского зрителя. А для африканского директор тюрьмы был слишком типичен: в меру лжив, в меру корыстолюбив, в меру педантичен, в меру жесток. Обеспечен женой и двумя любовницами, причем умудрялся обеспечивать всех в меру своего разумения и за счет тюрьмы – считай, заключенных. Хитрожоп: охотно признается в верности нынешнему главе государства – Лиги – вышестоящему начальству, но так, чтобы это была не слишком конкретная признательность, чтобы в случае чего использовать те же слова признательности в отношении других вышестоящих, которые могли оказаться и злыми врагами нынешним. Директор был доволен своим нынешним положением, рассчитывал провести на своем посту бесконечно долго времени, с почестями уйти в отставку, оставить солидное наследие сыновьям и удачно пристроить дочерей. Что именно совершалось в отношении заключенных, его не интересовало – до тех пор, разумеется, пока к ним не привлекалось внимание извне. Интереса Берта к той женщине он не понимал, но не чуждался говорить. В его представлении она выходила глуповатой, амбициозной, желающей скандала ради скандала. Не туда влезшей, в определенной степени жертвой обстоятельств, но бесспорно виновной в том, в чем ее обвиняет государственная полиция. Берт соглашался с тем, что женщина эта – глуповата и жертва обстоятельств, не с тем человеком рассчитывавшая обустроить семейное гнездышко, но помалкивал. Он не видел ни одной черты в ней, способной подтвердить, что она действительно могла сознательно выступить против правительства, да даже хотя бы отчасти осознавала бы, что вступает в оппозицию. Берт был почти уверен, что эта женщина – не единственная: Йоханнесбург, в котором он обустроился пока, был одержим паранойей. Люди пытались сделать вид, что все в порядке, что ничего особенного не происходит, но при малейшем подозрительном слове или взгляде докладывали в «определенные места». Кураторы в Европе прозрачно намекнули Берту, что истории о несправедливо заключенной, равно как и о тюрьме, все больше превращавшейся в место содержания инакомыслящих в Европе неинтересны. Женщина не походила на узника совести, сотрудники тюрьмы – на гестаповцев, соответственно материал не вызовет интереса. Беженцы куда интересней, и если месье Франк соизволит пошевелиться и отправиться в места экологических – это особо подчеркивалось – или экономических катастроф, это может быть неплохо оплачено. Берт отбрехивался насущными делами, присматривался к другим событиям в столичном регионе, которые могли бы принести доходец, занимался рутиной, бегал по поручениям Горрена – и не спешил отправляться на север, ближе к экватору.
Несмотря на кажущееся спокойствие, Берту приходилось быть значительно осмотрительней, чем раньше. Даже когда Горрен настоял на телохранителях, он не был настолько беспокоен. Потому что раньше – когда Берт, в угоду европейской публике, занимался легкой критикой местных порядков (именно легкой, при этом значительно больше внимания уделяя трагедиям частных лиц, когда от него требовалось, или бытовой аналитикой, чтобы украсить текст), и когда благодаря этому у него завелись недоброжелатели, было понятно, куда смотреть и откуда ждать удара. Но тот период закончился, до Берта никому не было дела, а угроза возможна отовсюду. Наверное, даже исключительные меры предосторожности не спасли бы: даже не выбираясь в далекие от центра районы, можно было нарваться на удар. Причин для неожиданной агрессии доставало: например, цвет кожи. И ладно Берт: один из очень редких белокожих в приближенных к властным кругах, наверное, крокодилы-альбиносы встречаются редко. Но, как выяснялось, среди африканцев существовало очень много поводов, чтобы смотреть свысока на представителей отличавшихся этнических типов. Семиты с севера были недопредставлены в лигейской администрации. Юго-восточные негры, напротив – с избытком. Первые плевались, едва заслышав о вторых, те отзывались о первых с плохо замаскированным превосходством. О неграх из центра говорили с нескрываемым пренебрежением, но остерегались высказываться о западных. Опросы упрямо показывали, что политики с желтоватой кожей и более широким лицом с крупными губами и носом располагали к себе больше, чем люди с синевато-черной кожей. И так далее. Образовательная политика велась бесконечно долгое время, но все равно не в первые сутки знакомства, так во вторые обязательно всплывал вопрос о племени, к которому относил себя человек. И это могло оказаться решающим в его карьере. Несмотря на бесконечные программы по искоренению трибализма – Берт писал и о них в угоду публике. До чего здорово было европейцам почитать о таких заморочках, снисходительно думая при этом: ну вот же… дикари.
От острого глаза Горрена не укрылось и то, как точно темы, на которые натравливают Берта, соответствовали едва различимым целям власть предержащих в Европе. Не всегда это было очевидно, но иногда все-таки угадывалось: когда заказчики хотели чуть поддержать Лиоско, но так, чтобы это не было явно, Берт собирал сплетенки о людях из свиты Дейкстра, оформлял их в нечто пристойное, преподносил как мнение общественности, а затем они с Горреном читали, во что превратили статейку цензоры: несколько фраз, изящный подбор слов – и общая интонация оказывается такой снисходительной, обреченной, многозначительной, словно автор намекал: это только малая часть из того, что я могу рассказать, но верьте, на самом деле все куда обширней. И на одном дыхании практически Берт мог быть вынужден рассказывать о неприятных проступках людей Лиоско – недостаточно, чтобы разрушить благоволение к нему влиятельных людей, тем более те и не обращали внимания на такую мелочь, но этого хватало, чтобы пошатнуть уважительное настроение. За такими маневрами едва можно было разглядеть истинные цели заказчиков, и Берт, слишком давно лишенный детальных сведений об административных играх в европейской лиге, был плохим провидцем. Но не Горрен: ему было подчас достаточно тех неопределенных фраз, которыми кураторы разговаривали с Бертом, чтобы присмотреться к кому-то в окружении Лиоско – Дейкстра – снова Лиоско. Он же и заметил: