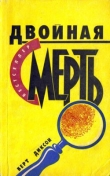Текст книги "Путь бесконечный, друг милосердный, сердце мое (СИ)"
Автор книги: Marbius
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 53 страниц)
– Как ты нашел меня? – тихо спросил Яспер. Он коснулся рукой стола, провел по нему, его рука застыла, он смотрел на Амора. Не ждал ответа – плевать бы на него.
Амор пожал плечами. Он задумчиво смотрел на руки Яспера, улыбался знакомо – ласково; Ясперу казалось, что он понимает куда больше, чем сам он, но и это было не самым незнакомым ощущением. Амор держал руки сцепленными в замок, очень сильно сжатыми – костяшки побелели. И Яспер снова переводил взгляд на его лицо, жаждал поймать его взгляд, погреться в его улыбке, и ему удавалось: Амор смотрел в одну сторону, в другую – и на него. Улыбался – и снова взгляд бродил по помещению.
– Это было неожиданно просто, – наконец признался он. – Некий майор Винк охотно помог мне.
– Майор, – поморщился Яспер. – Не полковник?
Амор подозрительно посмотрел на него.
– Нет. А должен быть?
Яспер пожал плечами, откинулся назад.
– Я бы не удивился. Я, признаться, всегда был уверен, что мне это удастся куда раньше, чем ему, а ему может и вообще не удаться, но, очевидно, судьба распорядилась иначе. Мне это не светит ни с какой стати, ему – напротив. – Он развел руками. – Более того, я в этом роскошном месте в такой замечательной компании.
Амор внимательно смотрел на него. И под его взглядом становилось неуютно: слишком холодно, тяжело, неловко.
– Амор? – тихо позвал его Яспер.
Губы Амора дрогнули.
– Я смею думать, что это – твое сиюминутное настроение, которое как-то связано с твоим вынужденным бездействием и этими множащимися мыслями, – ровно произнес он. – Это слишком непохоже на тебя.
– Я провожу слишком много времени наедине с собой, – охотно подтвердил Яспер и криво усмехнулся, признавая свою вину, но отказываясь чувствовать себя виноватым. – Но расскажи мне, отче, что ты делаешь здесь. Я удивлялся, когда ты выбирался в города рядом с твоим приходом, я куда больше удивлялся, что ты еще и в Лагосе бывал, но Йоханнесбург, отче, это одно из самых невероятных мест, чтобы встретить тебя. Что ты делаешь здесь? Неужели твои важные кардиналы решили, что тебя нужно помазать в епископы?
Амор поморщился. Он долго молчал, похлопывал по столешнице, рассматривал собственные пальцы. Эта пауза насторожила Яспера; он подался вперед, приготовился допрашивать его по всем правилам. Очевидно, почувствовав перемену в настроении, Амор поднял на него взгляд. Пожал плечами, сказал:
– Я сопровождаю Альбу. Она пытается добиться амнистии для детей-солдат, хотя бы тех, которые остались у нее в лагере.
Он снова пожал плечами, опустил голову в задумчивости.
Яспер, поморщившийся было, услышав это «Альба», сказанное слишком, на его взгляд, фамильярно, нахмурился.
– Ты думаешь, сейчас это возможно? – Амор настороженно посмотрел на него, и Яспер пояснил: – Сейчас не до этого. Все заняты куда более важными делами.
Он потрудился произнести это «важными» с двусмысленной улыбкой, и только это примирило Амора с тем, что ему только что сказали. Он только и прошипел: «Чушь», – и снова погрузился в угрюмое молчание.
– Отчего же, – мрачно возразил Яспер. – Сейчас всем есть дело в первую очередь до государственного строительства. Законы, ратификации, все такое. Затем до того, как бы поближе подобраться к тем, кого привечает новый генсек. Дети в такие важные задачи не вписываются совсем.
Амор посмотрел на него, вздохнул и скрестил руки на груди.
– Ты думаешь, я не понимаю? – меланхолично отозвался он. – Понимаю, и еще как. С другой стороны, я не могу не согласиться с Альбой. Сейчас все, вся эта ситуация настолько нестабильна, эти новые законы принимаются, старые отменяются, я утомился следить за этим после первых двух десятков отмен. Она утверждает, что именно сейчас отличное время, чтобы продвигать это дело. Есть и политики, которые готовы помочь. Пока есть возможность как-то воздействовать на них. Потом они успокоятся, обленятся, вообще откажутся что-то делать для детей.
– Получается? – сочувственно спросил Яспер, подаваясь вперед. Жаждая коснуться его – не позволяя себе.
Амор улыбнулся. И его улыбка, неожиданно знакомая, многократно виденная когда-то давно, оказалась полной внезапностью для Яспера: как будто он не просто встретил старого знакомого, а вернулся в какой-то особенно счастливый момент в детстве и вновь пережил искреннее, неподдельное и всеобъемлющее ощущение защищенности, умиротворенности, тихой, теплой, самую малость застенчивой радости. Он залюбовался Амором. Тот – не спешил отводить от Яспера глаза.
– Нет, – честно признался он. – Точней, я уверен, что нет, Альба настаивает, что мы молодцы и очень продвинулись. До этого нас не слушал вообще никто, сейчас – начали обращать внимание. Она потрясающий человек, удивительно целеустремленный. Я не могу не порадоваться за нее, что она нашла свое место в этой жизни.
– Здорово, замечательно. Но ты с ней не согласен. – Ухмыльнулся Яспер.
Амор пожал плечами. Задумчиво заметил:
– Я, наверное, не настолько ловок в том, что касается долгих планов. Альба уверена, что когда-нибудь лет через пять, если повезет, мы добьемся определенных результатов. Она же считает, что пять лет может оказаться слишком оптимистичным прогнозом, но мы все равно преуспеем. Я пока вижу, как громко хлопают двери перед нашими носами. Достаточно приблизиться, и – бам!
Он взмахнул рукой, имитируя жест, которым толкают дверь, чтобы она захлопнулась, и улыбнулся – снова той искренней, радостной улыбкой, от которой снова затрепетало сердце Яспера. Глупейшая реакция – и такая неподдельная.
– Она действительно оптимистка. И сколько людей уже поставили вас в известность, что им наплевать на идеи Альбы?
Амор пожал плечами.
Их было много – тех, в переговорах с кем он лично принимал участие. Хотя – скорей присутствовал: ему не хватало настойчивости, решительности, говорливости, находчивости Альбы, он не успевал реагировать на те залпы, которые по ним выпускали чиновники, и тем более достойно отреагировать на них. Даже если он успевал собраться, то реакция его оказывалась неуместной: Амор был привычен к тому, чтобы отмалчиваться, чтобы делать вид, что согласен, или отговариваться общими фразами. В ситуациях, в которые вовлекала его Альба, когда к нему обращались, когда споры перемещались от Альбы к нему, Амор защищался, с трудом удерживался, чтобы не начать оправдываться, хотя нужно было нападать – как это делала Альба. О, она была хороша: решительна, выдержана, последовательна, готова атаковать, категорически настроена против того, чтобы защищаться, – все то, чего не замечалось в Аморе. Он заставлял себя поддерживать ее, заимствовал ее фразы, ее манеры – представлял, что разыгрывает «Альбу»: нехитрый прием, а действовал, и, прячась за маской «Альбы», Амор мог кое-когда дотянуть и до ее решительности. Это было сложно, тяжело, утомительно, пусть и необходимо; и само это понимание своей недостаточной пригодности тоже оказывалось для Амора бременем. Он понимал, что Альба сражается за нужное, важное, ответственное дело, одновременно видел, что он был ей слабым помощником, и неудовлетворенность собственной слабосильностью раздражала его и удручала. Наверное, значительно сильней, чем постоянные неудачи, преследовавшие их.
И при этом что он, что Альба, что Илария Декрит, что несколько менее титулованных, влиятельных людей, активно участвующих в этой затее, признавали: что-то да меняется, что-то уже изменилось, незначительно, но ощущаемо. Раньше на них обращали внимание в последнюю очередь, соглашались поддерживать программы, разрабатываемые Альбой и Иларией, с крайней неохотой и подчеркивали при этом, что делают это из уважения к происхождению дам, их полу – слабому, и на это следует делать скидки – значительные, а также к вопиющему невежеству, которое те демонстрируют во всевозможных областях общественной жизни. Европейские представительства, в которых у той же Альбы были значительные связи, соглашались помогать, но с многочисленными оговорками, готовы были предоставить в распоряжение Альбы Франк определенные средства – но «вы должны понимать, что наши финансовые возможности несколько ограничены»; консультационные услуги тоже были не ахти, Илария признавала, что ее опыт проживания в Африке – формально, на деле – на территории, действовавшей по иным правилам, подчинявшейся скорей европейским инстанциям, мог оказываться куда более обширным. То, что на них обращали внимание, было замечательно. То, что Альба смогла добиться присутствия на заседаниях комиссий в нацправительствах – еще лучше. Но ей удалось пробиться на прием к лигейскому главе комитета по реабилитации. Он оказался не самым приятным типом, у комитета было удручающе много работы, но Альба заставила его выслушать себя, и попробовал бы он не подчиниться. Она была уверена, что получится дойти и до консультантов Дейкстра и через них донести свою точку зрения до него и других членов президиума Лиги. Главное – сейчас, когда кругом происходят перемены, везде появляются новые люди, происходят неожиданные назначения, совершаются преобразования. Дейкстра был твердо намерен перестроить государственную структуру под себя, действовал тем более решительно, что хотел обезопасить себя – и отомстить, разумеется, и пока то новое здание, которое он возводил, было хлипким, Альба рассчитывала вложить в его стены пару кирпичиков.
Ее программа была не единственной. В тех же СМИ – не центральных, не самых крупных, а помельче, но приближенных к власти – заговаривали о трагедиях отдельных судеб. Внезапно – на первый взгляд, разумеется, начинали появляться истории людей, побывавших в плену и трудовых лагерях, причем подразумевалось, что лагеря эти располагались на месторождениях, которые узурпировали мегакорпы, людей, вынужденно служивших в повстанческих отрядах – и они, солдаты эти, сдавленно и запинаясь рассказывали о времени, проведенном в них, но при этом обязательно упоминали, что возглавляли эти отряды совсем не африканцы, а наемники, постоянно общавшиеся с кем-то из-за моря. Это было выгодно, очень уместно, позволяло делать репортажи о многочисленных расследованиях военных преступлений, обязательно с привлечением экспертов всевозможных направлений, и журналисты вроде как независимо от официальных источников приходили ко вполне определенным выводам. Удобным как раз официальным источникам.
К сожалению, не все дети – нынче подростки, проведшие детство, воюя в самых разных местах и на стороне не пойми кого, – были привлекательным материалом для журналистов. За ними не скрывалось политических сокровищ, на них не очень легко было сделать удобный кое-каким структурам репортаж. Их было жалко, бесспорно. Но их было много. Это было неизбежным злом, особенно в местах, удаленных от крупных городов, где дети все еще были товаром, иногда ценным, иногда обременительным, но не незаменимым. Более того, эти дети при ближайшем рассмотрении оказывались обузой для бюджета – они нуждались в образовании, часто начиная с начальной ступени; им необходима была значительная медицинская помощь; они требовали длительной и сложной психологической и социальной реабилитации, которая часто оказывалась бесполезной, потому что избавить их от психозов, фобий и прочего удавалось не всегда. Они могли никогда не влиться в рабочий рынок, потому что многие были калеками. В конце концов, Африка была истощена. У нее не хватало средств на самое насущное, ущерб от военных действий был колоссальным, а они еще шли, и в некоторых местах очень активные, восстановление инфраструктуры, в ряде мест – промышленности, администрации, жилья, больниц, иными словами всего требовало огромных инвестиций, но чтобы решиться на них, нужно быть уверенным, что они окупятся. Дети-солдаты такой уверенности не вселяли.
Альба, ее помощники, Илария – все понимали это, однако рассчитывали на перемены в настроениях самых разных групп населения. Пока то, что они делали, пытаясь переломить законодательство, социальную политику, общественное мнение, было не самым организованным, у них была цель, но она не подкреплялась четко выработанной стратегией, разве в самых общих чертах. Альба пробовала все и всяческие средства, приходившие ей в голову, какие-то отбрасывала за невыполнимостью, к некоторым возвращалась и видоизменяла; дорабатывала, подкрепляла опытом своим и чужим, укрепляла кампанию новыми людьми, воспитывала старых. Она, на счастье своих спутников, не понаслышке знала о политической борьбе, отлично помнила еще по европейскому опыту, что можно проиграть сражение и даже войну и все равно оказаться полезным, получить выгоды – эгоистичные ли, ориентированные на достижение благих результатов. И она не унывала. Злилась – сердилась – говорила, что ненавидит эту проклятую африканскую необязательность и странные этикеты – тихо восхищалась совершенно особенным закатом – проводила часы на местных рынках, торгуясь, расспрашивая продавцов, кто изготавливал ту или иную штуковину, как и где, а потом восхищалась ей. Это было отличным стимулятором, как выяснялось; достаточно было пройтись вдоль стеллажей с такими покупками, подойти к полкам с поделками, изготовленными бывшими беженцами, бывшими же солдатами, понедоумевать, чем эти кривоватые, аляпистые, нефункциональные вещи заслужили свое место рядом с искусными изделиями. Задержать дыхание, всмотреться повнимательней, узнав, что эти вот безобразные поделки – часто первые самостоятельно изготовленные предметы детей-рабов, проведших первые двенадцать лет своей жизни на далекой ферме, работавших в поле, на ферме, в лесу, где угодно с трех часов ночи до семи часов дня в любую погоду, впервые увидевших азбуку в миротворческом лагере лагере; либо детей-солдат, попавших в отряд лет в восемь-девять лет и не видевших ничего, кроме оружия и постоянных походов, не слышавших ничего, кроме приказов командира. Не Альба, так Илария могли рассказать о художнике, создавшем нелепицу; Амор тоже, но он был не настолько красноречив – не так ловок, чтобы, рассказывая, так выворачивать историю, чтобы достичь максимального эффекта. Он, рассказывая, казался слишком сдержанным, казался безразличным, потому что старался не звучать особенно трагично. Это не вселяло в собеседника трагического чувства, желания посочувствовать – помочь; скорее, растревоживало собственную вину, а это могло оказаться губительным. С другой стороны, он все-таки был священником; он настаивал на том, чтобы оставаться верным своему долгу, своей клятве, своему призванию – как он их понимал. Как ни странно, несмотря на активное недовольство всех этой продажной церковью, к Амору все-таки относились как к исключению. К нему прислушивались, его мнения могли спросить. У Альбы были большие планы на его счет, Амор сопротивлялся им. Альба не отчаивалась. Она последовательно, при каждой удобной возможности говорила, как здорово было бы, если бы к политикам, общественным деятелям и простым людям обращалась не только она – белая, женщина, европейка, но и Амор.
Все это Амор хотел рассказать Ясперу – поделиться, потому что хотел верить, что он действительно расположен слушать – и сочувствовать, сопереживать, вникать и разбираться. Неожиданное настроение с его стороны. Амор то смотрел на внимательное лицо Яспера, – и в сторону, снова на его лицо (а Яспер, кажется, начинал беспокоиться) и опять в сторону. Вздохнув, он все-таки попытался рассказать, чего они уже достигли и на что рассчитывают потом.
– У Альбы каждый день новые идеи, – с мягкой, добродушной, немного неловкой усмешкой – словно ему было стыдно за нее, – говорил Амор. – Она знакомится с кем-то и тут же выпытывает, чем он может быть полезен. Я не успеваю удивляться, сколько у нее знакомых и скольких новых она завела.
Яспер согласно покивал головой. Подбадривающе улыбнулся. Полюбопытствовал:
– Помогает?
Амор пожал плечами. Начал задумчиво говорить:
– Это дело не одного года. Мы сначала хотели хотя бы что-то предпринять, получить какие-то гарантии, чтобы обезопасить детей. Пока они несовершеннолетние, им положены какие-никакие поблажки. Это не снимает ответственности за совершенное, но им обеспечивается возможность реабилитации. Альба рассказывала как-то, что в свое время достигла высот по затягиванию дел: тогда это помогало. Знаешь, придумывать разные поводы, чтобы случай того или иного ребенка отправлялся на пересмотр. Дети в это время проходили бы реабилитацию, а там как-то незаметно приходит срок истечения ответственности. Понимаешь?
– Очень практичная тактика, тем более для этого ничего делать не нужно, – усмехнулся Яспер. – Любой службе нужно полповода, чтобы перестать обращать на дело внимание, даже взятки не нужны.
Амор невесело улыбнулся.
– Беда в том, что это касается наказания несовершеннолетних солдат, расследования их обстоятельств, которые могли бы их оправдать, и всех остальных случаев в том числе. Затягивать расследование – это здорово, когда речь идет о нескольких случаях. Но их тысячи, Яспер. На моих глазах лагерь увеличился чуть ли не в полтора раза именно за счет таких детей.
Яспер слушал его – с трудом сдерживал улыбку: Амор говорил о «детях», хотя им могло быть по шестнадцать лет. Наверное, он был прав: этим ребятам, проведшим несколько лет в вооруженных отрядах, предоставлялась возможность вернуться в детство, научиться каким-то базовым умениям, которые другие дети осваивают самостоятельно в самом раннем возрасте. Наверное, заметь Амор улыбку Яспера, почувствовал бы себя задетым, замолчал и сменил тему. Яспер не хотел этого – он действительно желал знать, чем жив Амор. Есть ли в его жизни место для него. Какое место – где именно в его сердце может обосноваться Яспер.
Амор же рассказывал, то ли воодушевленный поощряющим молчанием Яспера, то ли просто желая поделиться своими сомнениями. Он говорил, что Альба настаивала на том, чтобы Амору вести себя чуть более активно: он, простой священник (на чем настаивал сам Амор), но с определенной славой – а в этом Альба была уверена – мог не просто обратиться к людям: это могла сделать она, благо знакомства в кругу журналистов помогали, это же было возможно для Иларии Декрит, и ее попытки были обречены на значительно больший успех – доктор, работавший в миротворческом лагере, а до этого волонтерствовавший в глухих деревнях, учивший там фельдшеров и повитух, заведомо был куда более уважаем, чем чиновник. Но Амор был священником – простым, подчинявшимся епископу, но далеким от роскошного епископского двора и даже прихода в крупном городе, предпочтя этому нищий поселок и оказавшись в нем к месту и полезным – очень, невероятно нужным. Как он ни пытался уверить себя в обратном, люди знали его, помнили о том, как Амор помог тому, и тому, и еще той семье; журналисты побывали в лагере и взяли интервью у людей, которых Амор вывел из зоны военных действий, и слова молодой женщины, просто, спокойно и смиренно говорившей, что он спас их от смерти, а у нее слезы текли по щекам, как-то враз стали легендарными, а секундные кадры с отцом Амором Дагом – чуть ли не символом милосердия. К Альбе обращались раз за разом, не уговорит ли она его на интервью, и Амор упрямо отказывался. Он жаловался Ясперу, что эта идея приводит его в ужас.
– Отчего же? – пожимал плечами Яспер. – Твое призвание разве запрещает тебе давать интервью?
– Дело не в этом, – морщился Амор. – Я не могу, не хочу и не желаю этого. Понимаешь, я сделаю это однажды, и еще раз, и – куда я ни приду, люди будут говорить: ага, это тот тип, тот теле-священник, который так любит светиться на экранах. Разве ему можно доверять?
– Брось! – Яспер закатил глаза. – Какая чушь.
Для него – да, но не для Амора. Он не хотел этой славы, боялся ее. Он был скромным, незаметным человеком и желал оставаться им.
Что-то насторожило Яспера в его словах. Что-то странное, незаметное для неопытного человека. То, как Амор рассказывал о своих злоключениях и противостоянии с Альбой, было забавно – Амор преподносил это как веселое приключение, шутливую вражду близких друзей. Но когда речь заходила о том времени, когда он служил в нигерской деревне, когда речь заходила о чем-то, связанном с его работой, словно тень опускалась на его лицо, улыбка исчезала и голос звучал иначе, совсем не весело.
Яспер попытался припомнить: было ли сказано что-нибудь о епископатах, приходах, о священнике Аморе Даге? О первом и втором – да. О третьем – очень мало, и именно тогда эти меланхоличные интонации становились особенно заметными. А спрашивать об этом – Яспер понимал слишком хорошо, как болезненно это может быть. Обратись кто к нему с простым вопросом: тебе, наверное, жалко, что больше не доведется служить? – Яспер не отреагировал бы. Вскинул голову, окатил наглеца ледяным презрением – запросто. Но боли это не уняло бы. И Амор говорил о проектах Альбы Франк, о фондах, программах, успехах Эше Амади в учебе и его отчаянных настроениях, но ничего о том, что происходило в епископате. О том, что именно ждало его – отца Амора Дага, приходского священника, долгое время служившего в глухой деревушке.
Встреча была ожидаемо короткой – жалкий час, и он был разорван долгими паузами: странно, но Яспер был счастлив видеть Амора, искренне и безгранично, был уверен – видел, что Амор не меньше радовался встрече, и при этом они оба боялись ее. Ни Яспер не спешил открываться – а раньше мог говорить часами о том, что беспокоило его, не давало жить спокойно, раздражало, злило, веселило, развлекало, и прочее; ни Амор не делился своими трудностями. Они были – Яспер не сомневался. К сожалению, Амор предпочитал не посвящать его в них. Это задевало – что само по себе было непривычным. Если вспомнить: Амор никогда не стремился посвятить Яспера в свои сложности. Их было много. Они были предсказуемыми, наверное: жизнь в нищей деревне практически без средств; сама деревня располагалась как-то неприятно близко от областей гипержары; когда-то давно – переезд в Африку и адаптация в совершенно иной, незнакомой цивилизации, а этот процесс длился всю жизнь и часто оказывался неуспешным. Кажется, у Амора были недопонимания и с вышестоящими, что тоже неудивительно: он, приезжий, вынужден был противостоять двойному неприятию – как чужой и как белый. Ожидаемые, в общем, сложности, о них говорить не стоило. Или, размышлял Яспер, лежа на узкой кровати, закинув руки за голову, изучая грязный потолок, было что-то еще и Амор просто предпочитал не обременять его? Возможно, не в последнюю очередь потому, что Яспер отмахнулся бы от них – что сложного может быть в жизни непритязательного деревенского пастора, что сравнилось бы с его, Яспера, злоключениями?
Вслед за такими невеселыми мыслями приходили иные: что именно Амор делает в лигейской столице, какие именно планы связывает с ним та хитрая хищница Альба. И как туманные дела Амора в столице, в компании Альбы и других, объясняют мрачные настроения? И не служит ли для них основанием нечто иное, что-то, заставившее его заметно помрачнеть, когда Яспер обратился к нему по привычке чуть насмешливо, фамильярно, но по-приятельски: «отец священник»?
Дни снова тянулись бесконечным селевым потоком, лишая возможности вдохнуть полную грудь чистого воздуха, порадоваться простым удовольствиям, принуждая ненавидеть саму эту жизнь, отрезавшую доступ к друзьям, привычкам, знакомым местам, сведшую свободу к крошечной клетушке, из которой Яспера не собирались выпускать. Адвокаты говорили с постными лицами: «Разумеется, ваше поведение не может расцениваться как однозначно соответствующее уставу, но найти определенные толкования поведения, категорически не соответствующие ему, тоже не очень легко. Это, знаете ли, борьба мнений». Это Яспер понимал. Как и другое: эти борющиеся нынче мнения единогласно подчинятся самому главному, а оно все так и не оглашалось. То ли Дейкстра предпочел забыть о рыцарях, принесших в жертву его присяге свое положение, то ли ему было неудобно, что он смог разработать и воплотить невероятные планы, с уверенностью смотрел в будущее лет этак на пятьдесят и упустил из виду те крысиные бои, которые завязались прямо под его носом.
В любом случае, это было – становилось – неплохое время. Яспера и приятелей перевели в отдельный блок, который мог даже сойти за номера люкс, у них была отдельная комната отдыха, а в ней значительно ограниченный, но все-таки приемлемый доступ в сеть, возможность находиться не весь день в камерах, а покидать их и общаться друг с другом. Охранники присматривали за ними, но не следили, и если бы не электронные браслеты на руках и ногах – хитрые штуковины, считывавшие биохимиофизические параметры огранизма, его географическое положение и способные связаться с охраной, если в разговоре их носителя прозвучат некие слова-триггеры, – можно было бы расценивать это заключение как сносное. Расследование, казалось, замерло; его завершение действительно не было выгодно никому, как откровенно признавалась ему Номуса Огечи.
– Я готова передать документы в суд, – уныло рассказывала она. – Даже не так, господин майор, я не вижу оснований передавать дело в суд. В этическую комиссию – запросто, чтобы ограничить наказание взысканием, возможно, понижением в звании, хотя даже это совершенно необоснованно. Но у меня есть руководство, а у него есть руководство, как вы понимаете, и я не могу с достоверностью сказать, какие именно мотивы оно преследует и какие распоряжения получает от своего руководства.
Яспер мог, наверное, просветить ее, навскидку назвав около пятнадцати причин. Самых разных: неудобство, которое они доставят тому самому «наивысшему руководству», чьего имени они все предпочитали не произносить; прецедент, который если не подстегнет другие бунты, то на дисциплине скажется точно. Личная месть – почему бы нет, Яспер Эйдерлинк был шипом в заднице, слишком самостоятелен, повсюду совал свой нос, на каждую мелочь предпочитал иметь собственное мнение, и остальные его товарищи были тоже не самым покладистым народом. Врагов у них хватало. В конце концов, просто держать их подальше от бурной общественной деятельности – чем не повод, потому что независимости что Яспера, что остальных вполне хватит, чтобы запустить кампанию за восстановление своего честного имени и сделать ее максимально гласной.
В то, что милая и идеалистичная девица Номуса Огечи делала все возможное, Яспер не сомневался. Ей не хватало ловкости, приобретаемой исключительно с возрастом, ей мешала ее же собственная совесть; на это накладывалось и желание что-то сделать для своей собственной карьеры, робость перед начальством и, возможно, мнение коллег – как бы ни говорили молодые люди, что они совершенно самостоятельны и им плевать на сверстников, авторитеты, тетушку из соседнего дома и булочника из своего квартала, они все-таки оглядывались на них, чтобы убедиться, что, по крайней мере, их заметили. Она была толковой, это Номуса Отечи. Она была привлекательной, и Яспер, если настроение у них обоих было сносным – неплохим – хорошим, делал ей комплименты, заигрывал и отвечал на флирт с ее стороны: она знала о своей привлекательности, была привычна к ней, находила привлекательным Яспера. Возможно, больше, чем сам он был расположен делать их разговоры на отстраненные темы чуть более личными. Он просто вспоминал то время, когда не просто был уверен в своей неотразимости – получал от этого удовольствие, находил это важным. Это было давно. Это было в иной жизни и с иным Яспером Эйдерлинком, которого он нынешний, встретив на улице, счел бы за фата.
Но у Яспера были другие заботы. Он хотел узнать об Аморе больше. А это невозможно, если он не понимал, что именно могло вызывать его меланхолию. Это невозможно было, если не понимать, что именно творилось в церкви – вообще, и в африканской ее ветви в частности. Правда, Яспер начал понимать эту нехитрую истину не сразу.
Сначала он просто искал проповеди Амора – их оказалось много. У Амора, оказывается, были поклонники; часть сохраненных проповедей относилась к его жизни до великого исхода, но их было много и паршивого качества. Это не удивляло: в деревнях мало кто обладал достаточно хорошими аппаратами, чтобы сделать достойную запись, и не нужно это было особо: отец Амор – вот он, рядом, нужно всего лишь подойти к нему, и он скажет пару фраз, предназначенных именно тебе и поэтому куда более ценных. Потом, в лагере, записи его служб – в церквушке, его встреч с самыми разными людьми – в часовенке, которую и Яспер помнил, или где-то еще, делались последовательно, чуть ли не на каждой службе – совместной молитве – панихиде. Едва ли Амор обращал на это внимание: игнорировал поди, по замечательной привычке избирательно относиться к собственному окружению, что его снимают. Но кто-то записывал, что он там говорил, делал расшифровку, размещал в сети, даже с комментариями. Это сопровождалось историей Амора, историями людей, знавших его. Это было подозрительно. И Яспер не мог ничего поделать – пересматривал его проповеди. Не слушал: с ним Амор был куда красноречивей, остроумней, насмешливей, хотя оставался все тем же понимающим, добрым, щедрым, полным любви человеком. Но смотрел – улыбался, когда Амор шутил, а люди, его слушавшие, отзывались смешками. Хмурился, когда Амор собирался с духом и начинал говорить на сложные, тяжелые темы. Следил за тем, как Амор смотрел на людей перед ним, умудряясь не обращать внимания на человека, ведшего съемку. Думал, похожи ли они, Амор, сидевший перед ним за тем дурацким неподъемным угрюмым столом на жестком стуле, и тот, стоявший перед одной аудиторией за другой, подбиравший к ним ключик, открывавший свою душу, пытавшийся в меру своих сил облегчить им жизнь – самым разным людям, шедшим к нему самыми разными путями.
Жизнь продолжалась. Квентин Дейкстра был главой Лиги уже больше трех месяцев. Были приняты изменения к ее уставу, и на это мало кто обратил внимание. Начало работу новое правительство – и либеральные СМИ с огромной лупой изучали, кто как связан с Дейкстра, насколько ему верен и будет исполнять его пожелания. Предположения делались глупейшие, скорее всего, ничего со здравым смыслом и с будущем не имеющие, насквозь идеологичные, но очень популярные в течение краткого времени. Отличная ширма для кое-каких иных предприятий Дейкстра. Дюмушель, если к нему обращались африканские СМИ, охотно говорил, что горд своим преемником; другое дело, что обращались они к нему все реже. Консультационные услуги, которые он намеревался оказывать самым разным институтам – в большинстве своем за пределами Африки, были не очень востребованными. Медиа-платформы по инерции печатали его аналитические статьи, но популярными они не были. О нем почти забыли.