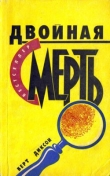Текст книги "Путь бесконечный, друг милосердный, сердце мое (СИ)"
Автор книги: Marbius
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 53 страниц)
Амор послушно шел за ним, покорно усаживался в кресло, даже следил за тем, как Петер Урбан достает чашки, разливает кофе, кладет крохотное печенье на блюдце.
– Я мечтаю о кофе, который пил однажды в Алжире. Мы были там на какой-то конференции, хоть убей не помню, чему она была посвящена, – рассказывал он. – Мы с коллегами послушно ходили на семинары и секции, и прочее, прочее, были вполне дисциплинированными, но самое интересное, разумеется, происходило за рамками программы, – он бережно брал печенье двумя пальцами, подносил его ко рту – Амор следил за его движениями, словно в мире не существовало ничего интересней. – И я пил кофе. Литрами. Кофе по-алжирски. Вы не представляете, как я себя чувствовал после нескольких суток, полностью лишенных сна. Их кофе до сих пор содержит полную дозу кофеина.
Амор заставил себя улыбнуться.
– Отчего же, – пробормотал он, – я отлично представляю. Мой первый опыт с африканским кофе был несколько, эм, драматичным.
Урбан понимающе улыбнулся. Амор ощутил изменение его настроения – в воздухе словно запахло озоном. Миндалем. Металлом. Похолодало на пару градусов, и этот холодок скользнул по коже и затаился.
– Как вы себя чувствуете? – иным, все еще добродушным, но более – профессиональным – внимательным – деловым тоном спросил он. – Допрос был непростым. Этот мальчик – он выделяется. Более развит, что ли. Более сострадателен, я прав?
Амор усмехнулся, отставил чашку. Пожал плечами, отказываясь отвечать.
– Должен признать, этому лагерю бесконечно повезло заполучить вас, – усмехнулся Урбан. – Священник, с образованием, позволяющим заниматься и социально-педагогической и даже примитивной психологической работой. Вас можно привлекать в качестве свидетеля в самых щекотливых делах, вроде этого Эше Амади. Вас без проблем рассматривают в качестве опекуна этих детей. Мне для подобного авторитета нужно работать и работать, и все равно местные чиновники смотрят на меня свысока.
– Это не мешает вам делать свою работу. Очень полезную работу. – Механически отозвался Амор и даже попытался изобразить улыбку.
Она не убедила Петера Урбана, но удовлетворила. Он что-то рассказывал, интересовался приятными мелочами из прошлого Амора, долго допытывался, откуда имя. Амор, слегка ошеломленный расспросами, нахмурился, а Урбан развел руками: «Я достаточно стар и долго живу вдали от цивилизации, чтобы позволить себе немного эксцентричности». Он задрал нос и хитро посмотрел на Амора. Тот – издал вполне искренний смешок.
Около полуночи Амор снова пошел к Эше. Тот – дремал, лежа на боку, свернувшись клубком. Он заслышал шаги, приоткрыл глаза, сонно поморщился, снова опустил веки. Амор сел перед ним, опустил руки на перила кровати.
Эше вздохнул.
– А этот, палач, он где?
Амор поднял голову, недоуменно посмотрел на него.
– Этот. Из полиции, – мрачно пояснил Эше. – Кого мучит сейчас?
Амор усмехнулся. У него было немало предположений: возможно, майор Тафари мучил членов своего подразделения, может – начальство, базы данных, архивы, что угодно. Наверняка занимался формальностями, которые, скорее всего, ненавидел не меньше, чем Амор – и при этом понимал, насколько они важны. Иными словами, он где-то там, в местах, о которых Амор имел смутное представление, а Эше не знал вообще, сражался за него, лежавшего на кровати совершенно обессиленным, одурманенным лекарствами, мучимым болью и страхами. Объяснить бы ему, что Тафари упрямо обеспечивает ему возможность строить достойное будущее, только Эше меньше всего волновали такие мелочи.
– Мне больно, – тихо говорил он Амору. – Больно-больно. Когда сэр майор делал все то, это было не так больно, то есть больно, но телу, понимаете? Сзади, ну… там. Больно. Кричать было нельзя, он говорил, что так мужчины себя не ведут, нужно уметь сносить боль. Но ее так много, отец Амор, очень много. И тут, тут, – он тыкал в грудь большим пальцем. – Тут, тут же сердце? Сердцу больно.
– Потому что оно у тебя есть, – так же тихо отзывался Амор. – Когда сердце есть и оно живое, оно болит. Значит, ты жив.
Эше качал головой, утыкался лицом в подушку, замыкался, словно слышал нечто недопустимое. Он затаивался, дышал редко и осторожно – притворялся, что спит, рассчитывая, что Амор уйдет. Тот – ждал, когда Эше заснет на самом деле.
Затем он заглядывал в боксы с другими больными, обменивался бодрыми репликами с дежурными и выходил на улицу. Стоял перед бараком в растерянности, не в силах определиться, что именно ему делать теперь, когда закончился еще один день. Амор с трудом помнил, с чего он начинался, с обреченностью ждал следующего, точно так же не сулившего ничего хорошего. Он заглядывал к Иге, к Вере, привычно улыбался, убеждаясь, что они спят вполне мирно, шел дальше – к часовне. К своей кровати идти не хотел, боясь, что если уляжется, то не заснет, и не потому, что выпил крепкого кофе – по иным причинам. А если сон одолеет, ничего хорошего с собой не принесет, а скорее лишит отстатков мира, упрямо сохранявшихся в его душе.
В часовне Амор задремал, кажется, погрузился в то странное состояние между сном и явью. Перед ним один за другим проходили все люди, которых он встретил на пути в лагерь. Те, кто остались сидеть на дороге, смиренно дожидаясь смерти; те, чьим телам они пытались по мере сил отдать последнюю дань. Они что-то говорили: печально, покорно, – некоторые молчали. Амор не мог вспомнить их имен и лиц, но точно помнил, кто они, что за люди; он не пытался заговорить с ними – не о чем, и они не собирались начать разговор.
Он проснулся – выплыл из своей дремоты: знакомый голос говорил ему: «Ты почему не в постели, неутомимый отче? Давай-ка, поднимайся, и пойдем. На этих дурацких скамьях не отдохнуть совсем», – ругался Яспер, тянул Амора вверх, поддерживал, когда он приходил в себя.
– Пойдем-ка. – Сурово сказал Яспер. – У тебя какое-то навязчивое стремление избегать нормальных человеческих условий для отдыха. Я видел твое место, и оно ужасно. Моя комната по сравнению с ним – это просто королевские апартаменты. Так что мы идем туда.
Амор огляделся – он помнил: нужно убедиться, что все свечи потушены, но зачем убеждаться в этом? Для чего свечи? И стоял бы он в растерянности до самого утра, но Яспер вывел его из часовни и вел куда-то, положив руки на плечи и направляя. Амор подчинялся – с ним это было так просто: Яспер очень любил принимать решения.
– Что здесь с тобой делают в этом лагере, милосердный отче? – сурово спросил он – то ли пятнадцать минут, то ли полтора часа спустя.
Амор приподнял голову с подушки и снова уронил ее.
– Ничего сверх обычного, – непослушными губами выговорил он. Подумав, добавил: – Ничего сверх своего.
========== Часть 32 ==========
Спать было жарко. Тесно. Жестко. Уютно. Последнее – от жаркого дыхания в шею, странным образом распалявшего и успокаивающего. Запаха – Амор не мог привыкнуть к своему, изменившемуся, чужому; другой же запах он признавал, принимал, и этот запах словно шептал ему: все хорошо, даже в твоем мирке есть место чему-то постоянному. Правда, Амор долго не мог сообразить спросонья, где он. Не в своем боксе – это точно, и даже не в своем бараке. Голоса, которые он слышал, были какие-то иные, более грубые, резкие, отрывистые, напоминавшие выстрелы, что ли. Местные, мирные говорили иначе: быстро, монотонно, многословно, словно пытались втиснуть в минимум времени максимум информации; и голоса все-таки были другими, не такими грубыми, скрежещущими. Амор прислушался, а чтобы удобней было, чуть повернул голову, пытаясь восстановить воспоминания о времени между настоящим и тем моментом, когда он добрался до часовни в странном, одурманенном состоянии. На протяжении всех их ему упорно мерещился Яспер Эйдерлинк – Амор не только видел его, но ощущал: ладони на плечах, встревоженный взгляд на лице, бархатный голос, вливавшийся в уши. Амор оставался сидеть в часовне – пришел, чтобы отгородиться от дневных событий, подминавших под себя, расплющивавших, словно сель; он хотел вырваться из дел насущных, взглянуть в иные измерения, открыться иным перспективам, потому что в вихре обязанностей, которые сам он взвалил на себя – где по слабости духа, где – потому что это было его долгом, как сам Амор его представлял, где – потому что не мог сказать «нет» – он забывал, кто он есть и что он делал не с удовольствием, ни в коем случае, но с удовлетворением точно.
– Ты не спишь, неугомонный спаситель всего человечества оптом и в розницу? – прямо в ухо прошептал сонный голос Яспера Эйдерлинка. И – неожиданное движение: как будто Яспер потерся подбородком о плечо Амора. Яспер зевнул, потянулся, улегся на спину рядом с Амором и смачно причмокнул. Лежать было определенно тесно – и здорово.
– И что я здесь делаю? – полюбопытствовал Амор. – И кстати, я где?
– Два совершенно потрясающих вопроса. – Хмыкнул Яспер, наслаждавшийся последними секундами сна – голос у него был своеобразный, словно у огромного сытого и умиротворенного, хорошо вычесанного и лежащего на уютной и теплой лежанке кошака. – Отвечаю на первый: лежишь на кровати. Отвечаю на второй: в моей капсуле. Язык не поворачивается, знаешь ли, называть эти клетушки спальнями или как-то еще.
Он заложил руки за голову, согнул в колене одну ногу. Заговорил:
– По хорошему, тебя было нужно оттащить к дежурным врачам и заставить этих кровопийц накачать тебя успокаивающими, снотворными и чем там еще. И поставить под контроль. Предынсультный, предынфарктный и прочий. Альтернативно привязать к кровати, чтобы ты не побежал утешать несчастных, и поставить перед твоим боксом пост, не пропускающий никого из желающих пожаловаться тебе. Но я решил, что не существует таких душевных травм, которые не излечиваются здоровым сном. Кажется, я не ошибся. Ты не выздоровел, но уверенно стоишь на пути к твоему привычному блаженному состоянию.
Амор повернул к нему голову.
– Не потому ли я шествую к моему привычному блаженному состоянию, что меня исцелило само твое присутствие? – тихо спросил он, невольно улыбаясь. Яспер самодовольно ухмыльнулся, покосился на него и снова уставился вверх.
– В этом что-то есть, – согласился он после раздумий. Повернулся к нему. Амор следил за его глазами – в темноте только белки и были различимы. Еще зубы, когда Яспер улыбался. Остальное сливалось с ночью – и угадывалось, потому что было давно знакомо: нос, скулы, губы, подбородок. – Тафари говорит, ты остаешься здесь. Правда?
Амор едва не поморщился от его требовательного тона; но это усилие требовало сил, которых у него не было. Он задумчиво поднял брови, снова опустил их, прикрыл глаза.
– Пока все выглядит именно так.
– Это хорошо.
И неожиданно:
– Ты в порядке?
Амор чуть не содрогнулся: от простого вопроса, возможно, искреннего, его кожи коснулся мертвенный холод, и ладно бы кожей ограничился, но он проник внутрь, сдавил внутренности, до боли сжал суставы. Сердце застыло на пару секунд и зачастило.
Яспер, очевидно, что-то почувствовал. Он снова повернулся к Амору, поднялся на локте, начал вглядываться в его лицо. Амор закрыл глаза, словно это должно было спасти его от навязчивого внимания.
Яспер опустил голову ему на плечо. Амор мог ошибиться, но его шеи коснулись губы Яспера. Совсем легко, почти неощутимо. Легче, чем взмах крыла бабочки.
И Амора обдало жаром. Он задержал дыхание, судорожно сглотнул слюну, которой внезапно наполнился рот, жадно, нервно вслушиваясь в дыхание Яспера – его молчание.
Через секунду его щеки коснулись пальцы Яспера, легко провели по ней, спустились к подбородку, снова поднялись к скуле, бережной лаской прошлись по щеке и шее; кожа на подушечках пальцев была грубой, царапала даже обветренную и продубленую солнцем кожу Амора. Он осторожно выдохнул и снова затаил дыхание. Рука Яспера не опускалась дальше его шеи, не перемещалась никуда, двигалась в согласии с неким ритмом, слышным только ему; от незамысловатой ласки Амора поочередно пронзали иглы сладкой боли – нервы играли с ним злые шутки, в точном ритме с поглаживаниями Яспера: то ныли зубы, то судорогой сжимало кожу на ногах, то по животу пробегали мурашки. Амор видел только глаза Яспера – внимательные и жадные, примерявшиеся к цели; он ощущал и биение сердца – оно было совсем близко, где-то рядом с рукой. Билось сильно, Амору казалось, что он слышит его удары.
Яспер неожиданно шумно выдохнул и потянулся за своим коммом.
– Мы скоро выдвигаемся, Амор, – глухо заговорил он, глянув на экран, усаживаясь. – Ты оставайся здесь. Я оставлю э-ключ, предупрежу, что тебя укрывает от всех бед мира страшный и ужасный дракон, что ты был в состоянии, вопившем о помощи. А ты отдохни здесь. Я потом найду тебя. Чтобы ключ забрать, – плутовато ухмыльнулся он, только глаза оставались серьезными.
Амор лежал, не в силах пошевелиться, словно разом превратился в студень; он с трудом различал слова Яспера – улавливал звуки, пытался различить движение губ – но слова не воспринимал. Яспер выскользнул из-под сетки, задвигался по капсуле, собираясь. Исчез. Амор, кажется, дремал – прислушивался к шорохам – проваливался в сон – снова вслушивался. Яспер вернулся, заглянул под полог, сунул Амору под нос кружку с кофе.
– Не ваш лагерный, наш, тоже дерьмо. Но хоть не жидкая водичка, – сказал он. – Я поставлю рядом. Смотри не ошпарься. Мне пора, сонный отче. Насладись хотя бы парой часов отдыха, а потом отправляйся смягчать сердца, исцелять раны, изгонять болезни.
Амор недовольно застонал, закатив глаза.
Яспер самодовольно усмехнулся. Посерьезнел. Потянулся – поцеловал его. Коротко, в губы – замер, касаясь губ Амора.
– Не прячься, когда я вернусь. Мне будет нужен мой э-ключ, – пригрозил он. Шепотом – и его губы касались губ Амора, и он боялся пошевелиться, чтобы не отстраниться раньше времени.
Это сделал Яспер. И внезапно потянулся к его щеке.
– Благослови меня, – попросил он.
Амор не сразу понял, чего он хочет. Затем – собрал все свои силы, поднял руку – начал выводить крестик – опустил ладонь на его плечо и погладил неожиданно интимным жестом. Яспер прижал его руку, поцеловал ее, тихо произнес: «Да будет». Осторожно снял его руку со своего плеча – и ушел.
Амор уселся. В комнатке, которую выделили Ясперу, работал кондиционер – было свежо. В блоке, где разместилась группа Яспера, было много людей – они производили оглушающе много шума, покидая его. Они оставили после себя оглушающую тишину. Амор пил кофе – крепкий и действительно фиговый – и собирался с мыслями.
Утро продолжалось. Амор вышел из блока – его ослепило солнце, чуть не сбила с ног жара, хотя было совсем рано, что-то около семи часов утра. Пришлось щуриться, приспосабливаясь к дневному свету. Амор посторонился, пропуская решительно шагавшего в блок лигейца; тот на ходу поприветствовал его: «Доброго утра вам, отец священник». Амор угукнул в ответ и состроил пристыженную гримасу. Доброго-то доброго, но ему не здесь следовало быть и выглядеть чуть пристойней, чем тощий бродяга в мятой майке с чужого плеча. Странное дело: колени подкашивались. Все еще блаженствовали от воспоминаний об обществе Яспера Эйдерлинка. В мире Амора Дага это было приятной константой.
Амор ковырял завтрак – задумчиво крошил хлеб, помешивал хлопья в чашке, то тянулся к чашке, то опускал руку. Доктор Урбан плюхнулся на стул напротив. Поприветствовал его, ухмыльнулся в ответ на машинальное благословение, блаженно выдохнул и шумно отхлебнул кофе.
– Вот оно, истинное благословение, отец Амор, – счастливо щурясь, говорил он. – Кофе. То, что нужно, чтобы взбодрить старую развалину с утреца. Ночи с возрастом не становятся приятней. Изо всех щелей выползают призраки, знаете ли. А они, в отличие от тараканов, бессмертны. Представьте, сколько их накопилось за долгие годы моей бестолковой жизни.
Амор непроизвольно усмехнулся. Доктор Урбан с самодовольным видом приступил к завтраку. Он интересовался, как Амор отдохнул, каковы у него планы, внезапно спрашивал, что побуждает не самого глупого человека влезать в это ужасное, невыносимо тяжелое ярмо – «если, конечно, серьезно к нему относиться», – тут же оговаривался он. Амор отвечал, когда нужно, парировал при любой возможности; последний вопрос застал его врасплох – на него не ответить. Тогда им двигали самые разные побуждения, сейчас, оглядываясь, Амор даже приблизительно не смог бы сказать, какие из них были искренними, а какие – сиюминутными эмоциями, которые в юном возрасте бушуют настолько яростно, что могут сойти за истинное призвание. И на протяжении всего разговора он ждал, когда доктор Урбан – Петер, на чем настаивал сам доктор – наконец поведает ему, зачем прицепился с утра пораньше.
Дело было простым – в представлении Петера.
– Мне нужно начинать работу с мальчиками. Насчет Иге я не особо переживаю. Он – конформист по своей натуре, в нем, скорее всего, не откроется непостижимых глубин. Даже если он откажется принимать меня как воплощение этой странной и непонятной болтовни, которую он будет должен переживать регулярно, сеансы он посещать будет исправно, особенно если от этого будет зависеть его свобода. Но вот с Эше такая штука не пройдет. Я прошу вашей помощи, отец Амор. Вы, как я понимаю, уже завоевали его авторитет. Я хотел бы нагло воспользоваться им.
Амор подозрительно смотрел на него.
– С ним нужно работать очень плотно, – посерьезнев, нахмурившись, стряхнув веселость, объяснил Петер. – Это может оказаться тот случай, когда день промедления может стоить всей жизни. Тем более он на свою голову оказался слишком ценным свидетелям Тиму и майору Тафари. Боюсь, когда лигейцы перетрясут тот регион, и они возьмутся за мальчишку, а они «нет» не примут ни в коем случае.
Амор мрачнел – куда только делось бодрое настроение, умиротворявшее его с утра. Это была дилемма, которую в принципе невозможно было разрешить к чьему-либо благу. Решит Яспер, что Эше будет полезен ему, – будет допрашивать; возможно, он будет прав и получит от него ценную информацию. Что после этого станет с мальчиком, предположить трудно. Решит Амор отстаивать Эше – Яспер может пойти на уступку, но едва ли получится избавиться от противного голоса, до конца жизни попрекающего: а ведь можно было помочь, а ты за деревьями леса не увидел.
Еще и эта уверенность Петера, что простого слова Амора будет достаточно, чтобы Эше хотя бы не принял его в штыки. Совершенно напрасно Петер думал, что подобная раскладка польстит Амору или как-то вдохновит его – для Амора это оказывалось очередным стимулом, нешуточно раздражающим его.
Тафари нашел его около полудня. Пробормотал нечто невразумительное о неплохой погоде, застыл рядом, мрачно глядя по сторонам. Амор покорно следил за его взглядом, словно в ожидании каких-то зрелищ – если не интересных, то хотя бы заслушивающих праздного любопытства. На то, чтобы начать разговор, у него не было сил. О желании Амор забыл уже давно.
– Я вечером уезжаю с конвоем, отец Амор, – пожевав губы, опустив голову, сказал Тафари. – Хотел поблагодарить вас за поддержку. Слышал, вы остаетесь здесь и дальше.
Амор пожал плечами. пока это выглядело именно так. Что решит начальство через полгода, не знает даже оно. Ко Всевышнему – Высшей Силе – обращаться с таким вопросом обращаться вообще не пристало: Ему до таких мелочей едва ли есть дело.
– Я, наверное, еще не раз появлюсь здесь. В зависимости от того, с чем столкнется Йонкер. Он не паникер, конечно, но когда вынужден отвечать за безопасность лагеря, на девяносто девять процентов состоящих из загнанного вусмерть гражданского населения, а из полномочий только возможность не пускать проверки из нацправительства, прикрываясь какими-то сомнительными постановлениями, это, знаете ли, душевному спокойствию не способствует. С этими ребятами я закончил, теперь вам придется с ними заниматься.
Был бы он чуть более способен к рефлексии, наверное, попытался как-то извиниться перед ними, пусть через Амора – вообще повиниться. Это, как не раз убеждался Амор, требовало значительных усилий, особенно для таких вот – суровых и решительных типов. Они привыкли жить в иных рамках, мыслить другими категориями, и даже если совесть имела влияние на поступки и даже мотивы таких людей, это никогда не находило выход в словах.
– Майор Тафари, – помолчав, заговорил Амор, – каковы шансы у того дела, в которое вы втянули Эше?
Тафари задумался. Начал отвечать:
– Чисто формально – неплохие. Он может получить статус жертвы сексуального насилия, тут проблем не возникнет. По лигейскому законодательству ему положено кое-что, сейчас в порыве благоговения перед цивилизованным миром примут туеву кучу поправок, и будет положено еще больше. Психологическая помощь, финансовая поддержка, бла-бла. Другое дело, отец Амор, что не всегда знание об этом доходит до конечного адресата, провисает где-то между серединой и концом. – Он указал большим пальцем через плечо в сторону барака, где находился Эше, поморщился, продолжил: – Я мог бы ему сейчас указать, что именно нужно, куда он может еще обратиться, чтобы гарантировать какую-то помощь, но едва ли ему сейчас до этого. Местные соцработники присмотрят за ним поначалу, но они безобразно перегружены. Так что получается, все это существует, но где-то там, по ту сторону. Главное сейчас – проследить, чтобы они дотянули до того времени, когда им можно будет воспользоваться этими правами.
Амор долго молчал. Не то чтобы слова не подбирались – нет, сказать можно было много, слов хватило бы. Двое детей худо-бедно пристроены, им повезло. Десятки – навсегда останутся вне всех возможных мест, где им можно было бы как-то помочь.
Он спросил все-таки:
– В вашей сфере какие будут ждать Иге и Эше последствия?
– Какие последствия, отец Амор? – пожал плечами Тафари. – Было бы им хотя бы по четырнадцать лет, я бы сказал: с максимальной вероятностью тюремное заключение в восемь-десять лет, бессрочное поражение в некоторых правах, последующий контроль. А так, как есть – если мы даже с достаточной точностью установим возраст Иге, он едва ли окажется в этих рамках. Тем более что Альба Франк будет смертным боем сражаться за то, чтобы их признали пленниками, вынужденными выполнять приказы.
Он неожиданно острым взглядом посмотрел на Амора. Тот – понимающе улыбнулся, услышав имя Альбы. По лицу Тафари скользнуло облегчение, и он широко улыбнулся.
– Ненавижу эту суку, – весело признался он. – Но рад, что именно она возглавляет этот лагерь.
Амор поморщился. Альба обладала многими ярко выраженными чертами жаждущей доминирования личности, что никак не оправдывало характеристики Тафари. И – к сожалению, она была типичной в этой земле от подобного Тафари человека.
– Она достойна уважения, – тихо заметил Амор.
Тафари пристыженно склонил голову.
– С ней дети наверняка будут в надежных руках, – продолжил Амор.
– Да не дети они, – разозлился Тафари. – Они еще до того, как к тому мудаку попали, перестали быть детьми.
– Пусть немного побудут здесь.
Амор повернулся к нему и двумя неторопливыми, ритмичными движениями нарисовал крохотный крестик на его груди.
– Доброго вам пути, майор, – улыбнувшись, сказал он. Это была одна из привычных его фраз, но он неожиданно ощутил, что пожелание оказалось куда более объемным, значительным, затрагивающим многое, и не только дорогу, в которую отправлялся Тафари.
Он моргнул несколько раз; по его шее вверх-вниз прошелся кадык – Тафари сглатывал слюну, все еще надеясь сказать хотя бы пару слов на прощание, он даже облизал губы – тщетно. Он ограничился натянутой улыбкой и склоненной головой. Амора это вполне устроило.
Барак Эше находился в стороне, но Амор все-таки решил заглянуть к нему. Мальчик лежал на кровати – дремал, обессиленный странными процедурами, утомленный постоянным приемом медикаментов. Он отвратительно выглядел – кожа казалась зеленовато-серой, что ли, и даже насыщенный меланин не перекрывал ее пепельного оттенка. Услышав приближение постороннего, Эше открыл глаза – и снова закрыл их, всем видом показывая, как не рад видеть кого бы то ни было, а особенно отца Амора. Ничего нового, иными словами. Амор придвинул стул к кровати, сел. Не удержался – вздохнул.
– Добрый день, Эше, – начал он. Поморщился: прозвучало фальшиво. Амор был не против, надеясь, что мальчик хотя бы на это отреагирует. Сработало: Эше приоткрыл глаза, зло ухмыльнулся, буркнул:
– Вы уверены? И что вы сделали плохого, что он добрый?
– Пожелал майору Тафари доброго пути, – подумав, предположил Амор. – Он убирается сегодня в свой большой город, чтобы сидеть в большом кабинете и решать дела маленьких людей.
Эши широко открыл глаза. Помедлил, затем признался:
– Он приходил сюда. Сказал, что я молодец, что могу даже вырасти в настоящего майора. Дурак.
– Брось, – скривился Амор. – Был бы дураком, не был бы майором. И не надо мне про того ублюдка, которого вы с Иге знали как «сэра майора»! – неожиданно агрессивно заявил Амор, наставляя палец на Эше. Спокойней повторил: – Не надо.
Эше подозрительно прищурился, чуть подался назад, немного напуганный реакцией Амора. Дернул плечами: мол, ну и пожалуйста. Амор достал четки – хотя на кой они ему были, он иногда не понимал. Перебирал их от случая к случаю, носить их в руке постоянно считал излишним. Успокоения они тоже не особо приносили. Но иногда нужно было что-то держать в руке: просто чтобы концентрироваться на мелочах и возвращаться в желанное спокойное настроение.
– Я стану священником, – глядя на них, сказал Эше.
Амор смотрел на него, подняв брови.
– И для чего?
Эше растерянно моргнул и ответил неуверенно:
– Чтобы не быть майором.
– Для этого достаточно просто не быть майором, – усмехнулся Амор. – Как насчет врача? Учителя?
Эше снова дернул плечами и закрыл глаза.
– Идите вы… – тихо буркнул он, затем шмыгнул и неуверенно поднял руку – как будто почесать нос. Амор отвернулся, чтобы дать ему возможность потереть глаза, очевидно, наполнявшиеся слезами. Задумчиво передвинул пару бусин, удивляясь, до чего они обшарпанные, поцарапанные, даже не старые – дряхлые. Эше прошептал: – Он мне снится. Никто больше не снится, а он – снится.
– Никто? – справившись с растерянностью, переспросил Амор.
– Никто. Иге еще. Как он меня куда-то тащил. Я однажды думал, что он меня совсем-совсем оставил, а он вернулся. Мне снится, что он уходит, смотрит на меня и все уходит. И смотрит, как будто говорит: прости. Мне становится страшно-страшно. Не могу ни идти, ни говорить, только лежу и смотрю, как он уходит, и все. И еще сэр майор. Он стоит, у него изо рта кровь, и из носа, и из глаз. Отсюда, – он указал на уголок глаза у переносицы, и еще у него из груди кровь. И он идет и говорит: ах, Эшу, Эшу, ты плохой солдат. Ты не понимаешь, как ты осквернил честь нашего отряда. Я же столько времени учил тебя, что нужно вести себя достойно, чтобы старшие гордились тобой, а ты так оскорбил нас. И он поднимает руку и бьет меня по лицу. Вот так, – показывал Эше. – Или наклоняется и трясет меня, и душит, и кидает, и мы снова в его палатке, и там его кровать, и я падаю, и мне больно. И он говорит, что хотел воспитать из нас настоящих солдат, чтобы мы служили, как нужно, чтобы мы не были хлюпиками, и делает больно. Он мне все время снится, все время! Ни Ндиди, ни Коджо, никто, только он!
Эше мотал голову из стороны в сторону, жаловался – и внезапно, как начал, затих. Шмыгнул, уставился в потолок. Встревоженный Амор заглянул ему в глаза – Эше не моргая смотрел вверх.
– Не хочу больше жить, – почти беззвучно признался он. Не всматривайся Амор в его лицо, мог вообще не заметить.
Амор положил руку поверх его руки, лежавшей на груди, легонько сжал ее. Он ощутил, как вздрогнула грудь Эше; вскоре он сам попытался улечься на бок.
Заглянул врач, спросил привычное «как дела?» привычным же громким и бодрым голосом, направился к приборам. Эше угрюмо молчал, Амор пробормотал, что все вроде в порядке, не считая несколько неровного настроения. Врач выпрямился, посмотрел на него, перевел взгляд на Эше – тот отвернулся от него, упрямо сжал веки, словно надеялся таким нехитрым способом избавиться от неприятного общества.
– Настроение – это не по нашей части, а по вашей, так, отец Амор? – поморщился, но затем улыбнулся – насильно, вымученно и при этом почти искренне – врач.
На это едва ли можно было ответить что-то толковое. Амор промолчал; врач постоял немного и ушел.
– А ты почему здесь сидишь? – набросился на него Эше. – Ты тоже иди! Убирайся! Иди отсюда! Тебе же по всему лагерю нужно бегать, всем в рот заглядывать, жопу лизать, и тому майору, и вообще… всем!
– Это точно, нужно. Вот, с тебя решил начать, – добродушно улыбнулся Амор. – Еще немного потерплю твое дурное настроение и побегу дальше. Ты позволишь?
– Да пошел ты… – обреченно буркнул Эше. – Иди к другим. Им нужней.
– Может быть. – Смиренно отозвался Амор и остался сидеть. – А я хотел быть летчиком, – неожиданно сказал он. Мне было лет одиннадцать. А потом я хотел быть пекарем. Печь хлеб. Мы были в какой-то жутко далекой деревне на ярмарке, и там стояла огромная печь, и пекарь в белой спецовке доставал противни и тут же ставил новые. Я тогда подумал, что это самая лучшая профессия в мире. Кстати о пекарях. Иге помогает на кухне сейчас. С самого раннего утра. Когда выздоровеешь, можешь присоединиться к нему. Там будут рады помощникам.
Эше слушал его внимательно; Амор начал думать, что он заинтересовался – и Эше, заметивший это, тут же резко дернул головой.
– Идите вы все со своими кухнями! Не хочу, пусть он возится в этой грязи. А я не буду, – зло огрызнулся он.
Этот рывок отнял его последние силы: Эше обмяк, снова закрыл глаза. Амор задумчиво смотрел на него: он, наверное, просто хотел в это верить, но Эше заметно полегчало. Подумав, Амор вложил ему в руку четки.
Эше поднял руку, посмотрел на нее мутными глазами.
– Что это за старье? – угрюмо спросил он.
– Четки. Прошли со мной пол-Африки и еще немного. Лет восемь они со мной точно. Если все-таки решишь стать священником, приобрети себе новые, а эти выбрось.
– А ты? – забеспокоился Эше.
– А у меня новые будут, – подмигнул Амор. – Попрошу ребят сделать. Они как раз что-то такое учатся вытачивать. Или ты новые хочешь?
– Нет, – надулся Эше. Вздохнул, сжал руку, прижал к груди. Амор потянулся и начертил прямо над кулаком крестик.
– Благословений тебе, будущий служитель, – мягко сказал он. – Набирайся сил.
Уже выйдя из дверного проема, он оглянулся на Эше – мальчик плакал. Рука лежала на груди.
Яспер появился через двое суток, снова около полуночи. Амор уже вымыл полы рядом со свечными столиками и стоял у свечного столика, задумчиво поправляя свечи. Он повернул голову на звуки, поднял брови, радостно, пусть и скупо улыбнулся. Яспер хмыкнул, склонил голову к плечу, сказал: