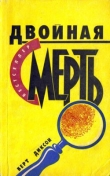Текст книги "Путь бесконечный, друг милосердный, сердце мое (СИ)"
Автор книги: Marbius
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 53 страниц)
На низенькой скамеечке у входа сидела Вера. Ей было лет четырнадцать, она говорила очень мало и невнятно, держалась отчужденно, но старалась находиться поближе к Амору, когда он был в приюте.
– Не спится? – тихо спросил он. Вера покачала головой. Амор инстинктивно потянулся, чтобы положить руку ей на плечо, погладить по голове – небольшие жесты ободрения, которые жадно принимали дети, – но сдержался: кто знает, как она отреагирует. А Вера чуть наклонила голову в его сторону, словно готовясь принять ласку. Амор сел рядом и полюбопытствовал: – Страшно отправляться в путь?
Вера пожала плечами и спрятала лицо за коленями. Амор тихо выдохнул и вслушался: за спиной раздавались обычные звуки: сонное сопение, бормотание, всхлипы и приглушенные вскрики. Кажется, кто-то шептался.
– Здесь было хорошо, – неотчетливо пробормотала Вера. – Сейчас – не очень.
Амор угукнул. Знать бы, что ждет их впереди.
По договоренности со старостой он начинал службу в четыре часа утра. И уже за четверть вся деревня была на ногах. Амор настоял, чтобы и приютские пришли, и деревенские в кои-то веки безропотно терпели их рядом. Словно из почтения к ночи, все еще державшей свой непроглядно-черный плащ раскинутым над деревней, Амор вел службу вполголоса; ему вторили вполголоса, и слезы накатывались на глаза, и в горле стоял комок. А отец Амор читал слова молитвы, затем начинал псалмы, сглатывал и обращался к строкам Писания – открывал его на нужной странице, но цитировал по памяти. Затем – долго, утомительно долго благословлял каждого и всех, а очередь к нему не заканчивалась. И снова молитва.
И отец Амор стоял на границе деревни рядом со старостой, глядя вслед отряду, который намеревался довести до лагеря какой-то гуманитарной миссии. Наконец собрался с духом, повернулся к старосте, обнял его, похлопал по спине. Нарисовал крошечный крестик на его груди.
– Я буду молиться о вас. И вы молитесь о нас, – попросил он.
Староста кивал головой. Все время, пока Амор догонял свой отряд.
========== Часть 19 ==========
Отец Амор Даг вел свой отряд к незнакомому лагерю в неопределенном месте где-то на юго-западе. Время от времени он сверялся со звездами и спутниками, чтобы подтвердить направление, а затем снова отключал комм и шел. Иногда нес – одного, второго, третьего, рюкзак, мешок, вдобавок к своим, иногда отставал, чтобы выслушать одного из несчастных, вверивших себя ему, иногда вырывался вперед, чтобы убедиться: ему показалось, всего лишь показалось, что впереди опасность.
Изредка он отставал от отряда, чтобы прочитать поминальную молитву над трупом. Трупами. Они смердели – на эту вонь реагировало совсем мало людей: были привычны или до того погружены в свои мысли, что на такие вещи просто не обращали внимания. Амор оставался, чтобы оказать последнюю почесть несчастным, чьих имен не знал и никогда не узнает; он допускал, впрочем, что некоторые из этих людей могли не существовать вообще. В смысле официально – по сотням причин родители не сообщали о рождении детей в администрацию родной провинции; иногда записи о новорожденных существовали только в письменном виде и только в нерегулярно ведущихся журналах деревенских старост, к примеру, или приходских священников. Это случалось не только по причине бедности, хотя и поэтому тоже; по беспечности, по неверию во власти, из-за суеверий: мол, все эти регистрации заберут душу ребенка. Потому что на кой бы ляд регистрировать ребенка, если он все равно может умереть через месяц – три – год – пять. Переживет – зарегистрируем. Выживали – родители не помнили, сообщали ли властям о нем; они боялись штрафа, у них не было времени, и ребенок носил домашнее имя, вроде знал, в каком месяце какого года родился, но не более. Жизнь продолжалась, дети росли, нужда в регистрации тем более не возникала – «несуществующие» дети работали наравне со взрослыми, они же оказывались товаром: их могли продать заезжему торговцу. Много за них не получали: здоровье не то, ребенок недокормлен, умел всего ничего, но даже этого было достаточно, чтобы получить за него сумму, равную полугодовому доходу семьи. Что с ними становилось, знал мало кто.
И Амор останавливался, читал молитвы, заставлял себя держаться подальше от трупов – мало ли каких паразитов можно подхватить, пытался не задерживаться слишком долго, потому что по его же настоянию остальные продолжали идти вперед. Он догонял отряд, кто-нибудь из детей брал его за руку. Взрослые оглядывались, смотрели пристально пару тяжелых секунд и снова опускали головы и брели вперед. Амор заставлял себя если не радоваться, так хотя бы испытывать благодарность, что дорога – две худо-бедно укатанные колеи – была пустынной, использовалась мало. Хотя, отойдя километров двадцать от деревни, они долго стояли у остова машины – небольшого грузовичка. Мальчики помоложе не утерпели и забрались в кузов, сунули головы в кабину. Один, с практичным любопытством обследовавший территорию вокруг машины, в ужасе отпрянул назад, увидев человеческие останки, остальные спрыгнули с подножек и спрятались за спиной Амора. Он же стоял и прикидывал: что здесь могло случиться и когда. И почему он ничего не слышал; слышали ли деревенские. Знают ли они, кто это были, кого встретили и почему случилось то, что случилось.
Они шли дальше, встречали остова других машин. В одной из семей, последним прибившихся к ним, умер младенец, его мать сидела на коленях, пока Амор копал могилу, читал над ним молитву, и ритмично покачивалась. Молчала. Не плакала. Это было очень осмотрительно – чтобы не услышали лишние уши, чтобы ничье ненужное внимание не было привлечено. Старшие дети стояли рядом с ней и следили огромными глазами за Амором. Дед с бельмами остался сидеть под деревом. Он сказал:
– Это хорошее место, не хуже других.
Он отказался от воды, которую предложил ему Амор. Сказал, чтобы он лучше отдал ее внуку. С благодарностью принял молитву. Амор тянул, не мог заставить себя и проститься с ним, но старик приказал: «Иди». Никто не удивился, что Амор вернулся один. Он сам больше ничему не удивлялся.
Солнце палило так, что воздух дрожал перед ними. Подошвы ног трескались и кровоточили. Губы болели, когда трещины на них заливал соленый пот. Амор не удивился, увидев, когда отошел в сторону, чтобы помочиться, на внутренней стороне бедер гнойники. Что творилось на спине, он не хотел думать – не было времени, не хватало сил. Во что превратилась кожа на лице, он тоже не задумывался: очевидно, в пережженную, потрескавшуюся кирзу. Иногда взгляд привлекали собственные руки, и Амор пытался вспомнить, как они выглядели, когда были чистыми, – тщетно. Он шел, останавливался, включал комм, сверялся с картой. Однажды – включил и долго стоял, чтобы вспомнить, зачем сделал это. Комм сообщал ему дату, день недели, время, и Амор думал: что это за цифры? Зачем они?
Они натыкались на останки людей. Оставляли позади то, что вскоре превратится в останки. Встречали – живых: пока еще живых, вопреки всему – живых.
Берт Франк отправился в один миротворческий лагерь, во второй, сделал еще одну серию репортажей, отослал ее своему куратору, вернулся в Йоханнесбург, чтобы провести немного времени с Горреном, и готовился отбыть в Европу. Его хотели видеть журналисты; уже были назначены даты интервью, Берт получил список тем, на которые его хотели расспросить. Горрен только ухмылялся, слушая его недоумение.
– Ты только представь, как давно в старушке-Европе не случалось ничего трагического. Старая кровь не бурлит, а тихо булькает, старым костям холодно, так что погреться у горячего пламени ей очень приятно, – ухмылялся он, – пусть даже это пламя – отраженное.
– В кривом зеркале? – огрызался Берт.
– Пусть так. Пламени все равно. А у зеркала всяко безопасней. Тебе не кажется?
– Безопасней? – скептически спрашивал Берт.
– Ах, разумеется, я говорю с великим и ужасным тайным агентом Бертом Франком, – Горрен склабился, а глаза его следили за Бертом внимательно, поблескивали недобро. Или, возможно, Берт видел слишком много, слышал самые разные вещи обо всех и всяком, и поэтому недоверие ко всему роду человеческому переносится и на Горрена. Все-таки работать с ним – на него – было куда комфортней, если не думать о его мотивах, целях, установках, иными словами, о том, что Берт представлял с большим трудом. Горрен Даг был – предпочитал оставаться – вещью в себе. С другой стороны, он был совершенно надежен: что бы Берт ни просил у него, Горрен обеспечивал; он, казалось, знал всех людей и везде и предупреждал Берта о возможных осложнениях. Он же прикрывал Берта в случае необходимости. Правда, не дурак был сослать его куда-нибудь в горячую точку, а на недовольное бурчание беспечно пожимал плечами и говорил: «Помилуй, опасно, разумеется. А ты закрой глаза и думай о банковском счете».
На язвительные реплики Горрена Берт привычно реагировал утомленным вздохом.
– Брось, – морщился он. – Тебя послушать, так тебе моя слава претит.
– Напротив. Твоя слава отлично монетизируется, должен признать.
Недобрый блеск в его глазах менялся на удовлетворенный, Горрен охотно рассказывал, чем занимался, с кем связывался, какие комбинации осуществил, какие только собирается, подшучивал над Бертом, а попутно ненавязчиво советовал, какую информацию стоит выудить у Иво Ленартса, а какую сообщить ему.
– Хотя я не удивлюсь, если этого гибкохребетного чутка подвинут, а ты будешь встречаться с людьми классом куда повыше, – задумчиво говорил Горрен.
– Чушь какая, – отмахивался Берт. – Не такого высокого я полета птица. Или ты предполагаешь, что у лигейских чиновников нет своих ушей и глаз здесь?
– Отчего же. Я уверен, что они обеспечены этим добром на две жизни и еще на чуть-чуть. Более того, я совершенно уверен, что и твои сведения им постольку постольку. Ничего интересного ты наверняка не сообщишь. Краткосрочные и среднесрочные прогнозы, даже если их разрабатывать на основании объективных данных вроде изучения соцсетей, могут оказаться более объективными. Твоя ценность в другом, приятель. – И Горрен улыбался и тянулся, чтобы коснуться его руки. Берт хмурился, чувствуя задницей, что этот скользкий Даг готовится сказать очередную гадость, на которые был ох как горазд. Берт был уверен, практически никогда не ошибался, предполагая, что Горрен жить не может без двусмысленностей и того, чтобы ходить по грани, – и не мог не испытывать к нему симпатии. Приятельской, вполне себе инертной, основанной на привычке и настойчивой склонности собственной натуры к постоянству – как же, столько знакомы, столько проектов осуществили, к стольким кормушкам вместе подобрались, к чему-то такое постоянство да обязывает.
– Угу. И сейчас ты скажешь, что моя ценность во влиянии на общественные настроения, – закатывал глаза Берт.
– Ну, это тоже не следует сбрасывать со счетов. Не то чтобы у тебя большая армия поклонников, но к твоему мнению прислушиваются вполне искренне. Собственно, то, что, как я почтительнейше предполагаю, является твоей главной ценностью, – это, хм, не сердись, Берт, прошу тебя, твоя псевдоинтеллектуальность. Как ни странно, она привлекает людей. Еще и редактируют твои опусы таким образом, чтобы они были чуть неопределенней, чем допустимо для выражения собственного мнения. А референтный материал создан. Если что, когда необходимо, когда следует скорректировать чье-то мнение, кое-кто может сослаться, опереться и прочее. Понимаешь?
– Ты только что лишил меня иллюзии независимости, – морщился Берт.
– Помилуй, она тебе нужна?
– Иллюзия? Или независимость?
– Начнем со второго, дражайший, упрямейший Берт.
И Горрен мог медленно, печально, жестом престарелого, но все еще живущего своей славой балеруна сложить руки на коленях, тем более они были хороши, и колени, и руки; он мог и голову к плечу склонить в иронично-внимательном жесте. Спектакль оказывался что надо, и все намерения Берта побраниться, оскорбиться и повоспитывать его таяли, как туман на рассвете.
– Это очень хороший вопрос, на который я, боюсь, едва ли могу дать вменяемый ответ, – криво усмехался Берт.
Горрен понимающе улыбался. Берт был неглупым типом и вполне ловко допускал в свою жизнь людей, способных определять для него цели. Его, к примеру. Альбу. Даже Коринта. Окажись в ситуации, когда ему пришлось бы принимать все решения, Берт не обрадовался бы, для него это богатство могло оказаться мельничным жерновом на шее.
Иллюзия независимости тоже была нужна Берту скорей для того, чтобы не отличаться ничем от многих и многих людей, охотно рассказывавших о «я», «мне», «мое». Но даже лишившись ее, он ни в коей мере не был бы задет. Подумаешь, невидаль: одной иллюзией больше, одной меньше.
Горрен продолжал, словно чтобы подсластить пилюлю:
– С другой стороны, я вынужден признаться, что с учетом твоей мании заводить знакомства и развязывать языки твоим новым знакомым, ты узнаешь куда больше, чем думаешь и считаешь сам. Если бы твои наблюдения не устраивали вышестоящих, ты бы так комфортабельно в Европу не летал.
И Берт снова летел в Европу, который уже раз за последние полтора года. Это по-прежнему был первый класс; стюарды в нем были по-прежнему любезны, но что-то в их поведении было этакое, настораживающее, словно они прошли не столько школу стюардов, сколько стажировку в какой-нибудь частной армии: какие-то особенные, характерные движения, скупые и отточенные, отношение к пространству – они как один располагались таким образом, чтобы в случае чего обезвредить пассажира, буде ему нечто противоправное взбредет в голову. И выглядели они далеко не фееподобными созданиями, напротив. И кроме этого – Берт был не уверен, но не менее двух людей точно были куда больше похожи на сотрудников службы безопасности, чем праздных пассажиров. Он же вспоминал одного человека, с которым познакомился лет шесть назад в зале ожидания в аэропорту; тот оказался капитаном экипажа, летел в Лагос, чтобы там усесться в капитанское кресло. И вот он как-то высокомерно хмыкнул, когда Берт заметил, что вполне естественно относиться с подозрением к этим полевым агентам-безопасникам, но при этом пассажиры не могут не чувствовать себя уверенней, зная, что за их безопасностью следят. Берт удивился, даже, казалось, опечалился, и это так хорошо сыграло на самолюбии капитана, что он поведал страшную тайну: миф о присутствии агентов безопасности – это миф, не более, выгодный прежде всего авиакомпаниям, воздействующий на пассажиров благоприятным образом, в положительном свете представляющий компанию человечеству.
– А на деле, Берт, эти жлобы заботятся только о своем кошельке. Еще восемь лет назад я летал к месту назначения в бизнес-классе, и у меня был чуть ли не личный стюард. Затем место в бизнес-классе доставалось мне, если кто-то его не выкупал. А теперь я не могу об этом и мечтать. Хорошо хоть в эконом-класс не вышвырнули, – жаловался он. – Если бы ты знал, какие отели я видел, когда только-только стал капитаном! А теперь я могу рассчитывать в лучшем случае на три звезды. Более того, эта их экономия до добра не доведет. Они начали экономить на врачах. Мол, хорошая медсестра в хорошо оборудованном медкабинете и при наличии тщательно составленной программы осмотра может то же самое, что и врач, так зачем же платить втридорога? Об экстренных случаях эти жлобы не хотят думать.
Тогда Берту было любопытно, не более. Теперь он вспоминал тот разговор и прикидывал, можно ли использовать что-нибудь из него в качестве дополнительного материала, скорей даже фоновых знаний, для какого-нибудь очерка. Есть ли шанс разговорить кого-нибудь, да хоть того типа с угрюмым лицом и забавным низким лбом, под которым посверкивали злые, острые, умные глаза, чтобы он рассказал, что делает на этом рейсе, как вообще он дошел до такой жизни, нравится ли она ему, есть ли у него какие-нибудь секреты, и так далее, и тому подобное. Берт не спешил хвататься за блокнот, тем более он не думал, что из этого выйдет что-нибудь толковое, но, таким образом развлекая себя, можно было оградить мозг от неприятных, тяжелых, удручающих мыслей. Благо думать было о чем.
Коринт Ильмондерра проводил вне Йоханнесбурга бесконечно много времени. Он же требовал бесконечно много внимания. Берт не мог оставить свой комм на полчаса, без того чтобы Коринт не устроил ему истерику; и при всем желании Берт не мог подобрать иной характеристики тем спектаклям, на которые становились все щедрее его отношения с Коринтом. И как бы он ни старался избавиться от нехороших мыслей, но они все упрямее наполняли его голову: отношения – что за они? Заявлять, что у них с Коринтом, даже, скорей, у Коринта с ним что-то серьезное – так Берт был то ли скромен не в меру, то ли пребывал в утрированно-самоуничижительном настроении, чем дальше, тем больше, но он считал все серьезней, что недотягивает классом до Коринта. Тот, райская птица, был личным помощником одного из самых влиятельных людей на ландшафте деловой Африки, он же, красавец, был чистокровным африканцем, он же, умница, был и красавцем, знал, что красавец, вел себя соответственно. Крутись, как хочешь, а Коринт Ильмондерра обладал достойным зависти настоящим, перед ним простиралось вполне себе благоприятное будущее, и даже если прошлое у Коринта было так себе, на это можно было смело закрыть глаза. Насчет себя Берт ничего такого не мог сказать. Даже если вспомнить мечты, которыми он подбадривал себя лет семь-восемь назад, так от них ничего не осталось. Хотел мирно работать в своем секторе, был не против пробраться в начальники, но не готов был жертвовать своей нервной системой до такой степени, чтобы прогрызать себе путь наверх; рассчитывал на многие десятилетия относительно спокойной и совершенно невыразительной карьеры. Теперь же – у него сосало под ложечкой от удручающего, где-то даже пугающего осознания одного прискорбного факта: он по своей ли воле, против ли ее оказался успешным в странных, неожиданных для себя сферах. Это было неплохо; спасибо Горрену, пристально следившему за тем, чтобы краткосрочные успехи Берта конвертировались в более надежную валюту. А дальше? Берт совершенно не представлял, что делать, когда он худо-бедно сживется со своими достижениями. И он только и мог, что беспомощно вздыхать, думая о них с Коринтом, о Коринте и нем.
О самом-то Коринте думалось как раз иначе. Берт категорически отказывался оценивать глубину и искренность своих чувств, их надежность и что угодно еще, чего могли бы потребовать сентиментальные собеседники. Он вообще боялся как бы то ни было характеризовать, что бы там между ним и Коринтом ни случалось. Ну да, были вместе. Ну да, встречались вполне себе часто и знакомы достаточно давно, чтобы решить, что у них – устоявшееся знакомство. Ну да, Берт был счастлив, собираясь увидеть Коринта и – чаще всего – первые полчаса-час их встречи; затем Коринт выплескивал на него всю мощь своего дурного настроения, которая, скажем прямо, соответствовала размерам его гардероба, и бодрость духа у Берта съеживалась в ужасе в крохотный комочек; ну да, очень часто он был рад, сбегая от Коринта. И – да, он начинал скучать практически сразу же. И все равно, как бы агрессивен ни был Коринт, как бы зло он ни скандалил, Берт не мог ничего с собой поделать: он благоговел. Не мог сердиться – любовался. Редко, очень редко язвительность Коринта допекала его до такой степени, чтобы Берт начинал огрызаться. И его силы духа совершенно не хватало, чтобы прекратить их отношения.
Он соглашался с Горреном, который однажды в порыве несвойственной ему откровенности заявил, что Берт бегает за тем красавчиком как собачонка и что ему если что и нужно от такого мезальянса, так это сомнительной ценности стабильность. Берт согласился. Попытался даже пообещать себе, что эта дрянь, липнувшая к нему, как жвачка к подошве – это его не пойми что – она закончится. Вот Берт еще раз увидит Коринта, предпоследний раз – истинно, следующий будет последним, и все. Он займется новыми проектами, начнет посвящать время своему приятельскому кругу, возможно, заведет новых знакомых, не для того, чтобы принюхиваться к разным сферам общественной жизни в этой по-прежнему непостигаемой Африке, а просто ради возможности приятно провести время, возможно, чтобы совместно заниматься какими-нибудь хобби, да ради чего угодно. Он даже был настолько самонадеян пару раз, что заявил нечто такое Горрену. Тот только вздернул бровь в насмешливом неверии. Его лицо, застывшее на пару секунд в этой маске, было неожиданно выразительным, стало почему-то каррикатурой на самого Горрена. Поначалу Берт расценил это как смирение с его стороны, признание своего поражения. Затем – память, злобная и мстительная тетка – настырно обновляла эту картину: Горрен, благоухоженный, гладенький, лощеный, не то чтобы довольный жизнью, но вполне удовлетворенный тем, что добычи меньше не становится, – и вредно ухмыляющийся. Длинное, кривоватое, на несколько мгновений ставшее неожиданно выразительным лицо, до дрожи напоминавшее маску, но, если присмотреться ближе, бывшее куда более правдивым, чем обычные официальные, заинтересованные, сосредоточенные и прочие физиономии, которые Горрен являл миру, когда обстоятельства того требовали.
Избавиться же от этой неправильной, унижающей, обессиливающей слабости – этого влечения было невозможно. Берт, наверное, был бы не против: он узнал Коринта слишком хорошо, имел не одну возможность убедиться, насколько они не подходят друг другу; до него дошло немало слухов, выставлявших Коринта в неприглядном свете. И даже если сделать скидку на извращенную фантазию разносчиков сплетен, то все равно вспоминается старое доброе «дыма без огня не бывает». Коринт Ильмондерра не был ангелом. И Берт тут же говорил себе: он и не демон, он – Коринт.
И кстати: достаточно было подумать о нем, и комм показал входящее сообщение. От него, разумеется. У Коринта было совсем немного свободного времени, и он использовал его нецелесообразно – требуя внимания от Берта. А у того случилось привычное, когда он получал от Коринта нечто в этом духе: эндорфиновый взрыв. Может, и адреналиновый, неважно, но Берт сжимал комм, смотрел на экран и пытался сохранять невозмутимость. Ему нужно совсем немного времени, чтобы собраться, а еще нужней это время – чтобы насладиться: Коринт дает о себе знать, он требует внимания именно от него, он хочет посвятить свое время ему.
– Привет, – негромко сказал Берт, улыбаясь экрану. Коринт хмуро смотрел на него; он выглядел замотанным – «уставший» было бы, наверное, неточно. Он спросил: «Летишь?», и Берт не смог сдержать улыбку, хотя и вопрос был глупым – Коринт ведь знал, Берт потрудился напомнить ему, что отправляется в Европу, и Коринт был настолько любезен, что даже задал пару вопросов. А рука сама тянулась коснуться мочки уха, провести по шее, стараясь не касаться яремной вены – святотатство для Берта отчего-то, словно он, ощутив кожей пульс в ней, лишит Коринта какой-то странной магии, и его беспомощность была бы куда большим наказанием для Берта, чем для самого Коринта. Участилось дыхание – тоже непроизвольная реакция, но это как раз магия Коринта так и действовала, и кровь неслась по венам с особым усердием, и сердце перекачивало ее с утроенным усердием, своим ритмом выговаривая: он-здесь, он-здесь, он-здесь. Коринт покосился в сторону, прижал комм к груди, скрывая экран от посторонних; Берт терпеливо ждал. Через полминуты на экране снова был Коринт.
– Я перебрался подальше от того проходного двора, – хмуро пояснил он. Вздохнув, опустился, посмотрел в сторону – кажется, сидел у окна. – Я заказал кофе, составишь компанию?
– Да… – начал Берт и задумался: еще одну чашку выпить, или не стоит, потом успокаивающие придется жевать? Коринт закатил глаза, ощутив эту заминку.
– Благонадежный Берт Франк печется о своем здоровье больше, чем оно обеспечивает его удовольствиями, – желчно произнес он. – Не боишься умереть со скуки, но обладая совершенно здоровым сердцем?
– Откуда бы ему быть здоровым, – огрызнулся Берт.
– И вот тут я рассчитываю на тупенькую шутку о разбитом вдребезги сердце, – пробормотал Коринт, сосредоточенно глядя мимо экрана. Берт не удивился бы, если бы он изучал ногти. Не потому, что уже скучал с ним, а – ногти же. Один из индикаторов душевного самочувствия Коринта Ильмондерры. И просто приятно отвлечься на праздности.
– Она так нужна тебе? – мягко улыбнулся Берт. Отчего-то так далеко от него, полностью лишенному возможности приблизиться к Коринту, ему было так радостно, и улыбаться хотелось, и говорить милые и глупые несуразности.
Коринт снова смотрел на него. Его глаза потеплели, слегка прищурились, губы тронула улыбка – непохожая на Бертову, но тоже уютная, интимная, не ранящая, доверяющая. Его губы все-таки были созданы именно для таких улыбок, думал Берт. И привычно спрашивал: как дела? Коринт не менее привычно закатывал глаза: его неизобретательный Берт, действующий по привычным алгоритмам, находящий в этой привычности удовольствие. Коринт даже прикрывал глаза, говоря всем своим видом: ну ладно, поиграем в эту обыденность, в любовь к малым радостям, в неамбициозность и приземленность, в маленький и незамысловатый уют. Рассказывал: они возвращаются из Пекина в Африку, сначала в Алжир, затем в Нигерию, потом, если ничего не изменится, в ЮАР. Где-то на этом пути возможен кратковременный визит в Европу, по крайней мере, обслуживающему персоналу в одном очень малоизвестном отельчике с пятью с плюсом звездами велено держать номер наготове.
– Оно бы сто лет не нужно именно в эту гостиничку рваться, платить за нее такие деньги, о Всевышний… – Коринт морщился, – даже мамуля скрежещет зубами. Но приватность, ити ее. Словно в этой хижине не найдется человека, который знаком с кем-то, кто знает Тессу. И тем скорее всего очень легко будет догадаться, за каким именно счастьем она отирается в Лондоне.
– И как долго ты будешь там? – Берт подобрался, прикидывая, будет ли у него возможность удрать в Лондон.
– Я не знаю, буду ли я там, – пожал плечами Коринт. Он протянул, словно воспел хвалу неизвестному демону, распевая его истинное имя: – Берт, это всего лишь подготовка. Приведет ли она куда-нибудь, неизвестно. Планы меняются по семь раз на дню. Ты знаешь, как это бывает.
Берт опечалился. Коринт усмехнулся.
– Ты сам-то уверен, что у тебя было бы время?
– Я бы нашел, – сквозь сжатые зубы категорично заявил Берт.
Коринт печально усмехнулся. Какой-то вредный голосок, отчего-то похожий на фальшиво-трагичный тенор Горрена, отметил, что это получилось очень убедительно, как если бы лицедей не только был тренирован, но и обладал даром, что называется, харизмой. Но этот голосок был заглушен состраданием, наполнившим Берта, желанием поддержать Коринта, облегчить ему бремя.
– Я не сомневаюсь, о щедрый Берт Франк, – Коринт расплылся в улыбке. – И ценю это.
От последних слов сердце забилось быстрей, радость вскипела в крови – он ценит! Берт подался вперед, ему даже показалось, что совсем небольшое усилие, и он дотянется до Коринта, и плевать на расстояние, потому что время уже подвластно им: встречи охватывали бесконечность, разлуки съеживались до сингулярности, и осталось всего ничего – подчинить пространство, а ведь Коринт обладает магией, он сможет!
У Коринта было всего ничего времени, достаточно, впрочем, чтобы поиздеваться над Бертом, пожаловаться на Тессу, ни с того ни с сего разозлиться из-за какого-то пустяка, случайно сказанного Бертом и замолчать, осекшись на середине фразы. Просто смотреть на него, на растерянного и сбитого с толку, и молчать. Не моргать, не улыбаться, не хмуриться или печалиться – ничего. Через добрую минуту Коринт стряхнул с себя оцепенение и посмотрел поверх комма, а затем извинился, коротко попрощался и отключился. Берт услышал – увидел тоже, как он говорит с другими людьми, к кому, как показалось, относится не очень приязненно. Удивительное дело, но Коринт показался ему особенно привлекательным, напустив на себя этот отстраненный вид, едва уловимо поморщившись, с усилием улыбнувшись и сухо, слегка пришепетывая, односложно ответив на короткий вопрос.
Перелет длился бесконечно; стюарды подходили, чтобы предложить что-то еще, поинтересоваться самочувствием; Берт то просматривал кадры из последнего разговора с Коринтом, то пролистывал наброски будущих статей – возможно даже, их циклов, и снова возвращался к снимкам Коринта. Вновь и вновь бередил те раны, которым не позволял затягиваться, находя особое удовольствие в том, чтобы им и дальше ныть и беспокоить его. И Берт очень не хотел встречаться с типами из европейской Лиги – не дурное предчувствие, но неприятное ощущение гнело его.
До гостиницы он добирался самостоятельно. Некая Ингер Стов связалась с ним и предложила поужинать. Она пыталась быть вежливой, и достаточно успешно, но Берт только ухмылялся: в интонации, в том, как она смотрела на него с экрана – прямо, чуть свысока, в том, как она строила фразы, ощущалось, что она не потерпит отказа, а ужин, который после перелета должен был бы быть легким, необременительным мероприятием, вполне может оказаться допросом. Но и отказаться он не рискнул, сослаться на усталось, джетлаг, черта, дьявола. Она же, получив от него требуемое – согласие, кратко попрощалась и отключилась. Берт только хмыкнул. Это можно было бы запросто расценить как невежливость, если бы он хотел. На самом деле – какая к лешему разница, что эти типы из себя представляют и чего хотят от него. Еще меньше значило, как они себя ведут: с Бертом, в его присутствии или друг с другом. Главное, наверное – это послушно следовать за ними к какой-то цели, по пути теша себя мыслью, что в том, что по этому пути все-таки добрели если не до пункта назначения, так хоть куда нибудь, есть и его заслуга.
Он нашел свободный кэб, выбрал гостиницу на экране, затем отчего-то обмяк на сиденье, начал рассеянно рыться в сумке, словно в поисках чего-то. Как бы искин, установленный в кэбе, не подумал, что Берт собирается вандальничать, рассеянно подумалось ему, и он поставил сумку на сиденье рядом с собой, откинулся на спинку, уставился в окно. Мысли, как зачарованные, возвращались к предыдущим разговорам с этими типами. Горрен был прав, не мог быть неправ, это очевидно ведь: в информации Берта было всего ничего ценного – там замечания по поводу настроений у людей, приближенных к самом верху, там – сведения о том, что думают простые люди, там – координаты людей, с которыми лучше всего связываться членам миссий, которые Лига свободных государств отправляет в Африку. Там – если не консультация по этнопсихологии, то по крайней мере предостережения, как не следует вести себя с местными. Берт был не настолько самонадеян, чтобы считать себя спасителем до предела натянувшихся отношений между Африкой и Европой: их, как казалось ему подчас, невозможно ни спасти, ни разорвать полностью. Это как взять лист, с одной стороны испечатанный мелким шрифтом, и попытаться отделить заполненную сторону от пустой.