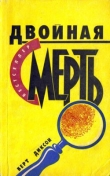Текст книги "Путь бесконечный, друг милосердный, сердце мое (СИ)"
Автор книги: Marbius
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 53 страниц)
Он был значительно выше мальчика и одет был все-таки в свои вещи, не в обноски откровенно с чужого плеча. Он же отказывался замечать и пятна на одежде, похожие на кровь, и опаленные дыры, а видел только отчаянные глаза и страх, просто до слез.
Амор положил руку себе на грудь и повторил:
– Амор. Даг. А ты? – он коснулся плеча мальчика медленным, осторожным жестом.
Мальчик покосился куда-то в сторону, его взгляд заметался, он попятился, и Амор ухватил его за автомат за секунду до того, как он решил сбежать. Ремень автомата, на его счастье, был перекинут за шею мальчика, и от рывка он упал. Амор сел рядом и тихо сказал:
– Не бойся. Хочешь пойти со мной?
Мальчик попытался уползти, Амор ухватил его за руку.
– Ты один? – спросил он.
Мальчик замотал головой, сел и опустил голову.
– С другом?
Мальчик кивнул.
– Вас двое?
Мальчик заморгал. Амор достал из мешка бутылку и протянул ее мальчику.
– Только не спеши пить, – предупредил он.
– Знаю, – огрызнулся тот.
И Амор шел дальше, нес на плечах его друга, в жару, с воспаленными ранами на ногах, пахнувшего отвратительно, болезненно; мальчик – Иге – нес мешок с продовольствием и свой автомат, категорически отказавшись выбрасывать его. Амор подозревал, что автомат был либо неисправным, либо пустым, либо и то и другое вместе, но молчал. Иге – тоже.
Эльшадай, увидев их, затрясся еще сильней. Табита, кажется, захотела напасть на Иге, и Амор положил руку на плечо Иге и стал чуть впереди него.
– Кажется, нас станет еще больше, – ровно сказал он. – Эльшадай, возьми у Иге мешок, он нес его несколько километров и устал. Табита, ты понесешь воду? Ее немного, все, что было. Но добрые жители поделились остатками.
Иге прятался за Амором, стоял, набычившись, опустив голову, сжимая автомат еще сильней. Мальчик на руках у Амора тяжело дышал и изредка кашлял, и Амор подозреваал, что он и был самым надежным поводком для Иге.
Остальные их не приняли. Эльшадай попытался объяснить, что эти ублюдки – они из бандитов, мародеров, убьют их, как только подвернется возможность. Он указывал на одежду что на Иго, что на его друге, которого тот называл Эше, практически кричал, что эти подранки наверняка сняли с трупов, возможно, убитых ими же людей. Амор молчал. Когда Эльшадай выдохся, он сказал:
– Я не мог оставить вас, я не смогу оставить их. Вы наверняка дойдете и сами, если ты прав и до лагеря осталось два перегона. Я пойду с ними.
Эльшадай плюнул на землю, потряс небу кулаками и пошел к остальным. Амор остался стоять отдельно от них. Иге подошел к ним.
– Злой он, да?
Амор посмотрел на него и покачал головой.
– Просто устал, – ответил он.
Иге молчал. После отчаянно долгой паузы сказал:
– Мы можем остаться.
– Ты пойдешь, – спокойно приказал Амор. – Я понесу Эше. Еще вопросы?
– Ты дурак?
– Скорее всего, – подумав, подтвердил Амор. – Эше нужна помощь, и не молитвенная. Там должны быть врачи. И тебе тоже, – тихо сказал Амор, глядя на оплывший глаз Иге, на желтые белки глаз.
И утром они снова шли. Упрямо не выходили на дорогу, останавливались куда чаще, чем до этого, и Амор радовался этому: ему приходилось одному нести Эше, остальные отказывались. Наконец Эльшадай сказал ему:
– Скоро придем к тому месту. Там полперегона. В ту сторону.
Он указал куда-то вперед; перегоном он называл расстояние километров в пятнадцать-семнадцать, как понимал Амор. Десять километров до лагеря, дотуда, где их могли принять, а могли и по-иному разобраться. И Амор снова шел вперед. Подходил к часовым, терпеливо дожидался под послеобеденным солнцем, когда к нему выйдет комендант, объяснял, кто он и откуда и что делает так далеко от своей родной деревни.
– Отец Амор Даг, говорите? – спрашивал комендант.
– К сожалению, я не могу предъявить вам документы, они остались с моими подопечными, – смиренно отвечал Амор. – Если вас устроит, можете сопоставить ДНК. Она должна быть в базе данных. Но прошу вас, я хотел бы сначала привести сюда их. Их много, они устали, им очень нужна медицинская помощь.
Комендант спросил его, просто ли ему было добраться до лагеря, были ли там признаки каких-то вооруженных людей. Амор подумал и покачал головой.
– Ничего не заметил такого.
– Тогда я могу отправить машины за ними. – Предложил комендант. – Пойдемте. Я размещу вас в лазарете.
– Я поеду с ними, – вежливо ответил Амор. – Вернусь и с огромным удовольствием отправлюсь в лазарет.
Через десять минут Амор ехал в машине. И ему было безумно холодно – кондиционеры в ней работали что надо. Ему было безумно страшно – отчего-то ему было слишком тесно. И остались последние полкилометра, которые он предпочел пройти пешком, чтобы предупредить своих беженцев, чтобы они не напугались, заслышав машины слишком близко от себя.
========== Часть 25 ==========
Амор совсем не заметил первых суток, прошедших в лагере. Ему как-то неожиданно выделили целый отсек в госпитальном бараке. Отсек – громко сказано, в боксе едва ли было больше пятнадцати квадратных метров, и львиную их часть занимали кровать и столики с различными аппаратами, к которым сразу же подсоединили Амора. В первые шесть часов после того, как на автомобилях вернулись все те, кто прошел весь путь от деревушки, в которой он служил, до лагеря гуманитарной миссии или хотя бы часть его. Люди боялись – машины отчего-то вызвали у них панику, и Иге сидел рядом с Амором, вцепившись в него так, что тот боялся, что у Иге либо пальцы от напряжениях поломаются, либо у него кожа треснет. Но обошлось. И даже Эше все еще был жив, тяжело дышал, прижимаемый Амором к своей груди.
Эльшадай отказывался влезать в машину поначалу. Вера смотрела на военных в относительно чистой форме, словно желала их смерти прямо здесь и сейчас. Мария-Стелла, женщина, оставившая в начале пути свекра и ребенка, выглядела так, что Амору показалось, что она потеряет сознание от ужаса – это после нескольких сот километров, бесконечных пряток и переходов прямо по лесам. И остальные тоже не горели желанием забираться внутрь. Иге тихо сказал, что он – и они – боится, что их отвезут куда-нибудь и выбросят, и ладно бы, если просто, а то как и убьют, или на органы, или куда еще. И Амор снова и снова объяснял, что впереди их ждут врачи, вода, еда и одежда. Он помогал забираться в машины – и чувствовал, как неожиданно тяжело ему дается все это. И Иге: мальчшика цеплялся за свой автомат, как за последнюю надежду. Офицер, белый, кстати, в форме с нашивкой европейских войск, смотрел на него растерянно, недоуменно – с жалостью. Амор тридцатый раз повторял ему, что впереди оружие им не понадобится, что его нужно оставить в джунглях, причем лучше выбросить его подальше, чтобы никто больше не смог воспользоваться. И Иге долго колебался, смотрел то на Амора, все державшего Эше на руках, то зыркал на солдат. Затем отбежал в кусты и вернулся оттуда без автомата.
– Закопал, – сквозь зубы произнес он, сжимая кулаки, вытянув шею и пригибая голову вниз. Амор половчее перехватил Эше и погладил его по голове.
– Вот и славно, – тихо сказал он.
Офицер Рикке перехватил его у двери мини-автобуса.
– Где вы его подобрали? – тихо спросил он.
– Он прибился к нам. Если не ошибаюсь, километров семьдесят назад. А что? – внимательно глядя на него, спросил Амор.
– Мне кажется, он из этих… армий. Местных банд, которые себя называют повстанческими армиями. На нем фирменные штаны чадской пехоты.
– Офицер Рикке, – сказал Амор очень тихо, – я почти уверен, что он был солдатом в одном из таких отрядов, и я буду очень удивлен, если вы попытаетесь обвинить его в том, что он служил и убивал. Я могу ошибаться, но предположительно ему что-то около двенадцати с половиной лет. Это все-таки накладывает ограничения на меру его ответственности.
– Дело не в этом, отец Даг, – сдавленно отозвался офицер Рикке, – ему лет двенадцать, а его заставляли… заставляли…
– И его, и девочек в том автобусе. Они сбежали из борделя. И других. Они убегали от войны. Простите, офицер Рикке, что я вмешиваюсь в то, как вы руководите этой вылазкой, но нам не лучше отправиться? Четыре автобуса и машины сопровождения наверняка привлекли внимание всяких, хм, элементов.
– А этого вы где подобрали? – спросил офицер Рикке, указав на Эше.
– Они были вдвоем, – улыбнулся Амор. – Я, правда, не осмелюсь просить помощи, боюсь, что на нем паразитов куда больше, чем на полудохлом шакале. На нас всех. Ну-с, с помощью Всевышнего, офицер?
Офицер Рикке вытянулся в струнку и даже щелкнул каблуками. Амор забрался в салон. И ему снова стало холодно, жутко и страшно. Когда у него была цель, когда ему нужно было зачем-то идти вперед, он не думал о будущем, о том, что ждет его, когда он дотянется до цели. Когда же цель оказалась почти достигнутой – почти, потому что их все еще отделяли несколько километров, которые могли оказаться очень опасными – Амор чувствовал себя все беспокойней. Он не знал, что его – их ждет впереди, что он будет делать дальше.
Эше сразу же забрали реаниматологи. Иге цеплялся за каталку, пока его не остановили у двери и медсестра не обратилась к нему как можно ласковей с предложением пойти с ней. Амор говорил с главврачом и комендантом, но отчаяние Иге не мог не заметить, извинился, подошел к нему. Не ошибся: мальчик сдерживал слезы только отчаянным усилием воли. И Амор снова убеждал его отправиться с мисс Эрикой, чтобы вылечиться и быть здоровым достаточно, чтобы самому следить за Эше. Получилось. Амор вернулся к главврачу и коменданту.
– С ним будет очень тщательно беседовать представитель лигейской военной прокуратуры, – тихо заметил комендант, когда Амор остановился перед ними. Тому только оставалось, что покачать головой. До чего просто он вспоминал раньше разные слова и аргументы из светской и околосветской жизни, до чего сложно ему было вспомнить хотя бы одну фразу оттуда.
– Но психолог будет работать тоже, – повернулся он к главврачу.
– Разумеется. Отец Даг, им все-таки повезло, что они встретили вас. Могли бы навсегда остаться там, даже не в безымянной могиле, – сказала она сдавленным голосом.
– Хотя бы кого-то из тех, кто попал в это месиво, – опустил голову Амор. – Вы позволите мне навещать их? Эше и Иге. В качестве поддержки. Они все же как-то расположились ко мне. Доверяют.
– Конечно! – воскликнула главврач. – Я вообще хотела бы попросить вас, чтобы вы переняли на себя душепопечительство. У нас есть часовня, есть неплохо оборудованное место для служений, но нет священников. Как думаешь, Тим?
Тим – полковник Йонкер – пробормотал, что это отличная идея. Доктор Декрит пояснила Амору:
– Когда мы начинали, у нас было три священника. Одного мы были вынуждены отправить домой уже через полгода, второй продержался немного больше, но тоже заработал бернаут* и был отправлен в Европу. Третий умер от лихорадки. Мы пытались добиться от епископата нового назначения, но все тщетно. Мы пытались и с местными епископатами связываться, но у них то ли свободных людей нет, то ли какие-то иные причины, но нам не говорят четкого нет, и да тоже не говорят.
– Я свяжусь с моим начальством и испрошу благословления заниматься моей привычной деятельностью здесь, – пообещал Амор. Подумал заодно, что не мешало бы зарядить комм. Но комендант Йонкер что-то еще хотел у него узнать, но Амор еще раз заглянул к тем, кого привел с собой, навестил Эше, находившегося в стабильно тяжелом состоянии, заглянул к Иге и посидел с ним, уже одетым в зеленую больничную робу, сидевшим на кровати, обхватив колени, и совершенно подавленным, поднял было руку, чтобы погладить его, но усмехнулся и сказал: «Боюсь, мы отложим этот ритуал до того времени, когда я тоже вымоюсь». Главврач потребовала, чтобы Амор немедленно отправлялся в палату, и только тогда день закончился и для него.
Закончился день, началась ночь. Амор вроде привык к тому, как внезапно она приходит: как будто чей-то огромный нож одним ловким взмахом отсек меру дня. И внезапно – темнота. В джунглях это было практически ощутимо: они готовились к тому моменту, когда станет невозможно видеть соседа, и все равно он приходил неожиданно, подкрадывался, застигая врасплох. Минуту назад можно было обвести взглядом группки, в которые привычно сбивались беженцы, и вдруг – ничего. Воздух можно проткнуть пальцем из-за проклятой сырости, вездесущего запаха гнили, в котором смрад собственого тела испуганно скукоживался от осознания своего ничтожества, а вот только не видно ничего. Слышно – да. Животных. Взрывы, выстрелы. Двигатели – Амор был отлично осведомлен о привычке местных издалека предупреждать о своем приближении, позволяя двигателю работать неприлично громко. Оказывалось, что и на банды это распространялось. Тарахтели эти жестянки будь здоров. Им, Амору и остальным, это было на руку: предупреждали о своем появлении. Пару раз в кромешной тьме ночи проблескивали фары – от этого становилось по-настоящему жутко; прожектора вертолетов и зарево от взрывов-пожаров не вызывали такого ужаса. К ночи готовились, о ее наступлении были предупреждены, и каждый раз она приходила врагом, злой мачехой.
Странно было понимать, что стены бокса, пусть тонкие совсем, кровать, на которую улегся Амор, его роба, добрые полкилометра территории лагеря во все стороны – все это защищало его, подтверждало лишний раз: ты дошел, ты спасен. Ты довел, пусть не всех, но кого мог. Ты в безопасности. А Амор все ждал ночи. Как врага-друга, который наверняка воспользуется моментом, чтобы уничтожить тебя, но пока тот момент не наступит, он готов на многое, чтобы развлечь, ублажить, побаловать, даже утешить тебя. Амору выйти бы за пределы палатки, и он собрался было, даже вознамерился свесить ноги – и не смог встать. Голова закружилась, в глазах почернело – а ведь в этой проклятой ячейке было вполне себе светло; в ушах загудело, перекрывая бытовые звуки, которые почему-то отказывался принимать слух. Амор лежал, закрыв глаза, пытался справиться с головокружением, и ему казалось, что он вращается, а под ним – воронка смерча, или черная дыра, или водоворот, иными словами что-то непознаваемое, стихийное, неумолимое и непредсказуемое. Прошло немного времени; Амор начал различать негромкое пиканье приборов, сначала только своих, затем и других; говорили члены медперсонала; тихо переговаривались больные. Подъехала машина. Амор был в боксе совсем один. Он вроде знал, что бокс этот сделан из легких щитов, и вокруг полным-полно людей, которые поспешат на помощь, если, не приведи Всевышний, его организм даст сбой. И – падал в черную дыру, или его сдавливали со всех сторон чугунные плиты, или тело разрывало в разные стороны со скоростью звука, или света, или мысли. На несколько мгновений он ощутил даже пустоту, к которой не был подготовлен: он вдруг лишился имени, названия, обращения, своего «Я», чего-то еще, чему не подобрали верного определения даже теологи, привычные оперировать сверхвысокими понятиями. Амор забыл, кто он, что делал в лагере, что делал до этого в джунглях; что за деревня была, в которой он провел столько времени, и что привело его туда, в ту глушь. И что будет дальше, он тоже не помнил.
И словно волна от берега откатилась, пелена спадала, Амор снова видел потолок и лампы на нем, слышал звуки, голоса, даже, кажется, мог двигать телом.
Он лежал и вспоминал, как думать. Как планировать ближайшее будущее, общаться с людьми, говорившими на одном с ним языке, фразами, состоявшими более чем из двух слов и нескольких жестов, не несшими за плечами страха прошлого и страха перед будущим. Амор и засыпать боялся, чтобы не рухнуть обратно в ту выгребную яму, из которой они все-таки выбрались. Тело, впрочем, уныло жаловалось: там болит, там тянет, там щиплет, там перевязочная мембрана пережала кожу; кажется, его лихорадило – совсем немного, наверное, больше от нервов, чем из-за вирусов, и эта зловещая тищина, отгораживавшая его от мира. Амор попытался переключиться на иные ощущения: чистая кожа, смазанная какой-то мазью, чтобы унять раздражение, болезненные ощущения, подлечить ссадины; чистые волосы, избавленные не только от месячной грязи, но и от паразитов – даже состригать не пришлось. Чистые ноги, перебинтованные, правда. Чистые руки. Амулеты на чистом шнурке. Амор поднял руку и медленно, подчеркнуто медленно взял их. Именной жетон; иконы святых, одна из них, кажется, веком восемнадцатым датируется. Янтарная подвеска. Каждая словно оживала под его пальцами, страстно желала рассказать ему свою историю. Амор сжал эту гроздь изо всех сил и рвано выдохнул.
Ему казалось, что уже наступило утро. Или оно несколько раз наступало, а Амор проваливался в беспамятство – болел, переносил операции одну за другой или какие-то регенерирующие терапии и наконец вышел из наркоза. Или проспал сутки, избавляясь от груза усталости; а оказалось, что прошло часа два. Амор внезапно вспомнил одну свою привычку из тех, оставленных им километрах в пятидесяти от деревни: проверить сообщения, пришедшие ему на комм. И он потянулся за коммом, глянул на часы и удивился: начало четвертого. Проверил дату – все та же ночь, следовавшая за днем, когда они завершили свой исход. Амор не отдохнул, странно бы было обойтись несколькими часами, но чувствовал себя вполне бодро. Он нашел зарядную панель, положил комм на нее, снова улегся. Медбрат заглянул, спросил, как дела. Амор привычно ответил: «Хорошо, спасибо». Едва удержался, чтобы спросить: «А у вас?», но сдержался. Голова медбрата исчезла за ширмой, и Амор улыбнулся собственному простодушию – и еще улыбнулся, выяснив, что не утратил этой способности – удивляться и радоваться мелочам.
Постель отчего-то была неудобной. То ли слишком мягкой, то ли слишком ровной. Амор посмотрел на приборы, к которым тянулись провода от его рук, груди, даже ног, приценился к кнопке вызова медперсонала, поразмышлял, стоит ли тревожить их или позволить отдохнуть. Он попытался устроиться поудобней – сидеть, как выясняется, было привычней. Снова заглянул медбрат; Амор тихо попросил его отсоединить от аппаратуры. Медбрат попытался возразить, Амор спросил, есть ли портативный блок обработки данных, сказал, что хочет проверить, как поживает его паства после такого тяжелого перехода. На медбрата подействовало; он вернулся с врачом, и через десять минут Амор, облаченный в брюки и майку, обутый в сандалии, шел по баракам. Он заглянул к Эльшадаю, выслушал от него мужественное признание, что с ним все хорошо; посидел рядом с Верой – она лежала на кровати, свернувшись, заслышав шаги – подняла голову, Амор спросил, можно ли ему сесть рядом с ней, она позволила и даже приблизилась совсем близко и замерла, пряча голову в тени.
– Хорошо, что мы здесь? – спросил Амор.
Она, кажется, посмотрела на него, погладила простыню, пожала плечами. Амор положил руку поверх ее пальцев, легонько сжал их.
– Если хочешь, я попрошу их, чтобы они учили тебя обращаться с больными, – предложил он.
Вера вздохнула и пожала плечами. Амор продолжил, не обращая внимания на ее невеселое настроение:
– Ты всегда можешь найти меня либо в голубом блоке, либо в церкви. Или в часовне. Отдыхай, ребенок.
Вера подняла голову, улыбнулась ему, послушно улеглась. Амор посидел еще немного рядом, вытянув ноги, откинувшись на спинку стула, слушая, что творилось за окнами. Она не заснула, но дышала ровней, спокойней. Амор легонько похлопал по кровати рядом с ее рукой и встал.
Иге не спал, сидел на кровати, сжавшись в комок, и трясся.
– Что с тобой? – нахмурился Амор.
Иге сопел, уткнувшись в колени, – решался спрашивать. Амор сел перед ним на корточки.
– Ты чего? – требовательно спросил он.
– Меня теперь расстреляют? – глухо пробормотал Иге.
У Амора перехватило горло. Он встал, скрестил на груди руки, попытался что-то сказать – а слова не шли.
– Что за бред?
– Я преступник, – прошептал Иге в колени. – Я военный преступник.
Амор посмотрел по сторонам. Он сказал мальчику:
– Так, подожди-ка, я сейчас.
Вернувшись через две минуты, он приказал:
– Пойдем-ка. Прогуляемся. Обрати внимание, без конвоя. Давай.
Иге долго собирался с духом, наконец свесил ноги с кровати. Амор погладил его по голове и пошел к выходу. Иге шлепал у него за спиной босыми ногами. Амору отчего-то подумалось, что мальчик совсем не умеет носить обувь.
Часовня была открыта, в ней горело несколько свеч. Иге стоял на крыльце, втянув голову в плечи, пряча лицо.
– Заходи, – ласково сказал Амор.
Иге затряс головой.
– Отчего?
– Не могу. Недостоин, – сдавленно, судорожно выговорил Иге.
Амор пожал плечами и вышел. Став рядом с Иге, он сказал.
– Я тоже. Но если бы туда смели заходить только те, кто достоин, там бы никогда людей не было. Вообще никогда. Заходи.
Иге не шевелился. Амор положил ему руки на плечи; это было тем более просто, что между ними было чуть ли не полметра разницы в росте. Иге сжался, словно готовился если не к удару в спину, то к чему-то не менее неприятному, но покорно стоял рядом с Амором.
– Я священник, – спокойно произнес он. – Ты помнишь это. Помнишь?
Иге робко кивнул.
– Поэтому я и только я могу решать, кто достоин войти в церковь или часовню, а кто нет. Так?
Иге опустил голову. Амор подумал даже, что он чего доброго подбородком ребра сломает. Но он ждал ответа, и Иге не осмелился ослушаться. Кивнул.
– И я уверен, что мы оба можем войти в часовню. – Не меняя тона, закончил Амор. – Разумеется, – словно спохватившись, уточнил он, – ты можешь просто не хотеть.
– Я хочу, – сразу же буркнул Иге. – Я очень хочу, – выдавил он. Амору показалось, что он давит рыдания.
– Тогда идем, – тихо отозвался он и легонько подтолкнул мальчика вперед. – Иди. Смелей.
Получилось. Иге вошел. Амор не снимал рук с его плеч, вел к скамьям, усаживал его, садился рядом. Опустил руки на спинку скамей впереди, вздохнул с горьким удовлетворением, опустил голову на руки. Не молился – не получалось. Просто наслаждался тишиной, которая не была пустотой. И придумывать не нужно было ничего – не так, как еще восемнадцать часов назад в лесу: все сделали за него. Место, предназначенное для тихого поклонения, воспоминаний и мечт. И даже ритуалы. Все для ленивых. Для него, Амора Дага в том числе.
А Иге сидел рядом с ним, напряженный до боли, зажав между колен кулаки, и дрожал. Амор повернул к нему голову, тихо спросил:
– Вы как молились?
– Мы не молились, – всхлипнул Иге. – Никогда-никогда.
– А до того?
– Никогда-никогда, – упрямо повторил Иго. – Никогда-никогда.
– И даже с мамой? С папой?
– Не помню… – в отчаянии сказал Иге. – Мы ходили в большой дом, меня учили историям, мама с папой были в большом доме, я ненавидел-ненавидел это. Нас учили читать по тонким книгам. А я ненавидел. Хотел на улицу, бегать и играть, а мама говорила, что я плохой. Плохой-плохой. И ее больше нет. И ничего больше нет.
Амор поднял голову, посмотрел на подсвечник впереди. Свечи не горели – разумная предосторожность, чтобы не случилось пожара ночью, когда опасности внутри лагеря и не ждет никто. Но они были, оплавленные, какие-то больше, какие-то меньше. И их было много. Что, кстати, почти не удивляло его. Африканцы с почтением относились к огню, этот обычай – почитать живых и мертвых свечами – понимали по-разному, толковали с упоением, часто противореча в каждом слове учению Церкви. И плевать ему на это было, хотя он никогда и никому не признался бы в этом, особенно своему начальству. Наверное, Иге тоже понял бы что-то свое, завидев совсем слабый огонек. Амор встал, хотя куда больше ему хотелось сидеть, опустив голову на руки, дремать, просыпаться, видеть сны – ткань действий, похожих на реальность, но только отдаленно, соединенных друг с другом грубо и непоследовательно, рассыпающихся от любого шороха, позволяющих ему оперировать ими, как взбредет его собственному, больному, злорадному воображению. Только рядом сидел Иге, которому куда больше, чем Амору отдых, нужно было найти что-то в этом мире, что дало бы какое-то основание его собственному «Я». Возможно, вновь созданному – из праха, осколков, дерьма и кто знает чего еще. Возможно, новому: если Иге захочет избавиться от прошлого вообще, Амор будет последним человеком, отговаривающим его от этого. Главное – поддержать Иге на грани, отделяющей то прошлое, приведшее его на один с Амором путь, от будущего, которое Иге сможет создать по своему усмотрению. Амор встал, скривился – ноги болели, кожа, кажется, треснула в паре мест, не из приятных ощущение. Ему бы лечь. Перебрать подвески на цепочке. Потянуться за коммом. Послушать гул в ушах – Амор наконец мог слушать его и только его. Амор пошел к подсвечнику.
Спички обнаружились под столешницей – и отчего-то это было приятно: человек все-таки куда постоянней, чем сам о себе думает. Амор зажег четыре свечи, прежде чем спичка сгорела. В часовне было сумрачно; на улице светили фонари и прожектора, и этого света было достаточно, чтобы неплохо различать предметы. Со свечами стало неожиданно уютно в этом маленьком помещении, хотя Амору, как ни странно, не хватало простора, неба, деревьев рядом, криков животных, ветра, даже дождя. Амор поправил свечу; не потому, что в этом была необходимость, а просто чтобы ощутить под пальцами нечто гладкое, безопасное, предсказуемое, чтобы еще раз убедиться, что он снова в цивилизации, в безопасности, защищен. Он посмотрел на Иге: тот сидел на том же месте, все так же сжавшись в комок, даже не поднял головы, чтобы посмотреть на действия Амора. А ведь мальчишка, ему должно быть интересно было. Бы. Это благоговение перед церковью, скатывавшееся в священный ужас, было Амору по нраву. И оно же тревожило его: а ну как Иге слишком близко к сердцу примет чистоту места и свою собственную оскверненность?
Он, хоть убей, не знал, что делать. Были бы это нищие и бездомные, как те беженцы – знал бы. Их учили, он сам учился – у них же: они и подсказывали, когда жаловались на себя, на жизнь, друг на друга. В этом нытье обязательно встречались фразы типа «я понимаю, что это дано мне в наказание – в назидание – в поучение – еще для чего-нибудь», «я понимаю, что жесток и требователен, эгоистичен и так далее, а должен быть…». Просто внимательно слушая, уже можно распознать слова, которые они жаждали услышать и от него. Сами ситуации были знакомы Амору; в той жизни, из которой к нему прибивало самых разных, но в чем-то похожих людей, было много чего одинакового, думать подчас не приходилось совсем. С Иге, знавшим только свое имя, не помнившим фамилию, имена родителей, даже то, есть ли у него братья и сестры, это не помогало никоим образом. Просто потому, что он был беженцем когда-то в иной жизни, закончившейся настолько давно, что от нее не осталось внятных воспоминаний – ничего, чтобы хотя бы иметь возможность придумывать себе новые. И тем более не способствовало намерениям Амора безнадежное настроение Иге: мальчик не смел – и это читалось во всей его позе, даже в том, как трепыхались иногда плечи, когда он глушил еще один вздох или всхлип – пошевелиться.
В любом случае, стоять и упиваться своей беспомощностью надоело. Амор подошел к Иге, погладил его по плечу – тот отшатнулся, словно по нему каленым железом провели. Голову не поднял, на Амора не посмотрел, снова застыл. Амор опустился на корточки.
– Давай-ка подойдем к свечам, – предложил он, стараясь скрыть обреченность, недовольство своей неизобретательностью за ласковой интонацией, простыми словами, попыткой представить приказ просьбой. Иге знал первое, но не второе. Он и услышал приказ. Подчинился, встал, замер, держа руки по швам. Амор тоже поднялся. – Идем, – тихо сказал он.
У столика спросил:
– Ты когда-нибудь зажигал свечи? В церкви, например.
Иге молчал, затем помотал головой – и повесил ее, тяжело вздохнул.
– Или не помнишь? – предположил Амор, пытаясь растворить мысли, которые могли восстать в Иге – что у него и таких простых радостей не было. Иге пожал плечами. – Давай-ка, возьми свечку. Люди могут прочесть молитву, прежде чем зажеть свечку. Можно о чем-то попросить или поблагодарить. Или пообещать, – медленно добавил Амор, словно вспоминая что-то. – Можно себе, можно другому.
Пламя свеч казалось особенно ярким в сумраке; теплым, желтым, ласковым, совершенно неприветливым, отказывавшимся давать ответы, ничего не обещавшим – равнодушным. Амор поправил подвески – одну, с янтарем, погладил, в задумчивости взял свечу, медленно поднес к горевшим, долго смотрел, как занимался фитиль. «Отличная терапия, – думал он. – Вроде ничего не сделал, никому не пообещал, а доброе дело совершил». И Иге стоял неподвижно, словно пытался раствориться в пламени, сжаться в совсем маленькую искру, чтобы оказаться враз уничтоженным таким беспомощным огоньком.
Амор протянул ему свечу. Иге поднял лицо, мокрое от слез. Амор беззвучно шевельнул губами, подбадривая: «Бери». Тот – не смел. Амор поднял его руку, вложил в нее свечу, направил к столику; и оказалось, что Иге куда сильней, чем Амор думал о нем – сопротивлялся, кажется, даже поскуливал, но отказывался подчиняться. Амор перепугался, что с ним случится припадок, а затем и вся его личность осыплется, останутся одни рефлексы и фобии – и отвел руку. Свеча осталась у Иге в руке, и отбросить ее значило нарушить какие-то там правила, очевидные даже ему, дикому. Амор держал руки на виду, сделал шаг назад.
– Мне нельзя, – взмолился Иге. – Вы не понимаете, нельзя. Я плохой, плохое делал, много-много плохого, понимаете?
– Это не для прошлого, Иге, а для будущего. Ты будешь плохим-плохим и дальше?
Иге шмыгнул носом, сначала робко, затем смелей помотал головой.
– Тогда можно, – тихо сказал Амор.
Он зажег еще одну свечу, уже для себя. И пламя свеч сливалось в один большой пожар, стены наклонялись к нему, угрожали раздавить, отступали далеко-далеко, и Амор стоял в вакуумном пузыре; ноги подкашивались, по всему телу выступила липкая испарина – от усталости, по привычке, от тоски, а он все стоял. Но все-таки заставил себя сделать несколько шагов назад, опустился – почти рухнул на скамью, уронил голову.
Иге стоял у столика, отчаянно моргал. Не поднимал рук, чтобы стереть с лица слезы.
Амор вспоминал имена: когда он вернется в свой бокс, уже наступит утро, уже зарядится комм, уже можно будет тревожить секретарей в епископате. В голове же вертелись другие имена – те, которые только и окружали его все это время. Кстати, сколько? Дней, недель? А ну как выяснится, что прошло всего ничего времени, более того, что Амор все это время спал, просто начитался путевых заметок, либо насмотрелся третьесортных голоужасов, а потом объелся несвежей пищи, обильно сдобренной пряностями, чтобы прибить этот несвежий аромат, вот и приснился ему этот бред – одиссея без внятного начала и с рассеянным концом. Тогда ему нужно к психиатру, а не к брату Юстину. Мир снова вращался вокруг Амора, что-то глухо взрывалось где-то вдали, странно совпадая с ударами сердца. Хотелось лечь, свернуться клубком – и исчезнуть.