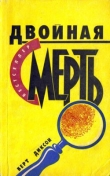Текст книги "Путь бесконечный, друг милосердный, сердце мое (СИ)"
Автор книги: Marbius
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 53 страниц)
Амор слушал его и припоминал все, что слышал – знал – запомнил о внутриполитических дрязгах. Увы, не очень успешно. Никогда не интересовался этим особенно, времени у него не особо хватало на деревенскую и епископальную политику, куда бы заниматься такими высокими материями. Очень редко какое-никакое имя из градом ссыпавшихся с языка Яспера казалось Амору знакомым, но этого было мало, чтобы относительно достоверно представлять себе, что это за субъект, какую роль играет в глобальном заговоре, который, по словам Яспера, имеет место, растет и развивается, усложняется и зреет на глазах во всех мало-мальски значимых регионах Африки. Считай, везде.
С другой стороны, такие детали, такое глубокое изучение ситуации Амору было не нужно совершенно. Он, кажется, получил ответ на свои вопросы. Самый главный – что происходит. На него можно было ответить трагичным «катастрофа», можно было прибегнуть к образной и витиеватой обсценной речи. Второй самый главный вопрос – что делать. На него дал ответ Яспер.
– Уходи из своей деревни, Амор, – повторял он снова и снова. Он был не на шутку встревожен, неожиданно причем – прежде всего для Амора. Наверное, и для себя тоже: он отводил взгляд, жестикулировал обильней обычного, и Амору, давно привыкшему отмечать мельчайшие детали в поведении собеседников – помогало при душеспасительных беседах, это бросалось в глаза. Амору, давно и безнадежно томимому особым интересом, почти непристойным, это тем более было заметно, как и то, что самого Яспера это беспокойство сбивало с толку. Иногда его рука поднималась, и он словно тянулся к Амору, чтобы коснуться лица, дотронуться до руки, ухватить за предплечье и крепко сжать, чтобы и таким образом воздействовать на него. – Вы слишком близко от рудников, на северо-восток эта проклятая фабрика, которую так бесцеремонно национализировали, ты думаешь, «Тонарога» будет смотреть спокойно? И Амор, я повторяю еще раз: ты слишком заметен там. Ты – белый. Ты священник. Они скорее всего набрали солдат удачи на каком-нибудь нелегальном рынке и вооружили до зубов. Им не нужен порядок, им нужны вооруженные марионетки, понимаешь? И для них ты наверняка станешь желанной жертвой. Обещай мне, что сегодня же ты отправишься в путь. Амор, обещай!
Его голос звучал необычно звучно. Властно – еще как, для Яспера Эйдерлинка это было привычно. Но интимно, что ли. Так никогда не говорят с подчиненными, тем более избегают такой интонации в разговоре с начальством, остерегаются применять ее с друзьями. Это жаркое «Амор, обещай!» – обжигающее, возбуждающее, заставляющее не отрывая взгляда следить за губами, округлявшимися для протяжного «о» в имени, и настойчивое, почти отчаянное «обещай», протяжное, готовое превратиться в стон. Амор всегда был уверен, что их с Яспером приятельство было выгодным прежде всего последнему: он любил миролюбивую, немногословную манеру Амора, словно подстегивавшую к тому, чтобы делиться еще и такой сокровенной мыслью о судьбах мира, еще и таким замечанием о коллегах-начальстве. Амор был не против стоять в сени такого огромного «Я» Яспера и был уверен, что его эгоизм – это своеобразная кара за непростительное легкомыслие собственного сердца. Амор был уверен и в том, что Яспер не особо обращает внимания на него-человека: дарит подарки, но ему нравится быть щедрым, флиртует – но и это является неотъемлемой частью его натуры: как для неизобретательных, насквозь материальных европейцев естественно обсуждать свое пищеварение, так для них, местных, и Яспера в том числе естественным было играть в любовь. И наконец, когда последняя надежда исчезла, когда боль сердечная стала привычной и даже желанной – это искреннее, отчаянное «Амор, обещай!». К сожалению, это обещание было роскошью, которой он не мог себе позволить.
– Я сделаю все возможное, чтобы убраться отсюда как можно скорей, – смиренно сказал Амор. Яспер набросился на него с неожиданным жаром. Убеждал, настаивал, умолял. Все, что угодно, чтобы вбить в голову упрямому Амору, что его смерть поставит под удар жизни многих и многих, и первым – Яспера. Что он несет ответственность за многих живых и поэтому не имеет права отправляться к мертвым. И прочее, Яспер все-таки был очень ловким жонглером и с самыми высокопарными словами управлялся легко, играючи. Он был искренен – Амор чувствовал это, но, самое интересное, его слова, с каким бы жаром ни произносились, не особо затрагивали. Опустив глаза, Амор сдержанно вздохнул. Он был согласен с Яспером: кажется, убираться ему нужно чем быстрее и дальше, тем лучше, едва ли тот же капитан Ноулла не воспользуется случаем и учинит какое-нибудь бедствие. И при этом Амор не хотел бежать ради Яспера, и ради себя тоже.
– Амор, когда ты говоришь таким тоном и такие невнятные фразы, я уверен, что ты зависнешь здесь еще на два месяца, потому что тетушке Лилит нужно исповедаться, потому что дядюшка Гастон просто-таки жить не может без твоих притч, еще что угодно. Ты вообще понимаешь, что белый священник оказывается первейшей мишенью, тем более вокруг твоего захолустья затягивается кольцо?
Амор встал, подошел к окну, прислушался. К одиночным выстрелам что он, что остальные жители деревни были привычны очень давно. Даже зарево, занимавшееся время от времени по разные стороны, не приводило никого в состояние паники. Напротив, когда староста отправлялся в свой еженедельный поход на поклонение к главам администрации, весь народ ждал с нетерпением его возвращения, чтобы поупиваться свежайшими сплетнями и слухами. И староста с радостью, плохо прикрытой скорбной миной, рассказывал, что горело, на кого указывали слухи, что стало причиной, кто стал жертвой, и все такое. Некоторые после этих импровизированных собраний возвышали голос, заявляли, что нужно бежать прочь от этих ужасов, негодовали, что власти не защищают, требовали обратиться за помощью или с жалобой к каким-то невнятным «им», но их запала надолго не хватало – нужно было позаботиться об ужине, подоить коз, обойти огород и похлопотать о многих дюжинах прочих, менее важных дел. Амору – в том числе.
Эта ночь тоже была привычно шумной. Орали цикады, им вторили лягушки. Изредка блеяли козы. На кошачьих лапах подкрадывались и взрывы – они случались где-то далеко, до деревни долетали вялые отголоски, вполне безобидные. Небо было саженно-черным, вполне под стать всеобщему настроению. И сердце сдавливали иглисто-холодные обручи – то ли беспокойство, то ли безнадежность.
– Я слышу, у вас там весело, – глухо сказал Яспер. Что он там мог расслышать, лениво подумал Амор. Вслух ответил:
– Не веселей, чем у тебя. Можно подумать, вас не развлекают так.
Он посмотрел на экран – успел ухватить, как Яспер поморщился и отвернулся.
– Нам по долгу службы положено, – буркнул он. – Прости меня, друг мой милосердный, мое личное время почти закончилось. Пора снова впрягаться. Я свяжусь с тобой, чтобы проверить, как обстоит твоя эвакуация.
– Яспер, – невесело усмехнулся Амор, – только если в астрале. Комм совершенно бесполезен, если незаряжен. А он будет незаряжен.
Яспер приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, нахмурился, отвел глаза.
– Твое чертово руководство не может тебе помочь? – зло прошипел он.
– Может, – улыбнулся Амор. – Вот доберусь до него, и оно мне поможет.
– Доберись, отче, – сразу же отозвался Яспер, жадно вглядываясь ему в глаза.
Амор прикрыл глаза, давая знак, что согласен, сделает все возможное. Яспер попытался выдавить из себя пару шуток, легкомысленных фраз, чего угодно, чтобы как-то развеять тяжелое, угнетающее настроение, огромным крылатым ящером нависшее над ними. Амор сделал вид, что у него получилось. И они долго смотрели друг на друга, и даже Яспер не мог решиться и отключиться.
Затем Амор долго сидел прямо на земляном полу, привалившись к косяку, и прижимал комм к сердцу. Вроде он считал себя экспертом по ловкости, с которой он не задавал себе очевидных вопросов, вроде и был уверен, что способен контролировать выдержку, а она подвела, и в голове упрямо, изматывающе вертелся один-единственный вопрос: будет ли для нас «после». Встретимся ли мы. Увижу ли я тебя не на экране, а вживую, дотронешься ли ты до твоего подарка на моей груди. Сбережешь ли ты себя – хотя бы и для меня.
И вставало солнце.
Амор долго стоял на крыльце, склонив голову к плечу, словно прикидывал, с каких из авгиевых конюшен начать. Правда, Гераклом он себя не чувствовал, скорей немощным домовым эльфом. А начинать было нужно: у него уже не было выбора, если он хотел и дальше заботиться о тех, кто оставался в приюте. У них-то не было ничего вообще, и даже деревенские – самые щедрые из них – не могли ничем делиться, потому что нечем.
Немного зарядив комм, Амор связался с кардинальским двором. Брат Юстин был ожидаемо на ногах и объяснимо настрожен. Амор подозревал, что о нем ходят самые разные и не всегда приятные слухи, включающие и сомнения в умственных способностях. Хотя Всевышний с ними, лучше считаться блаженнным и недалеким, чем очень умным, но бессердечным. Наверное. Но брат Юстин оживился, когда Амор сказал ему, что он сам считает допустимым и даже желательным оставить деревню, и знакомые советуют ему то же. Но разумеется, он попытается увести с собой и самых страждущих.
– Благословит ли меня на это его преосвященство, отец Юстин? – безнадежно спросил Амор и заставил себя улыбнуться, чтобы сгладить тоску в голосе.
– Подождите, Амор. – Отец Юстин переплел пальцы рук, затем резко разорвал замок и нервно ухватился за подбородок. – Вы хотите покинуть деревню, но не один, а в сопровождении… э-э-э… местных?
– Э-э-э… – не удержался и сымитировал его Амор – гадкая язвительная натура учуяла секундную слабину и взяла верх, но затем, спохватившись, сделал вид, что это звук-«раздумье», и продолжил: – не обязательно. Некоторые оказались здесь случайно, а были рождены в Мали. Или… – он пожал плечами. – Я все-таки, наверное, предпочел бы заявить, что не они будут сопровождать меня, а я их.
– Отец Амор, – строго сказал брат Юстин, – давайте-ка еще раз. Вы – европеец в стране, которая традиционно не очень хорошо относится к европейцам. Колониальное наследие, знаете ли, расовые предрассудки и так далее. Мы чрезвычайно рады, что своей бескорыстной службой простым людям вы расположили их к себе и завоевали уважение. Я честно признаюсь, брат, это редкость. Слишком часты высокомерие и недопонимание. С обеих сторон, Амор! – он вскинул палец. – Вынужден признать, что и наши братья не всегда демонстрируют достаточное смирение. Но при этом оно одно не расположит к ним. Вы смогли преодолеть этот барьер. Здорово. Отлично. Но… – он откашлялся. – Будем откровенны. Ситуация, складывающасяся вокруг вашего прихода… безотносительно мнения о церкви, просто объективно оцененная, несколько, эм-м, опасна. Я не знаю, в какой мере вы интересуетесь тем, что происходит на расстоянии более ста километров от вашей церкви, но смею заверить: все очень нехорошо, и становится хуже. К сожалению. И… – отец Юстин отвел взгляд, кажется, даже скрипнул зубами. – Боюсь, что некоторая нестабильность провоцирует обострение самых неприятных черт в людях. Сообщения о мародерствах, плене, пытках и прочих преступлениях против невинных и беззащитных, к моему глубочайшему беспокойству, изобилуют. – Он подался вперед, заговорил задушевнее, мягче, сдвинул брови, смотрел тревожно, словно взывал к каким-то непонятным чувствам в душе Амора. – Отец Амор, я категорически не хочу говорить этого, но будем честны: вы чужак. Чужак, олицетворяющий силу, которая не везде принимается людьми. А вы обременяете себя… тем багажом. Что я хочу сказать: мне представляется возможным заручиться поддержкой определенных сил, чтобы они отправились в вашу провинцию и организовали спасательную экспедицию. Вы можете запросто оказаться в одной со мной комнате уже через два-три дня.
Он гостеприимно улыбнулся.
– А они? – спокойно спросил Амор. Сорок семь взрослых, шестнадцать детей до пятнадцати лет. Больные, раненые, голодные, загнанные. Возможно, к ним добавятся и чьи-то осиротевшие племянники и племянницы, может, придется взять и чьих-то немощных родственников. В деревне быт простой, отношение к человеческой жизни – тоже: если ты приносишь пользу, о тебе заботятся более сильные. Иначе – увы, такова жизнь. От немощных избавятся с облегчением, пусть и поплачут, глядя им вслед.
– Милый Амор, – ласково, печально сказал отец Юстин, – они – не европейцы. Я подчеркиваю этот прискорбный факт. К сожалению, цивилизация едва ли когда-нибудь избавится от ксенофобских настроений, говорим ли мы о Европе, Азии, любой другой стране. У местных скорее всего будет шанс… – он снова развел руками, подбирая слова, – выжить. У вас в составе этой армии спасения этого шанса не будет. Нет, Церкви, разумеется, нужны герои, но предпочтительно не посмертные, ситуация складывается таким образом, что самое трагичное ее развитие очень сильно навредит Церкви. Я взываю к вашему долгу перед ней, – проникновенно произнес он.
– Скажите, отец Юстин, но ведь моим подопечным может быть оказана помощь со стороны гуманитарных организаций?
– Разумеется, – ответил отец Юстин и откинулся назад, с трудом сдерживая недовольство.
– Докуда мне нужно довести моих подопечных, чтобы затем я мог вверить себя тому спасательному отряду?
– Вам нужно преодолеть не менее ста пятидесяти километров. Вам могут по крайней мере выделить транспортное средство, если вы собираетесь тянуть за собой весь приют?
– Не думаю.
Амор, сказав это, криво усмехнулся. Едва ли можно рассчитывать на то, что кто-то из деревенских воспылает любовью к ближнему настолько, чтобы уступить свою колымагу, изначально зная, что она ему не вернется ни в каком виде. Он попытался объяснить это брату Юстину; тот, кажется, понял. Сказал:
– Это самое самоубийственное предприятие, с которым мне только довелось столкнуться в моей жизни. Наверное, даже миссия в зоне карантина, в которой я, младой осьмнадцатилетний ученик принимал участие, не была настолько безнадежной. А я был очень дерзким восемнадцатилетним учеником, твердо знавшим, что я и только я смогу спасти мир. Амор, вы рискуете своей жизнью, а равно и жизнями этих людей. Если они так плохи, если их самочувствие такое неважное, то они едва ли дотянут до санитарного лагеря.
– Посмотрите на это с другой стороны, брат, – пожал плечами Амор. – Тут у них вообще не будет шансов. И кстати, если вы искренне и осознанно заявляли, что епископат готов отправить отряд, чтобы спасти меня, где шанс, что он не привлечет внимания тех же мародеров? И если бы случились жертвы, они абсолютно однозначно легли бы на мою совесть. И это бы оказалось непосильным бременем для меня. Я, к сожалению моему и вашему, оказался в безвыигрышной ситуации. Согласен, что мне все опасней оставаться здесь. Но им – опасней тем более.
– Мы ничем не можем помочь вам! – в отчаянии воскликнул отец Юстин.
– Отчего же? – искренне удивился Амор. – Молитвой.
Отец Юстин только покачал головой.
Затем они обсудили возможный маршрут, и Амор сказал, что не факт, что он воспользуется тем, который предложил отец Юстин. Он отчего-то вспомнил карту, котору ему показал Яспер. Кажется, к предполагаемому маршруту в некоторых местах слишком близко подбирались красные зоны – территории, находившиеся под властью если не частных армий, так партизан – самоуправцев, иными словами. Яспер злословил на счет обеих этих сторон, и даже если убрать его субъективное отношение ко всему, что не Лига, у него наверняка были веские причины не любить их. Отец Юстин убежденно сказал, что те двести сорок километров до ближайшего санитарного лагеря вполне возможно преодолеть за восемь-десять дней. Отец Амор согласно кивал головой и думал, что как бы три недели не оказались слишком оптимистичным прогнозом.
Затем Амор долго стоял и размышлял: что делать с коммом. Брать с собой, оставить здесь, уничтожить. Что делать с домом и церковью, стоит ли рассчитывать на то, что оставшиеся без него сельчане будут присматривать за приходским имуществом, или вдариться в беспросветный пессимизм и исходить из того, что вскоре некому – и некуда – будет возвращаться.
Он все-таки взял комм – штучка была совсем маленькой, очень легкой. Уничтожить ее всегда успеется. Наверное, и пока Амор будет готовить своих подопечных к Великому Исходу, комм как раз зарядится достаточно, чтобы хватило хотя бы на часть пути.
Вторник – это был вторник, смутно припоминал отец Амор в перерывах между перевязками, короткими разговорами, попытками привести в относительный порядок свое имущество и мыслями, которые он старательно и не всегда успешно загонял в сумеречную зону, где их словесная оболочка растворялась в мареве полусознания. Среда – это все еще была та неделя, начавшаяся со службы в трудовом лагере, и рядом с деревней остановились четыре семьи. Староста, а с ним остальные категорически отказались пускать их внутрь, страстно, агрессивно и зло проклинали их, стоя на границе. Беженцы сели на землю рядом с кустами и замерли. Отец Амор, к которому прибежал мальчишка, посланный, очевидно, сердобольной матерью, подхватил две фляги воды, попросил одного из приютских помочь ему отнести провизию и отправился к беженцам.
За спиной у него шипели недовольные голоса – к этому не привыкать. Амор остановился рядом со старостой и сказал:
– Наверное, им все равно, куда идти, они и с нами могут отправиться. Да?
Староста попятился и часто закивал головой. Амор постоял немного, словно в ожидании ответа на самый главный вопрос бытия, и пошел к беженцам.
Они плохо говорили по-французски, чуть лучше – по-английски. Тех диалектных слов, которые успел выучить Амор, не хватало. Наверное, они не нужны были совсем. Люди сидели на земле, женщины обнимали детей, прижимали их. Подростки смотрели на Амора, сжав кулаки, готовые нападать, в случае чего, и боявшиеся, отчаянно, тоскливо, непрерывно, и все равно твердо настроенные защищать. Единственный мужчина – старик лет шестидесяти от роду с бельмами на обоих глазах, вслушивался, задрав голову вверх и развернув ее ухом к Амору.
– Вода, немного еды. Все, что есть. Мы идем на юг. Там будут врачи, еда, вода. Это долго и сложно, но есть шанс, – медленно говорил Амор.
Старик кивал головой, женщины переглядывались. Дети смотрели на Амора круглыми, полностью лишенными выражения глазами. Старик откашлялся, спросил: «Когда?»
Амор задумался. Шла бы речь только о приюте, они могли бы выступить хоть вечером. Но у него были обязанности и перед жителями деревни. Он задумчиво улыбнулся ребенку – вроде мальчику, лет четырех от роду, глазевшему на него, посмотрел на мать, напряженно сжавшуюся за его спиной, глазами спросил: можно дотронуться до него? Она прижалась лицом к макушке ребенка, быстро посмотрела на Амора. Он медленно протянул руку к ребенку и погладил его по голове, затем так же медленно, без резких движений, нарисовал небольшой крест под его ключицей.
– Мы отслужим службу, – обратился он к старику, – это займет немного времени. И отправимся. Завтра.
Он встал, подошел к старосте, взял за предплечье и указал головой в сторону своей хижины. Тот послушно потянулся за Амором.
Придя, Амор решил начать с кофе. Жуткого, гадкого, недозрелого и пережаренного, и даже его нужно было экономить. О том, чтобы епископат заботился о благополучии чокнутого священника в такой глуши, думать не приходилось. В то, что у людей достаточно средств, чтобы на их пожертвования можно было жить Амору и хотя бы как-то поддерживать жизнь в приюте, тоже верить не получалось. Но законы гостеприимства еще никто не отменял, и Амор протирал медный кофейничек, сыпал в ситечко молотый кофе, зажигал плитку, расставлял чашки, а между прочим интересовался у старосты, как поживает его семья, родственники и знакомые. Тот – отвечал после заминки, но с таким жаром, что Амор с трудом сдерживал непроизвольную улыбку. Староста явно думал о чем угодно, кроме них, ответы на простые вопросы Амора находил с трудом, а на это накладывалось почти мистическое почтение к священнику и, наверное, осознание, что священника-то у них больше не будет.
Наконец кофе был готов; Амор уселся на табуретку, склонил голову к плечу и улыбнулся старосте, который отчего-то заволновался еще больше, словно его поймали на горячем. Амор чуть ближе пододвинул ему чашку и сделал приглашающий жест рукой.
– Должен признать, что мне всегда нравился кофе, который выращивали Вассва и его семья, – праздно говорил Амор. – У них просто талант, и деревья растут у них куда лучше, чем в других местах.
Староста яростно кивал головой и метался взглядом от стены к стене. Он отчего-то боялся смотреть на Амора – непонятно, необъяснимо даже. Едва ли он хочет просить его остаться. Что еще?
После нескольких минут пустопорожней болтовни Амор сказал:
– Мы отслужим завтра рано утром. Я постараюсь начать службу еще до рассвета, чтобы у людей не был нарушен рабочий график. Мне очень жаль, что я не смог дотянуть до воскресенья, было бы куда правильней служить в этот святой день и неторопливо. Но даже мне, глупцу и слепцу, очевидно, что я становлюсь бременем для вас. Мне очень жаль, что я вынужденно затянул свое гостеприимство, дорогой Катлего. Я хотел облегчить жизнь вам и вашим землякам, а превратился в обузу. Простите меня, дорогой брат.
Староста бормотал что-то невнятное, чуть оживился, принявшись убеждать Амора, что все отлично, просто прекрасно, и жители деревни ничего не имеют против, что они готовы и дальше заботиться о нем.
– Обо мне одном – так ведь? – улыбнулся Амор.
Он удивлялся себе: сколько людей уже сказали ему, что в местечко, в котором Амор осел, становится все жарче, и для него – именно для него – все опасней, сколько всякой дряни Амор навидался и наслышался, а улыбаться ему оказывалось легко. Староста подозрительно смотрел на Амора, словно улыбка вызывала у него все больше опасений за душевное здоровье их священника. Но, кажется, эти мысли были для него слишком сложными и мудреными, а насущные дела – вот они, и о них нужно было говорить.
И они говорили. Кто будет присматривать за домом – не все же время будет твориться это не пойми что в центре (ни Амор, ни староста не рисковали как-то обозначать это, кроме как паузами, вороватыми взглядами, нервно сжатыми губами), что делать с церковью.
– Использовать под те нужды, которые окажутся самыми злободневными, – решительно говорил Амор.
– Но ведь дом Всевышнего… – мямлил староста.
– Дом Всевышнего – вся вселенная, от халупки в медвежьем углу Всевышнему не убудет. Я отдам вам на хранение ритуальные принадлежности, и будет. Ничего хорошего в том, чтобы упрямо хлопотать о здании для ритуала, когда дети Всевышнего нуждаются в угле, нет.
– Это совсем не обязательно, – шел на попятный староста. – Но наверное, вы правы, святой отец.
И Амор снова улыбался, искренне надеясь, что его улыбка не покажется собеседнику печальной.
Когда они заговорили о пустяках, вроде отвратительно сухой погоды, циклонов-антициклонов, о том, что двоюродный внук старосты категорически отказывается учиться, хотя и неглупый мальчишка –«а мог бы и чиновником стать», – Амор перевел дух. Как выяснялось, ему было тяжело расставаться с ними – со старостой, с тетушкой Николь, которая уже второй раз прошла по улице мимо дома, причем каждый раз ей припирало именно напротив их окон замирать и начинать громкое, зычное, энергичное воспитание чьих-то пострелят, с теми, кто помогал Амору в церкви, кто косо смотрел на него, кто приводил своих детей к отцу Амору в воскресную школу, а потом жадно выпытывал, хорош ли был отпрыск, есть ли у него способности. Само место тоже стало родным отцу Амору. Бесчисленные тропинки, пруды и колодцы – рощицы, поля – небо, горы далеко-далеко на горизонте. А он едва ли вернется сюда. Епископ может за здорово живешь решить, что отцу Амору не помешает принять другой приход. Или просто оказаться одним из священников в какой-нибудь огромной церкви, вечно на вторых-третьих ролях, ни за что не ответственым, никому не приносящим пользы.
Староста начал прощаться – раз потряс Амору руку, посмотрел на улицу, еще раз ухватился за руку, еще раз ее потряс, прижал к ладони левой рукой и сжался, и заглянул Амору в лицо круглыми беспокойными глазами.
– Отец Амор, мы тут… я тут… – начал он.
Амор посмотрел внутрь дома, подумал, стоит ли снова приглашать его посидеть за столом; он огляделся, чтобы оценить, много ли свидетелей будет у их разговора, если остаться стоять у двери. Кажется, было тихо и спокойно. Он изобразил сосредоточенность и внимание, и староста немного оживился. Это оказалось совсем поверхностным изменением, отчаяние, решительность, недоверие никуда не делись, и староста так и стоял, скрючившись. Амор ждал.
– Вы тут понимаете, отец Амор, я часто бываю в центре, там разные слухи ходят. Что переворот будет, или что у нашего президента очень сложные отношения с советниками и министрами, все такое. Очень в неспокойное время мы живем, отец Амор, в очень неспокойное… – староста опустил голову, еще раз повторил последние слова, словно заставлял себя поверить в них – словно ему нравилось само их звучание. – Всякие слухи ходят, что скоро будет мобилизация, или что скоро везде расквартируют войска. Да что я вам говорю, вы не хуже моего знаете, как это бывает, вот… я очень предан нашему президенту и правительству, очень, отец Амор! И женщина моя, это женские всякие мысли, и все такое, они создания истеричные и беспокойные. Но, наверное, женщина права, отец Амор. Вы же знаете, что сын мой служил в армии, и оставил после себя двух внуков, и что со снохой случилось, тоже знаете… вот такое наше бремя, отец Амор. Как бы старшего из них не забрали в ополчение, – глухо закончил староста. – Ему, конечно, четырнадцать только, он трудолюбивый и умный, отец Амор, но не в четырнадцать же ему идти в ополчение. А так он послушный и вас очень уважает. В пути подмога будет. Истинно хорошая помощь. А девочка – маленькая, конечно, еще. Но шустрая, тоже будет вам помогать. Я им все объясню и прикажу, чтобы вас слушали, как меня и дядьев, чтобы вам помогали. Они не будут обузой!
У Амора судорогой сжало горло, хотел бы, ни слова не выговорил. Когда смог, произнес:
– Никто не говорит об обузе, Катлего, и я знаю Валера и Лидди. Я буду заботиться о них, покуда смогу. А потом доверю людям, которые будут заботиться дальше. И прослежу, чтобы при первой возможности они с вами связались.
Староста начал кланяться. У Амора щипало глаза. Ему бы скрыться в доме, спрятать лицо в руках, чтобы никому, и даже себе не признаваться, что староста, не зная того, поставил его на колени, а сам возвысился, как, наверное, ни один из высоких мира сего. И отчего-то Амору все очевиднее становилось, что Валер и Лидди будут не единственными, кого ему доверят деревенские. Потому что для того, чтобы забрать в ополчение, четырнадцать лет не возраст, и тринадцать – тоже. И для того, чтобы девочек забрать в бордель, девять лет – совсем не ограничение.
Второй к Амору подошла тетушка Николь. Тоже зашла издалека, попричитала, что он оставляет их район без покровительства всевышнего, повздыхала, что наступило такое время, когда невозможно быть добрым, и им всем не по себе, что благое дело отца Амора – тот приют – оказывается слишком тяжелой ношей для их крошечной общины. Она же повздыхала, что отец Амор своей деятельностью слишком привлек к себе внимание, а значит, правильно делает, пытаясь добраться в безопасные места. Потом долго рассказывала о внучатом племяннике. Всем, мол, хорош, непоседа, конечно, но что взять. Сирота… И отец Амор пообещал забрать его. Тетушка Николь все жаловалась, а затем почти нормальным голосом попросила забрать с собой и двух младших дочек.
– Нужно мне было бы сына попросить, отец Амор. Эти люди, там, – она кивнула в сторону столицы, – они могут придумать что угодно. И его забрать в армию. Ну как это было давно. Знаете, мой дядя иногда рассказывал, что с ним было, когда ему еще не было шестнадцати, отец Амор. Он повесился, мне было лет пятнадцать. А ему было четырнадцать, когда вроде как закончилась та война. Понимаете? И потом еще были банды разные. Я буду молиться, чтобы Нея не забрали. Если что, мы его спрячем. А девочек не скроешь так просто, и, не допусти Всевышний, если их найдут, им будет очень плохо. Позаботьтесь о них, сделаете ведь?
Отец Амор обещал. И снова обещал. И еще раз. И еще одному. И все это под звуки далеких взрывов и под вой самолетов, пролетавших над ними. Не тех, пассажирских, высоко-высоко, а летевших низко, так, что казалось: присмотреться немного – и видны будут цифры на крыльях, или что там рисуют на истребителях. И снова хлопоты, попытка распределить запасы воды и еды так, чтобы все несли что-то, но никто не был нагружен сверх меры. Борьба со странным, но почти привычным сосущим ощущением под ложечкой, когда они слышали гул грузовиков. Тогда кто-то из детей, суетившихся рядом, хватал его за руку и прижимался в испуге, глядел на отца Амора, затаив дыхание, а когда после бесконечных минут ожидания становилось ясно, что грузовики проезжали мимо, ребенок вздыхал в неподдельном облегчении, прижимался к нему еще сильней и наконец отпускал руку. Неужели деревенские не просто решили, что военные увезли Амора, чтобы не вернуть? А если они были не так уж неправы, и ему просто повезло?
И ночь, захватившая деревню в заложники как-то внезапно. Только что было достаточно светло, чтобы различить буквы в псалтири, и вдруг – тьма кромешная. Отец Амор закрыл книгу, устроился чуть поудобней на стуле и решил подремать. Смысла укладываться в постель не было. Постели как таковой тоже не было. И вообще до начала богослужения оставалось слишком мало времени, только и хватило бы, чтобы немного обтереться влажной тряпкой и натянуть рубашку посвежее.
Сон, правда, не шел. Посидев несколько минут с закрытыми глазами, Амор вздохнул, решил прогуляться в приют. Отчаянное решение: в темноте чего только может не оказаться под ногами, и это что-то вполне может быть ядовитым, что, с учетом состояния скорой медицинской помощи, запросто привело бы и к летальному исходу. Но Амор понадеялся на ангелов-хранителей, пусть и не верил в них. Так, чтобы особо сильно – в детстве верил и еще как, но где оно, то детство? Он развлекал себя детскими воспоминаниями, бесцельными метафизическими размышлениями, чтобы не думать ни о нескольких неделях пути, ведущего непонятно куда, ни о людях, которые доверяли ему настолько, чтобы доверить детей. О детях, веривших ему до такой степени, чтобы безропотно закрыть глаза и натянуть на голову одеяла, когда Амор подходил к ним, гладил по головам и говорил пустяки вроде «пора отдыхать, чтобы завтра хватило сил», «пора спать, чтобы сон залечил твои ранки», или еще что-нибудь. Иногда Амор замирал, вслушиваясь: он, городской житель, отправившийся в эту глухомань, был большей частью беспомощным во всем, что касалось ориентации, не то что местные жители, с точностью до полуградуса способные указать на крупные города, шахтерские поселки и дороги. Так что Амор позволял себе предполагать; странным делом он находил в этой неопределенности успокоение. Взрывы, конечно, слышны, но это вовсе не значит, что в карьере что-то происходит. Перестрелку, конечно, слышно, но совершенно необязательно, что в ней участвуют давние знакомые Амора – или что она направлена против них. И так далее. А деревня молчала. Едва ли спала: ему казалось, что он слышит сдерживаемое дыхание, осторожные шаги в направлении окна, чтобы проверить еще раз, что все тихо, подавленный всхлип, недоговоренную фразу. И прочее.