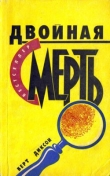Текст книги "Путь бесконечный, друг милосердный, сердце мое (СИ)"
Автор книги: Marbius
Жанры:
Драма
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 53 страниц)
Амор отказывался мириться с этим. Ему предстояло брести в темноте: кто знает, что тот проклятый «сэр майор» вбил в голову детям. Сколько их было, этих детей, и где они сейчас – тоже неизвестно. Но эти двое – перед ним, и за них стоило побороться, хотя бы потому, что Иге был способен признавать свою вину, тем более потому, что Эше сознательно брал всю вину за весь их отряд на себя.
– Не знаю, – спокойно сказал Амор, неторопливо достал свой жетон, выложил его поверх майки, погладил, достал из кармана четки, оперся руками о перила, выступавшие над краем кровати, и принялся методично перебирать бусины. – Я не осмелюсь судить о преступлениях. Это должны и будут делать судьи. До тех пор, пока они не признают проступок преступлением, никто и никогда не должен называть его так. Поэтому и я промолчу. Но насчет проклятия – я главный человек здесь, во всем лагере, между прочим. По проклятиям. Как и по благословениям. И я говорю тебе, я, священник Амор, что ни ты, ни Иге не прокляты.
Он краем глаза заметил, что Иге выпрямился и смотрит на него круглыми глазами – двумя огромными плошками на сизовато-черном лице. Отвлекаться на него Амор не мог, убеждаясь еще сильней, что мальчик подчинится его решениям, если изолировать его от Эше; велик шанс, что он даже подзабудет своего приятеля. Смысла в этом было мало, черствости требовало изрядной, Иге прилипнет к кому-нибудь ненадежному. Для Эше эта изоляция могла оказаться смертоносной. И Эше мог спасти их обоих. Осталось только подобрать то средство, которое бы вдохновило его на сражение со своими одержимостями.
Поэтому Амор смотрел на него. Ему было очень нелегко – нехорошим был взгляд у Эше, расстреливающим, не имеющим дна, всасывающим душу, словно омут – или черная дыра, измалывающим кости, выпускающим на волю все сомнения, которые от этой свободы множились многократно, приобретая самые причудливые, отвратительные формы. Эше моргнул, затем прикрыл глаза – Амор поздравил себя, что выстоял. Но это даже началом не было. До тех пор, пока Эше не будет достаточно здоров, о душеспасительных беседах речи не шло.
– Вы не священник, – глухо, обличающе сказал Эше. – Вы не в форме.
– Я священник, – ровно произнес Амор. – И я не должен носить форму. В некоторых случаях я ношу специальную одежду. Но сейчас она совершенно не обязательна.
Эше упрямо цеплялся за свои соображения:
– Вы ничего не понимаете. Если бы вы знали все о нас, вы бы так не говорили.
Амор откинулся назад, скрестил руки на груди, так, чтобы и Эше, и Иге видели четки.
– Я знаю кое-что, – невозмутимо произнес он. – Например, что Иге хотел отобрать у нас провизию, чтобы кормить тебя. И он был настроен очень решительно. Очень, – многозначительно изогнув бровь, повторил Амор. Иге втянул голову в плечи, сжал колени, прижал локти к бокам, словно ожидая удара. – Он самый лучший твой друг, и ты можешь быть горд тем, что завоевал такую дружбу.
– Неправда, – выдавил Иге и замотал головой, – это плохо было, плохое желание, я бы тогда и стрелял бы, и вас, и других тоже! Плохо-плохо…
– Ты не сделал плохо-плохо, Иге, – спокойно ответил на это Амор. Он повернулся к Эше: – Видишь?
Эше покачал головой и закрыл глаза.
– Вы не понимаете, – глухо повторил он. – Вы ничего не понимаете.
Амор снова оперся о перила кровати, начал задумчиво перетягивать бусины на леске. Помолчав, он честно признался:
– Не понимаю. Но ты можешь объяснить мне.
– Не хочу, – сквозь зубы выдавил Эше. Он тяжело вздохнул, выдох получился судорожным, слишком похожим на всхлип.
Амор кивнул, остался сидеть у кровати, перебирать четки. Одна бусина – он вспоминал людей, смотревших ему вслед, когда они отходили от деревни. Вторая – те, кто навсегда остались позади, там, где их едва ли можно будет найти. Третья – те, кого они встречали на пути. Лица, взгляды, редко – голоса. Они не говорили толком. Обменивались фразами, чем меньше слов, тем лучше: их не услышат, не заметят, они не привлекут внимания; говорить – попусту растрачивать силы. Не о чем было говорить. Четвертая – те, кого Амор встретил здесь, с кем заново учился говорить, вспоминал простые слова, складывал их в фразы, постигал их смысл, который редко когда был простой суммой звуков. Он поднял глаза на Иге – тот завороженно смотрел на бусины, на пальцы Амора, перебиравшие их. Амор улыбнулся, посмотрел на Эше, на аппаратуру, присмотрелся к показателям, прислушался к его дыханию.
– Спит, – беззвучно сказал он Иге. – Пойдем?
Он встал, Иге сполз со стула, боязливо глядя то на него, то на Эше. Амор постоял-подумал, осторожно нарисовал крестик на груди Эше, поправил одеяло. Отчего-то он не мог решиться и дотронуться до него – с ним было не как с Иге, инстинктивно тянувшимся за прикосновениями, располагавшим к ним. Эше мог запросто стряхнуть руку, зло потребовать, чтобы его не смели касаться – и быть при этом совершенно искренним. И Амор не мог не уважать это. Но благословение все-таки было чем-то иным, не принадлежащим только Амору – он был проводником. И ему стало куда спокойней, когда благословение упокоилось на Эше, и он не дернулся, чтобы стряхнуть его.
Он кивком указал Иге на выход.
Врачей видно не было, из одного бокса вышла медсестра, стянула повязку с лица, псмотрела на Амора, тяжело вздохнула и пошла дальше. Эхом раздался вздох Иге; Амор только порадовался, что он не огласил почти привычное: кто-то умер. Осталось предупредить персонал, что они ушли, что за Эше не мешает присматривать повнимательней, и если что – чтобы его звали, не раздумывая. Спросить, нужна ли помощь. Еще раз посоветоваться с Иге о какой-нибудь мелочи, чтобы он не забывал о том, что не только должен, но и может. Заглянуть в часовню. И чуть-чуть понаслаждаться тишиной.
Выйдя из барака, Амор спросил:
– Поможешь мне прибраться в часовне?
Он повернулся к мальчику, застывшему в растерянности. Бедолага, поди, перебирал в уме, что он только что услышал. Мог ли сказать: не хочу, а если отказаться – то что должен делать дальше. Соглашаться – и во что это выльется, тем более часовня едва ли превратилась в свалку мусора за сколько – двенадцать часов? И, наверное, Иге очень смутно представлял, что именно значило «прибираться». Если Амор был прав, проводя параллели между своим исходом из деревни и бесконечными странствованиями Иге, Эше и их отряда, возглавляемого тем загадочным «сэром майором», то едва ли им – всем – было до бытовых мелочей.
Иге ответил – растерянно пожал плечами.
– Пойдем, – улыбнулся Амор. – Развлечешь меня, если не захочешь помогать.
Иге приоткрыл рот, недоумевая: он – и не хотеть? Он – и помогать? Амор кивком головы поманил его за собой и неторопливо пошел к часовне. По пути он рассказывал, как однажды взялся делать ремонт самостоятельно. «Дел было – пару досок на крышу прибить, – говорил он, поворачиваясь к Иге с виноватой улыбкой, – и я полез на крышу … Ох, как упал! Кстати, а ты молоток в руках умеешь держать?» На историю Амора, вроде смешную, Иге реагировал скованно – ему не было смешно, он не понимал, отчего веселится Амор; он ощущал необходимость определенной реакции – но засмеяться значило бы засмеяться над старшим по возрасту, по чину, в конце концов, – нельзя! Куда проще было ответить на вопрос Амора – потрясти головой, обозначая «нет», и тут же повесить ее: мол, бездарь, тупица.
– Научишься, – утешающе произнес Амор. – Я же научился. Даже шить немного могу. Но совсем мало. Хотел научиться плести разные штуковины из лозы, но как-то времени не было. А ты чему хочешь научиться?
Ответ Иге был почти предсказуемым: водить машины. Амор одобрительно угукнул на такую решительность, подумав: потому ли Иге так избирателен, что его больше ничего не интересует, или он просто не знает, чему еще может научиться? И он снова рассказывал: о том, как побывал однажды в гончарной мастерской – причем обычной, не готовящей изделия для туристов, а продающей самые обычные изделия для самого непритязательного быта. «Представь, – снова рассказывал Амор, – огромный горшок, больше тебя ростом», – и он расставлял руки, чтобы показать, каким широким был этот чан. Иге смотрел на него неверяще, открыв рот, даже попытался хмыкнуть: такого не бывает. «Это еще что, – подмигнул Амор, – ты бы видел, как его дочки стены лепили. Здорово!»
Замерев на пороге, осматриваясь, Амор удовлетворенно сказал:
– Убирались. Молодцы какие.
Иге сопел рядом.
– Нам и делать ничего не нужно, – хмыкнул Амор. – Можно натереть подсвечники. Подмести не мешало бы. Сделаем?
Иге пожал плечами. Амор заглянул в крохотный чуланчик, нашел тряпки, одну вручил Иге. Спросил: что делать, знаешь? В ответ услышал пренебрежительное: ну конечно! Удивился; и Иге торопливо, заглатывая половину фраз, начал объяснять, что конечно умеет, их заставляли, он и Ндиди винтовку чистил, и сэр майор тоже доверял ему свое ружье. Еще, конечно, ботинки заставляли чистить, когда сухо было – когда сезон дождей и они «отступали», времени на такую праздность не было, но когда у них было «перемирие», их заставляли маршировать, тогда и заставляли все это делать. Казалось, что в сумраке часовни Иге было проще говорить. Он рассказывал, что те, кто старше, заставляли младших чистить им обувь; оружие не доверяли: в соответствии с наставлениями сэра майора, оружие – это как сердце солдата, только он сам должен заботиться о нем, посмел взять чужое – могли и прибить. Старшие же могли объесть младших, Иге хмуро признался, что они иногда ели, что росло или даже бегало в лесу. Он однажды долго блевал, ему было очень плохо, дело дошло до кровавого поноса, когда он что-то такое съел, а остальным было смешно.
– А Эше дал мне свой хлеб, – замерев с тряпкой в полусогнутой руке, очень серьезно сказал Иге. – И я тогда понял, что он мой лучший друг. И он еще не давал другим смеяться надо мной. Он мой лучший друг, – торжественно повторил он.
– И ты его лучший друг, – согласно отозвался Амор.
– Я отдал ему долг дружбы, – с суровым видом Иге прижал кулак к груди.
Амор только головой покачал.
– Дружба не в этом заключается, – мягко возразил он. – Ну-с, зажжем пару свеч, чтобы нам веселей было подметать?
Иге продолжал рассказывать: одно время они были самыми младшими, и это плохо, очень плохо – пинка, затрещины, оплеухи можно дождаться от любого. «Но мы бы скоро были старшими, и тогда бы могли отвечать, понимаете, отец священник?» – жарко говорил Иге. И Амор грустно думал, что в их отряде прибавлялось бы младших, и Иге с Эше точно так же одаряли бы их зуботычинами и пинками, как до этого их самих. Спираль, не имеющая начала и едва ли бы достигшая конца.
Амор поинтересовался, какими были их отношения с другими отрядами. Вопрос оказался неожиданным: Иге даже замер, обдумывая.
– Другими отрядами? – осторожно спросил он. – Какими другими?
Кажется, «сэр майор» ни с какой стороны не был связан с самыми разными движениями – про-правительственными, псевдо-про-правительственными, прикрывавшимися национальными интересами, даже теми, кто получал какие-никакие средства от мегакорпов – если Яспер был прав и они действительно нанимают самых разных головорезов, просто чтобы Лиге и нацправительствам неспокойно жилось. Это имело смысл: убегая ото всех, время от времени подкрадываясь к заблудившимся жертвам, а самое главное – эксплуатируя слабых и беспомощных, как Иге, как его лучший друг, как десятки других детей, можно было неплохо просуществовать; едва ли «сэр майор» лелеял грандиозные амбиции, иначе он звал бы себя «сэром генералом» или каким-нибудь превосходительством. У Амора складывалось представление, что этот тип мог даже разыгрывать из себя щедрого барона – брал изредка кого-нибудь в качестве поощрения с собой на встречи с другими «сэрами» и преподносил это как величайшую роскошь. Или им двигало нечто чуть менее ничтожное; Амор отдавал себе отчет, что он пристрастен – до крайности, до кровавой пелены перед глазами, что заочно презирает этого «сэра» и охотно согласился бы созерцать его линчевание. Он понимал и то, что такие желания недопустимы – особенно для него, и все равно попускал такие мысли, хотя они очень мешали ему вести себя с Иге так, как он считал нужным.
В любом случае, Иге не видел людей из других отрядов и только три или четыре раза за последние несколько лет выбирался если не в город с главарем и его ближайшими помощниками, так в какие-то совсем захудалые населенные пункты. Не днем – никогда. Либо рано утром, либо ночью. Как тати. Они возвращались, и Иге и Эше чистили их ботинки, драили машины; если везло, им перепадало много пищи; если совсем везло, то и ночь можно было переночевать без того, чтобы «сэр майор» или кто-то из старших позвали их к себе.
Затем они сидели и смотрели на свечи. Иге старательно имитировал позу Амора; тот же сидел, сплетя пальцы рук, прикрыв глаза, то ли дремал, то ли медитировал – не молился: не то настроение – и слушал. Тишину в часовенке, музыку слева, смех прямо, машины, подъезжавшие к лагерю, рев животных – удивительно, непривычно, вдохновляюще; то ли взрывы, то ли залпы; вертолеты – судорожное дыхание Иге – тишину. Глаза щипало, горло сдавливало, сердце билось неровно, то успокаивалось, замирало, давая возможность отдохнуть, перевести дух, то начинало лихорадочно стучать, словно негодуя из-за воспоминаний.
В часовню заглянули; Амор оглянулся, увидел доктора Декрит. Она на цыпочках подошла к ним, села рядом с Иге. Тот в ужасе выкатил глаза, закаменел, когда она легко погладила его по голове и села рядом. Она сложила руки, в точности как Иге и Амор, опустила голову.
Через пару минут доктор Декрит сказала:
– Так-с, молодой человек, пора спать. Время позднее. Режим есть режим.
Амор вытянул шею и посмотрел на часы на ее запястье. Дело близилось к десяти вечера.
– Эх, как мы с тобой заработались здесь, – пробормотал Амор. – Давай-ка я тебя отведу и сдам на руки дежурных. А то виноват я, а влетит тебе.
– Ни в коем разе, – бодро сказала доктор Декрит. – Наоборот, мы очень рады, что у отца священника появился такой замечательный помощник. А у часовни – отец Амор.
Он усмехнулся: мог бы поспорить, кто и у кого появился, но не хотелось совершенно. Он устал, хотя не особо был занят весь день. Ему хотелось лечь, вытянуться – и попытаться вспомнить что-нибудь праздное, например, помечтать. Или просто отдаться на милость сна, если не получится – то просто лежать с закрытыми глазами, зная, что ни идти никуда не нужно, ни в звуки вслушиваться, ни в дыхание тех, кто рядом, пытаясь различить, хуже ли им стало, или все-таки полегчало, не нужно бороться с отчаянием, которое оказывалось самым коварным врагом там, в непреодолимых пятнадцати километрах от «своих». Не нужно тащить на себе неподъемный груз ответственности за всех их, доверивших свои судьбы ему, ничтожному из ничтожных.
Доктор Декрит сопровождала их в барак, где размещался Иге. Она поджидала Амора на улице, пока он отводил мальчика. Было поздно, изнуряюще жарко, безлюдно.
– Как думаете, Иге в порядке? – спросила она, когда Амор встал рядом с ней.
– А вы думаете, он когда-нибудь будет в порядке? – флегматично спросил Амор. – Нет, действительно, неужели? – продолжил он в ответ на ее смешок.
– Вы коварный человек, отец Амор, – отозвалась она. – И все-таки?
– Он в порядке, – тихо ответил Амор.
– Его приятеля держат под круглосуточным анти-суицидальным надзором, – негромко произнесла она, оглядывая лагерь. – И знаете, что самое болезненное? Что этот надзор не всегда успешен. У нас случалось такое. Это – самое, наверное, тяжелое. Вроде и понятно, что нашей вины всего ничего, а не винить себя не получается.
– Он – целеустремленный молодой человек, – помолчав, признал Амор. – Боюсь оказаться правым, но он мог уже поставить перед собой такую цель.
– Вы уже успели поговорить с ним, – не спросила – сообщила доктор Декрит. – Смогли разговорить?
Амор поморщился, покачал головой. Доктор Декрит похлопала его по руке, сказала:
– Я буду молиться, чтобы у вас получилось, отец священник. Я очень редко это делаю, признаться, я очень долго времени убеждала себя, что я – агностик, но вас послал к нам Всевышний. Хотя бы в благодарность за вас я буду молиться.
– Какая самонадеятельная избирательность, – мягко упрекнул ее Амор. – Неужели остальные не стоят вашего доброго слова?
– Нет, иногда вы определенно бываете совершенно невыносимы, – в шутливом негодовании воскликнула доктор Декрит. – Стоят, конечно стоят. И – да, я признаю: я склонна к самонадеянности. Иначе я не смогла бы удержаться на моем посту здесь, в Африке.
Амор усмехнулся, кивнул; ему совершенно не хотелось вступать в дискуссии, начинать душепопечительные беседы, вестись на провокации. Он хотел одного – чтобы этот день закончился. И Амор начертил крошечный крестик под ее ключицей и задрал голову к небу. Его было почти невидно – лагерь был славно оснащен прожекторами, – но оно все-таки было знакомо-бездонным, молчаливым, любопытным, сочувствующим, подбадривающим.
Ему не спалось. Комм молчал, Яспер не откликнулся на пожелание благословений – наверное, был занят очередным геройством; кровать была слишком мягкой; в лагере было слишком шумно; разум, привыкший к тому, чтобы бодрствовать круглосуточно, упрямо отказывался отключиться, отдохнуть самому, дать отдохнуть телу. Амор полежал с открытыми глазами, решил прогуляться – а ну как устанет и сможет заснуть. А лагерь не спал. Кажется, не один Амор мучился бессонницей. Медбрат выглянул из отсека, зевая, пробормотал приветствие, скомкавшееся за ладонью, которой он прикрыл рот; Амор улыбнулся и помахал ему.
– Я прогуляюсь немного, – зачем-то пояснил он.
Медбрат кивнул и снова скрылся в отсеке. Амор замер на секунду, вслушался: он слышал храпы, чьи-то совсем тихие разговоры, кто-то тихо стонал. Кажется, и плакал. Ночь могла быть благодушной хозяйкой, когда ее это устраивало, но некоторые знали и ее острые клыки. Амор решил проверить Иге и – это казалось ему куда более важным – Эше.
Иге спал крепко – Амор нашел в этом своеобразное удовлетворение. Словно мальчишка дерзко говорил своему прошлому: фиг тебе, не возьмешь, назло тебе буду жить. Он подошел к кровати Иге – тот вскинул голову, посмотрел на него мутными спросонья глазами, и его рука попыталась ухватить простыню в пригоршню, словно Иге рассчитывал найти рядом оружие и защищаться, а через пару секунд он, узнав Амора, выдохнул: «А, отец священник». Амор приказал ему: спи, – и Иге зевнул, опустил голову на подушку и сразу же заснул. Амор подумал было погладить его по голове – ласка, ставшая привычной за те часы, которые они провели бок о бок с Иге, но одно дело удовлетворенно оглядывать плоды своих трудов, и другое – будить сонного звереныша.
А в помещении установилась странная тишина. Не такая, как бывает, когда два десятка детей, уставших за день, спят как сурки, нисколько. Тех, кто не притворялся, Амор слышал: они всхлипывали, тяжело дышали, беспокойно ворочались; другие же – только притворялись спящими: застыв, ждали чего-то. Амор очень хотел надеяться, что они знали, кто он, и узнали его. Амор опустился на корточки у соседней кровати. И – мальчик тут же открыл глаза.
– Не спишь? – шепотом спросил Амор.
– Дурные сны снятся, – пожаловался мальчик.
– А мы их прогоним, – бодро произнес Амор. – Повторяй за мной.
Он начал читать молитву – совсем простую, какую только мог сложить – и услышал даже не шепот, вздох с соседней кровати. Он нарисовал крест прямо на лбу мальчика, подошел к другой кровати – как по команде, лежавший на ней тут же открыл глаза. Амор еще раз повторил последнююю фразу – благословляющую формулу – и осторожно коснулся лба; глаза под ним закрылись, когда он убрал палец, снова открылись.
– Спокойной ночи, – тихо прошептал Амор.
И ему шепотом в ответ:
– Спокойной ночи.
Он вышел к медпосту, у которого уже стояла медсестра, поджидая его. Она сказала:
– Я нашим умным докторам скажу, чтобы они вместо снотворного прописали этим оглоедам молитвы с вами, отец священник.
Амор не удержался – улыбнулся.
– Зачем прописывать сахарные пилюли, сестра Далила?
Она неодобрительно цыкнула и покачала головой. Ткнув пальцем в сторону палаты с Иге, она сказала:
– Я вам вот что скажу, отец священник, я тут три года. Я наблюдаю за ними по мониторам, и я кое-что знаю о том, как они спят. Мне достаточно три секунды посмотреть за ними, чтобы знать, когда у кого начнутся кошмары, и мне иногда кажется, что я скажу, какие это будут кошмары. Я сама была в таком лагере, как пациентка, отец священник, такая женщина, как доктор Илария, – сестра Далила ткнула пальцем в сторону административного корпуса, – убедила меня остаться с ними и учиться медделу. Я понимаю их, отец священник, слишком хорошо. И я вам скажу: те, рядом с кем вы посидели, они долго будут спать спокойно. Ничего это не сахарная пилюля!
Амор закатил глаза.
– Я сейчас отращу крылья и вознесусь на небо, – посмеиваясь, ехидно заметил он. Медсестра только уничижительно фыркнула в ответ. Амор подумал и веселья ради нарисовал крест на ее лбу, не на груди. Сестра Далила – закрыла глаза и радостно сморщилась.
– Вот теперь и я буду долго хорошо спать, – расплылась она в улыбке.
Выйдя, Амор опустился на лавку. Подставил небу лицо, закрыл глаза. Было бы солнце, эта поза имела бы куда больше значения, особенно где-нибудь далеко на севере, где солнце по-прежнему было штучным товаром. Амор пытался вспомнить те времена, когда он жил в умеренных широтах – и даже вынужденно носил куртки. Он совсем не помнил себя в том пылком юношеском возрасте. Помнится, был чем-то увлечен, где-то участвовал, с кем-то встречался, как-то представлял свою жизнь, но что именно – не помнил совершенно. Тогда-то ему казалось бесконечно важным точно представлять себя-покорителя, себя-завоевателя, верить в то, что будущее будет именно таким. Обычные юношеские представления, уже тогда мало чего общего имевшие с жизнью. Помнится, он представлял себе все это, благо не самый глупый человек и вооображением тоже не обделен, а сердце отказывалось участвовать, дремало себе; на восторги или негодования окружающих, достигавшие небес, реагировало эмоцией, примерно соответствовавшей ленивому, самую малость недоуменному пожатию плеч: мол, сходят с ума – ну и ладно.
А небо светлело – краем глаза Амор замечал его пурпурный оттенок на полпути к восходу, воистину императорский, настолько же безразличный к нуждам простых людей, но куда более величественный. Амору пришлось и вздрогнуть от неожиданно близко прозвучавших выстрелов. Он прислушался: зашумели дроны, выехали машины туда, откуда принесло хлопки. Еще машины – подъехал конвой, скорее всего с провизией и медикаментами. Воздух начал светлеть, и поблекли все краски ночи, кругом все посерело, словно кто-то пеплом все посыпал. Тело ощущалось уставшим, глаза – так точно, голова – тяжелой, и при этом не было сна, хотя называть такое состояние бодрым – лгать. Амор наклонился вперед, посидел минуту, собираясь с силами, и встал. Он хотел заглянуть к Эше. Что-то в груди гнало его к Эше. Что-то в душе тянулось к Эше.
В шесть утра в бараке с особо тяжелыми было все еще тихо. Амор заглянул к дежурным, спросил, как дела у них. Врачи попытались рассказать о больных, Амор выслушал – и еще раз спросил: так как дела?
– Так вы уже насовсем к нам, отец Даг? – полюбопытствовал медбрат помоложе. – Мы слышали, кто-то где-то еще утвердить должен. Или это формальность?
– А до тех пор мне нельзя задавать такие вопросы? – усмехнулся Амор.
Его в три голоса начали убеждать, что не просто можно – нужно. «Понимаете, – говорил один, – те, которые до вас, они больше с начальством ходили, ну все эти штуки, вроде служб, бесед один на один, знамо дело, с детьми возились, мы как-то обходились». «Не то чтобы мы жалуемся, отец Даг, – вторил другой, – но, конечно, им тяжело и все такое. Но и нам тоже несладко. Оно и матбаза хороша, и доктор Декрит следит, чтобы мы самое передовое получали, но и природа не отстает». «Тут неподалеку новую лихорадку открыли, слышали, отец Даг? – подхватывал третий. – Симптомы похожи, а вирус со-о-овсем другой. Лечили от одного, а умирали от отказа со-о-овсем других органов, вот так-то. И для нас это тоже стресс».
Амору сделали кофе, рассказали о том, что еще пара недель – и здравствуй, Лагос, Ниншаса, Йоханнесбург, здравствуйте, океанские пляжи и бесконечные торговые ряды. О том, что отпуск подгадали как раз к выпускным экзаменам в высшей школе, к юбилею родителей, еще к чему-то. О том, что охрана, особенно та, которая близко приятельствует не только с полицией, но и с лигейскими солдатами, требует все больше средств на оружие – не к добру. О том, что специалисты по этой самой проклятой безопасности все серьезней задумываются, чтобы перемещать лагерь в место, которое, предположительно, останется безопасным еще хотя бы года три.
– На юг, естественно, – предположил один, – там, говорят, очень сильно гоняют всяких мародеров.
– На севере их вообще нет, – возразил второй.
– На севере тысячи гектаров, на которых температура не опускается ниже семидесяти градусов, где бы мародеры выжили.
– Выживут, – пренебрежительно отозвался первый. – Эти – выживут. Они как вирусы, как рачки – под любой камешек спрячутся, затаятся. А потом ка-а-ак выпрыгнут!
И первый тянул руки к горлу второго, и тот смеялся, и третий осуждающе качал головой, но тоже улыбался.
– Да оно и это место было выбрано как компромисс, – успокоившись, привычно скользнув по всем мониторам, продолжали они разговор – подхватывая полуфразы, перебивая друг друга, обмениваясь многозначительно поднятыми бровями, полуулыбками, выпяченными или поджатыми губами – то, что было знакомо друг другу, о значении чего посторонний мог только догадываться. – Чуть на север – и нужны тенты. Чуть на юг – и привет Тонарогским рудникам. Ну ладно, они были тонарогскими. Лучше бы оставались, отец Амор, потому что их национализировали, а после госпереворота лигейцы освобождали людей с тех рудников.
И они замолчали, переглянулись, неожиданно серьезные, опустили головы.
– Я бывал на похожих, – негромко сказал Амор. – Руководство изображало заботу о душевном здоровье работников. Привозило меня. Приказывало проводить службы, произносить молитву за здравие начальства. И даже выпускало обратно.
– Даже так?
– Удивительно, что мне не завязывали глаза, – усмехнулся Амор.
– Удивительно, что вас оставляли в живых.
– Так а кто бы потом заботился о душевном благополучии рабов, если бы единственный священник на сотни километров мумифицировался на полпути между Никуда и Нигде? – тут же подхватил второй.
– Ага. Это проще, чем заботиться об их желудках, – прошипел третий.
– Лицемерные ублюдки…
– Они же приходят на воскресные службы, садятся в первых рядах и даже руки воздевают выше всех!
Амор тяжело вздохнул.
– И я стоял перед ними, – печально признался он. Про себя добавил: лицемерно прикрываясь самыми разными причинами, чтобы не отказываться.
– А что бы вы сделали? – мягко возразили ему.
Амор пожал плечами.
– Все-таки здорово, что вы теперь с нами, отец Даг. – Убежденно говорили ему.
Амор предпочитал не соглашаться и не возражать.
Один, посмотрев на монитор, подхватился и выбежал. Проверив показатели, вышел, пусть и не спеша, другой. Амор натянул робу и пошел к Эше.
Мальчик не спал. Возможно, он не спал уже давно. Амор пожелал ему доброго утра и нарисовал крестик в воздухе над его сердцем. Эше закрыл глаза. Амор опустился на стул рядом с его кроватью, положил руки на перила, опустил на них голову.
========== Часть 30 ==========
Эше был упрям. Очень. Он был решительно настроен на то, чтобы полностью бойкотировать внешний мир – молчал, не отвечал на вопросы, шутки, простые фразы, рассчитанные на то, чтобы на них отзывались хотя бы безыскусным «угу» – но отзывались. Он упрямо держал глаза закрытыми либо смотрел в потолок, мимо людей, искренне старавшихся разговорить его. Иными словами, Эше объявил бойкот самому мирозданию. Когда Амор попытался заговорить с ним утром, Эше закрыл глаза и отвернулся. Когда врач на утреннем обходе спрашивал, как у него дела, он молчал, упрямо сжав губы; врач легко погладил его по руке – Эше отдернул ее, словно обжегшись, и сжал кулаки. Психолог, заглянувший к нему, не удостоился никакого знака, что его заметили.
Амор вышел вслед за ним, непонятно на что рассчитывая. Но врач отошел чуть подальше, остановился, стянул маску и перчатки.
– Тяжелый случай, – невесело усмехнувшись, признал он.
– Насколько? – поинтересовался Амор.
В ответ врач пожал плечами.
– Пока не безнадежный. До коллапса далековато. Но с этими экземплярами непросто.
Врач посмотрел на свои ладони, помолчал, вздохнул. Отвернувшись от Амора, признался:
– Ты думаешь, что разобрался в них достаточно, чтобы оказать действенную помощь, а оказывается, что их душа – черный омут, в котором ни системности, ни структурности, ни учебниковой упорядоченности. Особенно хорошо это понимаешь, когда ребята-дежурные их реанимируют. И самое трудное – убедить себя, что это не ты потерпел неудачу. С тем другим парнишкой работать будет проще. Ему найти хорошего приятеля – и полдела сделано. Он гибкий. Этот, видно, совсем из иного теста сделан.
Амор задумчиво покивал головой.
– Не понимаете? – продолжил доктор. – Я учился в Европе. Работал в Европе. Защищался в Европе. Я вырос и сформировался как личность в Европе. А прославиться решил в Африке. Тем более меня всегда интересовало, как люди ведут себя, оказываясь в критических ситуациях, и тут – вселенский простор для деятельности. И как человек с устойчивым европейским менталитетом, изучающий не-европейцев, я признаю: я терплю неудачи куда чаще, чем наоборот. А вообще, я рад, что у нас наконец объявился постоянный священник, причем из местных.
– Я тоже рос и учился в Европе, – усмехнулся Амор.
– Бросьте, – поморщился врач. – Давайте-ка я вас кофе угощу. Времени немного есть, мой первый пациент заявится через сорок минут. Точней, – озорно прищурился он, – если по расписанию, он должен быть у меня уже через двадцать минут. Ха, восемнадцать, – усмехнулся врач, посмотрев на часы. – Но если он явится хотя бы через сорок, будет замечательно. А если все-таки будет пунктуальным, так мы попьем кофе втроем. Это добавит мне очень много авторитета – я располагаю приятельством священника.
Амор согласился: ему было интересней поближе узнать местного психолога, узнать, чем могла быть вызвана его болтливость, возможно, заручиться его поддержкой – он и такой возможности не отрицал. И очень хотелось обсудить со знающим человеком, как лучше всего действовать с Эше. Кажется, те несколько суток, которые Амор тащил мальчика на себе, защищал от смерти – других беженцев – сам трусливо использовал его, чтобы заставить себя идти вперед, – они привязали его к мальчику куда надежней, чем самая прочная цепь.