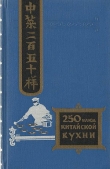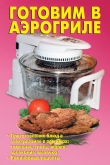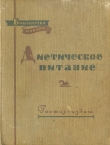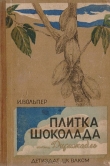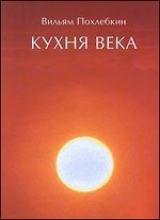
Текст книги "Кухня века"
Автор книги: Вильям Похлебкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 87 страниц)
Питание офицеров
Вначале возникла, казалось бы, совсем маленькая, даже, можно сказать, вроде бы смехотворная проблема, если смотреть на нее с позиций сегодняшнего дня, нашими глазами конца XX в., а не его начала. Это – проблема питания офицеров.
Хотя новый устав о всеобщей воинской повинности был введен с 1874 г., но практически до окончания русско-турецкой войны 1877—1878 гг., этой последней для русской армии войны XIX в., в армейском быту ничего не менялось. Была обычная русская раскачка: распоряжения, принятые на бумаге и в штабах, до мелких подразделений и гарнизонов не доходили, их не затрагивали. И все же к началу XX в. за четверть века прошло восемь новых призывов, и к 1900 г. старая армия, ее состав, ее люди сильно изменились.
Вот тогда-то и обнаружилось, что всюду почти на всех солдатских «должностях» не осталось прежних старослужащих, проводивших в армии всю жизнь, а есть лишь новички, пришедшие в армию временно. Это обстоятельство... затронуло благополучие офицерства.
Каким образом? А вот каким: в царской армии любой офицер обязательно имел денщика, дарового слугу, лакея, вроде дворового у дворянина-помещика. С той только разницей, что кормили, содержали этого слугу не сами офицеры, а государство, армия, поскольку денщик был солдатом. Эта система была очень удобна для офицерства. Денщик фактически обслуживал не только лично офицера, но и всю его семью, выполнял не свои военные, а холуйские и хозяйственные обязанности. Порой у старших офицеров бывало и по два-три денщика, замаскированных и скрытых в ведомостях под разными названиями: один денщик, один вестовой, один ординарец. Для армии это были «пустые души», «пустое место». В мирное время офицерство фактически растаскивало армию по человеку, разлагало холуйством и коррупцией, делало ее небоеспособной, поскольку чуть ли не четверть, а то и треть ее состава фактически не проходила строевой и боевой подготовки, находясь в обозах, в денщиках, в составе разных хозкоманд и т. п.
Новый устав 1874 г. требовал, чтобы весь личный состав армии, все, кто был призван в строй, проходили строевую, боевую и тактическую подготовку. Но одновременно начальство боялось обозлить офицеров и не отменяло институт денщиков. Противоречие это вначале не было заметно, поскольку его просто игнорировали. Но к началу XX в., оно, наконец, само собой вылезло наружу, потому что в армии изменилась ситуация: ушли или умерли «вечные денщики», а молодые призывники стали избегать холуйской должности, да и с точки зрения офицеров к ней не подходили, не были приспособлены.
Особенно эта неприспособленность проявилась в том, что новые денщики не могли готовить пищу для своих офицеров. Стирку белья и ремонт квартиры – происходящие не каждый день и не требующие личного участия офицера – еще можно было поручить кому-то на стороне, имея на это соответствующее казенное пособие. Но как быть с приготовлением обеда, завтрака, ужина? Да и вообще с любым застольем – будничным или праздничным, стационарным или походным, в котором главным потребителем был сам офицер, и которое для него было крайне важно со всех точек зрения – и насыщения, и экономии средств. Раньше офицер брал денщиком либо готового крепостного повара, либо обучал его, так как работать ему предстояло два десятилетия. Обычно квалификация денщиков была высокой. Это были совершенные профессионалы. При ежегодной смене новобранцев использование денщиков в качестве поваров уже просто технически не представлялось возможным. Ждать повара, пока его обучат за три-четыре месяца? А что делать в это время? Да и зачем обучать, если через полгода он все равно будет заменен другим? Офицеры явно загрустили. И не только загрустили, но и возроптали. А ропот в кадровом составе армии, даже армии плохой, никудышной – дело серьезное. И потому решено было принять меры.
Во-первых, успокоили офицерство тем, что присовокупили к уставам факультативный, но все же одобренный и изданный военным ведомством учебник-пособие для будущих денщиков, которые могут исполнять обязанности офицерского повара.
В самом начале 1900 г., в первые зимние месяцы, на прилавках книжных магазинов Петербурга и Москвы появилась неприметная, скромная серенькая книжечка «Денщик за повара» с подзаголовком «Поваренная книга для военных». От поваренных книг того времени она отличалась только тем, что была несравненно тоньше их. Почти брошюра. При беглом перелистывании в ней не заметно было абсолютно ничего оригинального, необычного: те же самые картинки разделки туш быков, овец, свиней, что и в любой поваренной книге того времени, та же разбивка рецептов на первые, вторые и третьи блюда, тот же привычный состав меню: щи, борщи, жаркое, куры, котлеты, отварная и жареная рыба, кисели да компоты.
Единственное, что бросалось в глаза опытному книжнику, так это марка издательства, вовсе не предназначенного для выпуска поваренных книг. «Издал В. Березовский» – значилось гордо на титульном листе. Так обозначались лишь книги, посвященные военной тематике, и прежде всего истории войн, которые Россия вела от Петра I до современности. В. Березовский был фактически монополистом по изданию всех военных наставлений, учебников для военных училищ и кадетских корпусов, был официальным издателем военного министерства, военных академий, Генштаба Русской армии, полномочным и привилегированным издателем военной литературы в России. Издавал В. Березовский добротно, на хорошей прочной бумаге, печатались у него видные генералы, адмиралы, придворные высшие чины.
И вдруг – тоненькая поваренная книжка, да еще написанная не военным поваром – мужчиной, а какой-то женщиной – Марией Плешковой, вроде бы не известной в чисто поварской, ресторанно-кулинарно-гастрономической среде. В предисловии к пособию М. Б. Плешковой говорилось, что в армию теперь, по новому призыву, поступит впервые много молодых солдат, знающих грамоту, прошедших трехклассное церковно-приходское деревенское училище. Для их-то понимания и приспособлен настоящий поварской учебник, где, не мудрствуя лукаво, дано несколько десятков блюд, которые денщик должен освоить, чтобы накормить своего хозяина-офицера. Так что офицер может быть спокоен и с новым составом солдат: денщик его не оставит, волноваться не надо.
Во-вторых, понимая, какой эфемерной мерой могло быть «успокоение» в виде книжки Марии Плешковой, военное министерство приняло решение подвергнуть вообще некоторой ревизии систему снабжения и организации довольствия войск применительно к новому, наступающему XX столетию, ликвидировав кое-что из архаичных черт. Но трогать особенно эту деликатную сферу признавалось невозможным не только в русской армии, но и в европейских. Здесь многое архаичное и неудобное покоилось и основывалось исключительно на традициях, причем весьма давних.
Например, лишить офицера возможности по своему личному вкусу определять не только свой кошт целиком, но и ежедневное меню, и заставить офицеров питаться в общей офицерской столовой – одинаковыми для всех блюдами – представлялось еще в 1900—1903 гг. абсолютно фантастическим, невозможным. Даже солдаты, и те питались по ротам и эскадронам отдельно, по своим собственным меню, не похожим (в данный день!) на меню соседнего эскадрона или роты.
Во французской армии невозможно было заставить питаться по столовско-казарменному методу даже и простых солдат, которые предпочитали, получив продукты сухим пайком, каждый приготавливать себе еду из полученного набора продуктов по-своему, в своих комбинациях и сочетаниях. Вот почему во Франции солдатские полевые кухни не появлялись вплоть до первой мировой войны и были присланы во Францию не кем-нибудь, а русским военным командованием, разработавшим к 1911 г. походные полевые кухни для русской армии.
Первыми в Европе перешли на организованное массовое столовское довольствие солдаты и офицеры германской армии, где также были созданы и первые в Европе военные походные полевые кухни, могущие работать в условиях боевых действий.
Вопросы питания армии оказались тесно связанными с историческими традициями и привычками, тянувшими назад, были не отделимы от проблем общей культуры нации, от вопросов элементарной дисциплины и весьма тесно и нерасторжимо зависели от социального состава армии и его особенностей в начале XX в.
Таким образом, «кухонный вопрос» в армии, для тех, кто понимал его истинное военное, политическое и социальное значение, представлялся достаточно серьезным и актуальным. В то же время большинство – и армейское, и генеральское, и в дворцовом, и в царском окружении – совершенно не считалось с необходимостью поспешить с таким «несложным» делом.
Так получилось, что «первый звонок», прозвучавший вполне своевременно, в самом начале XX в., не послужил поистине сильным тревожным сигналом, и книжечка Марии Плешковой осталась единственным и весьма наивным ответом на этот звонок. Да и обеспокоены ведь были не питанием солдата, а тем, чтобы не оставить офицера без дармового слуги на все руки.
Как питались на фронте в русско-японскую войну
Вторым звонком, напомнившим царизму о том, что в армии и на флоте из рук вон плохо поставлено дело организации питания всего личного состава и снабжение армии в условиях войны совершенно не отработано и просто развалено, была русско-японская война 1904—1905 гг.
Здесь многое не только обнаружилось наглядно (воровство, коррупция, взяточничество интендантов), но и приняло прямо-таки устрашающие формы, поскольку провал снабжения действующей армии как питанием, так и вооружением явился основной причиной позорного проигрыша этой войны. Полевых кухонь в русской армии тогда еще не было, горячую пищу войскам на позиции не подвозили, хлеб поставляли нерегулярно и, заставляя полуголодного, затырканного солдата самого добывать себе пищу в незнакомой стране, с неизвестными, непонятными пищевыми продуктами, окончательно запутывали и деморализовывали русскую армию, фактически своими собственными руками подготавливая и поражение, и, как реакцию на это поражение, – революцию.
Да что там солдаты! Даже офицеры Генштаба и офицеры иностранных армий, присланные в Маньчжурию на фронт в качестве наблюдателей, – небольшая по численности военная группа – не могли получить нормального снабжения. Все упиралось в общую неорганизованность, безответственность, в пренебрежение участников войны к своим элементарным гражданским обязанностям: взаимоподдержке, дисциплине, взаимовыручке и верности. Об антисанитарии, грязи, неряшливости в приготовлении еды говорить уже не приходится. Это было как бы нормальным явлением, с которым все свыклись и которого никто уже не замечал.
Неудивительно поэтому, что во время любой войны в русской армии умирали от холеры, дизентерии и других болезней вдвое-втрое больше, чем от прямых боевых действий. Так было и в Крымскую войну 1853—1856 гг., и в русско-польскую войну 1863—1864 гг., и в русско-турецкую войну 1877—1878 гг., и так повторилось в новом, XX веке, в русско-японскую войну 1904—1905 гг. Вот как описывает обстановку, в которой осуществлялось питание высших офицеров в Маньчжурии, граф А. А. Игнатьев (А. А. Игнатьев. 50 лет в строю), бывший в то время руководителем группы иностранных военных атташе при русской действующей армии.
«Лаоянский буфет был похож на все русские вокзальные буфеты: был он достаточно грязен, и в середине зала возвышалась стойка с водкой и закусками, у которой с самого утра и до позднего вечера толпились офицеры всех чинов и чиновники всех рангов. Пахло спиртом и щами, и все было окутано серым туманом табачного дыма, стоял гомон пьяных и трезвых голосов, вечно споривших и что-то старавшихся доказать друг другу. Вот сюда, четыре раза в день, „на питание“, приходилось водить мне военных атташе и, садясь спиной к водочной стойке, как бы заслонять от иностранцев неприглядную картину нашего пьяного тыла.
Общее раздражение моих коллег от плохого питания в дни сражений мне не нравилось, и я решил отделиться от общей офицерской штабной столовой.
У мукденского вокзала подобрал заброшенную чугунную плиту, собрал компанию на паях из нескольких генштабистов и после окончания служебного дня сам стал готовить обед.
Кухонному мастерству я обучился с детства, забегая к нашему домашнему (графскому) повару Александру Ивановичу Качалову, ученику знаменитого в свое время в Питере повара-китайца. Французская пословица говорит, что „искусству повара можно выучиться, но с искусством жарить – родятся“. Оказалось, что я, видимо, родился с этим искусством. Вскоре у меня появился помощник – наш бывший домашний поваренок – Антошка, оказавшийся солдатом 35-й пехотной дивизии. Столовая моя процветала и получила кличку „игнатьевской столовки“».
Разумеется, далеко не каждый офицер на фронтах Маньчжурии обладал возможностью организовать питание на достаточно удовлетворительном уровне, и притом небольшой группке привилегированных командиров, к тому же генштабистов, и это небольшое исключение лишь подчеркивало, в каком неблагоприятном положении находилась основная масса армейских офицеров, а тем более солдат, на передовых позициях. Там не было хлеба, не было кипятка, а пить сырую воду было строжайше запрещено из-за свирепствовавшего брюшного тифа.
Поскольку русское командование не смогло организовать своевременного подвоза продовольствия из Центральной России, пришлось обратиться к американцам и закупить у них мясные консервы. Однако американские торгаши, по примеру российских интендантов, решили нажиться на этой сделке и отправили на армейские склады консервы с просроченным сроком хранения, полагая, что русский Ванька и не то съест!
Вот почему, как замечал А. А. Игнатьев, «к американским знаменитым „бифам“ в жестяных банках с головой черного быка на красной этикетке, наводнившим весь Дальний Восток, офицеры-старожилы Приамурского военного округа советовали относиться с осторожностью: этот залежавшийся товар представлял собой смертельную опасность» [4]4
Скандал по поводу американской тушенки принял чуть ли не международный характер. Дело в том, что и в американской армии еще в конце XIX в. были отмечены случаи отравления чикагскими мясными консервами. Так, из 5462 человек, считавшихся погибшими во время испано-американской войны 1898 г., лишь 249 человек были непосредственно убиты на поле боя или умерли позднее от огнестрельных ранений. Остальные же – свыше 5200 человек – умерли от «желудочных болезней», то есть попросту отравились тушенкой. Поскольку жалобы на недоброкачественность американской продукции поступили не только от военного ведомства США, но и из ряда латиноамериканских и других иностранных государств, армии которых снабжались из США, то замять скандал «по-домашнему» не удалось, и в 1906 г. после долгих проволочек Конгресс США принял закон «О чистых продуктах», ужесточавший проверку пищевой продукции, идущей на экспорт.
[Закрыть].
Во время русско-японской войны спасением для русского солдата в Маньчжурии от болезней и голода явился китайский чай. Это было настолько очевидно, что значение чая признавали все – от солдат до генералов. И с этих пор чай, который выдавался по 1 грамму на человека (на 100 человек – сто граммов чая, пачка на одну заварку), занял почетное место в рационах русской армии, отнюдь не меньшее по своему престижу, чем чарка водки.
Неудачи с организацией снабжения фронтовых частей и соединений не научили ничему царскую армейскую администрацию: все было забыто, как только война закончилась. Второй кулинарный звонок прозвучал впустую.
Зато третий звонок – восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» из-за тухлой солонины в щах – был настолько громким, что отозвался в других корабельных и войсковых частях и слился с общим революционным подъемом рабочего класса в 1905 г., содействовав развертыванию первой русской революции 1905—1907 гг.
Тут уж нельзя было не заметить острейшей необходимости реформы снабжения и продовольственного обеспечения армии и флота. Но было уже поздно.
Речь шла уже не о кулинарных, а о серьезнейших социальных, и даже более того – социально-политических «поправках», о коренном пересмотре основ, на которых строилась отсталая, архаичная система обеспечения русской армии фуражом и питанием. Эта система снабжения была тесно связана с тактическими принципами, которыми руководствовалась русская армия в течение веков, а также с обычаями и привычками русского народа. Вследствие этого любая ломка, любое изменение прежних норм или положений тянули за собой комплекс соединенных с ними проблем. Чтобы понять, что предстояло ломать, ознакомимся вкратце с историей организации снабжения русской армии до XX в.
Организация снабжения русской армии до XX в.
На своей территории испокон веков русская армия обеспечивалась питанием за счет ресурсов местного населения. Тут все было просто и ясно: русские солдаты, бывшие крестьяне, продолжали и во время боевых действий есть привычную, домашнюю, крестьянскую пищу. Если же военные действия приходилось вести на территории противника, в чужестранных государствах, то проявлялось стойкое нежелание русского солдата питаться непривычной для него чужеземной пищей. Это вынуждало русскую армию возить с войском огромные обозы, которые не только делали ее неповоротливой и неманевренной, но часто являлись причиной ее поражения. Однако без обозов нельзя было обойтись. В них возили ржаную муку для ежедневного печения горячего черного хлеба, квашеную капусту, соленые огурцы и грибы, моченые антоновские яблоки, бруснику, клюкву, зерно для каш, лук и чеснок. Так было и в XV, и в XVI, и в XVII в. Особенностью этой пищи было то, что, оставаясь малокалорийной, она была в то же время насыщена витаминами, ферментами и, будучи постной, создавала тем не менее психологический и физиологический комфорт у воинов, что было особенно важно при неустроенном солдатском быте.
Если учесть также, что армия до XVIII в. снабжалась также и отечественным медом, то общий санитарно-профилактический уровень пищевого режима был в допетровской русской армии довольно высок, особенно по сравнению с тогдашними европейскими армиями (например, немецкая наемная пехота – ландскнехты), и поэтому смертность в русской армии от болезней до XVIII в. не отмечалась.
Но привыкшая к русской пище и снабжению отечественными продуктами питания русская армия была слишком тесно привязана к обозам, которые становились для нее тяжелой обузой при поражении и необходимости отступления. Отсюда нацеленность русского командования – всегда наступать и побеждать, чтобы, быстро достигнув военного успеха, поспешно уходить обратно в свою страну. Если этот военный успех тотчас же не закреплялся политически царской дипломатией в мирных договорах и соглашениях, то временный военный успех не приводил к выигрышу всей войны и нередко заканчивался – нелогично и спустя ряд лет – военно-политическим поражением, выраженным в территориальных или экономических уступках со стороны России. И в таком развитии, в подобном результате далеко не последнюю роль играло снабжение армии продовольствием. Ибо снабжать приходилось более чем 100-тысячные и даже 250—300-тысячные армии.
При Петре I снабжение армии обеспечивалось за счет тотального ограбления населения прилегающих к театру военных действий регионов. Это привело, как известно, к разграблению Польши, Литвы, Украины, Белоруссии, Молдавии во время петровских войн настолько, что эти территории в экономическом отношении стали отставать даже от России на 50—60 лет и смогли «отдышаться» лишь к началу XIX в.
После Петра I вернулись к централизованному снабжению русской армии – к обозам из Москвы. Тем более что сама солдатская масса к этому привыкла и этого требовала, хотя довольно пассивно.
Так, в 1737—1739 гг. немецкий военный эксперт при русской армии Кристоф Герман Манштейн, вступивший на русскую службу в войска под началом фельдмаршала Миниха и принявший участие в русско-турецкой войне, в своих подробных «Записках о России» сообщал, что одной из главных причин неудачи этого похода были затруднения со снабжением русской армии своим продовольствием, ибо обозы застряли в степях и не перешли за Перекоп вместе с войсками. «На всем же пути от Перекопа до Кеслова (Херсона Таврического) недоставало воды, ибо татары, убегая из селений, не только жгли всякие жизненные припасы, но и портили колодцы, бросая в них всякие нечистоты. Из того легко заключить можно, что войско весьма много претерпело и что болезни были очень частые. Наипаче же приводило воинов в слабость то, что они привыкли есть кислый ржаной хлеб, а тут должны были питаться пресным пшеничным». Не спасло положение и то, что после занятия Херсона и его гавани со стоящими там судами русские войска нашли там «сорочинского пшена и пшеницы столь много, что можно было составить запас гораздо для большего войска, нежели каково числом было российское».
Однако дело было не в наличии продовольствия, а в его составе: питаться рисом (сорочинское пшено) и пшеничным хлебом русские войска практически не могли – они не только не привыкли к этим продуктам, но и не владели навыками их приготовления. В результате чего рис, столь необходимый, вкусный и ценимый турками как непременный компонент для плова и издревле являвшийся во всей Азии – от Турции до Японии – главным азиатским хлебом, вызывал у русских солдат-крестьян лишь запор, пеллагру и в конце концов отвращение из-за... неприятного вкуса и приедаемости. Его просто не умели правильно готовить и разваривали в воде до состояния безвкусного вязкого клейстера. Приготовлению же его по-турецки препятствовали религиозные и национальные предрассудки.
Почти сто лет спустя, в 1829 г., А. С. Пушкин, путешествуя по следам наступавшей русской армии к Эрзеруму и не зная, разумеется, о записках Манштейна, невольно отметил то же самое обстоятельство, характерное, как он чувствовал, для русского человека. «На половине дороги, в армянской деревне, вместо обеда съел я проклятый чурек, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки, о котором так тужили турецкие пленники в Дарьяльском ущелье. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен». Вспоминая через несколько лет этот эпизод в другом месте и по другому поводу, Пушкин сообщал, что его друг граф Шереметев на вопрос о том, понравилась ли ему Франция, ее столица, отвечал: «Плохо, брат, жить в Париже, хлеба черного и то не допросишься!».
Так обстояло дело с хлебом – главной русской национальной едой и в низах и даже в самых изысканных верхах, которые, разумеется, не ограничивали себя одним хлебом, а могли позволить и иные гастрономические удовольствия.
И здесь тот же Пушкин уже не чувствовал ни вкусового неудобства от необычности пищевых сочетаний, ни национальной привязанности к привычной, традиционной русской пище, ибо речь шла о чужих мясных блюдах и об употреблении алкогольных напитков с этими блюдами. А в этом вопросе, то есть в употреблении алкоголя и мяса, как известно, мужчины всех рас и наций абсолютно космополитичны. «За обедом, – пишет Пушкин уже на следующий день! – запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским». С точки зрения нормальных гастрономических канонов даже XX в. это действие можно считать почти варварским, ибо жареное, а точнее грилированное баранье мясо, из которого только и может быть приготовлен настоящий кавказский шашлык, можно, положено и допустимо с точки зрения вкуса и элементарного ароматического соответствия запивать лишь красным сухим вином: бордосским, бургундским, карабахским, кахетинским, итальянским бароло или кьянти, молдавским раре нягру или каберне. Но только обязательно красным, виноградным. И уж никак не пивом, подходящим к вульгарным сосискам и колбасам, и не утонченным, легким шампанским, предназначенным либо для не связанных ни с какой едой тостов, либо, на худой конец, подходящим после сыра и фруктов, как завершение десерта!
Но если дворянско-буржуазная богема или слишком «раскованные» аристократы в гусарской своей лихости могли нарушать любые общепринятые традиции, в том числе наиболее естественные и укоренившиеся консервативные пищевые традиции, законы стола, то простолюдины, солдаты, бывшие крестьяне и ремесленники, никогда в своей жизни не испытывавшие «гастрономического развращения» и не имевшие ни средств, ни случаев проявлять «гастрономические вольности и эскапады», стойко придерживались национальных обычаев в питании как в течение всего XIX в., так и в начале XX в., когда разразилась русско-японская война.
Надо сказать, что в течение XIX в. положение с питанием в русской армии все более и более ухудшалось, причем эти ухудшения начались сразу после Отечественной войны 1812 г., а точнее с началом аракчеевщины, и особенно усилились в николаевское время, когда полностью были ликвидированы все былые остатки патриархальщины в русской армии.
При Николае I была введена строгая, голодная, солдатская раскладка, и практически в рационе солдат были оставлены лишь три продукта питания: капуста, горох и овес. В армии, где надо было служить четверть века, солдат, находясь на казарменном положении подобно заключенному в тюрьме, должен был питаться всего тремя видами супа: щами, гороховым и габер-супом, как официально был назван овсяный суп (искаженное немецкое Hafersupp). Этот рацион, дополненный тремя постоянными вторыми блюдами – ячневой или перловой кашей, гороховой кашей и изредка добавляемой к ним солониной, и составлял весь тот «богатый» ассортимент, путем различных сочетаний и перестановок которого исчерпывалось все солдатское меню.
Таким образом, к середине XIX в. произошло катастрофическое обеднение ассортимента продуктов солдатского питания, что, с одной стороны, вызывало высокую заболеваемость и смертность среди солдат, а с другой – понизило физическую силу и ослабило психику русского солдата, русского войска, которое стало терпеть поражение за поражением: в 1830—1831 гг. в польской войне, в 1849 г. в Венгрии, в 1854—1856 гг. в Крымской войне и в 1863—1864 гг. при подавлении польского восстания. И это в совокупности с психологической подавленностью солдат привело к середине XIX в. к деградации русской армии.
Итак, нормы питания в армии, питания, предназначенного для солдатской массы (ибо офицеры питались каждый исключительно в силу своего личного достатка и склонностей, на свои средства, получаемые в форме жалования, особых столовых денег [5]5
Столовые деньги до XX в. превышали жалованье у генералов почти втрое, а у средних офицеров (ротных, батальонных командиров) – вдвое. С 1899 г. жалованье средних офицеров было повышено втрое, и столовые деньги стали составлять после этого только их жалование. Такое положение сохранялось вплоть до первой мировой войны. Правда, с 1909 г. офицерам стали платить наряду с основными столовыми деньгами еще дополнительные столовые деньги в связи с дороговизной (инфляцией). Они составляли от трети до половины основных столовых.
[Закрыть]в зависимости от звания и должности и других доходов) были установлены еще при Петре I и пересматривались реже, чем менялась форма обмундирования – главная забота русских военачальников! – и еще реже, чем шел процесс оснащения армии новыми видами вооружения.
В 1720 г. был установлен для солдат штатный, неизменяемый десятилетиями столовый оклад – 75 коп. на соль и 72 коп. на мясо. Он выдавался рядовым вместе с жалованьем. Лишь в 1802 г. этот порядок был изменен – вместо фиксированной денежной суммы было определено, что в год солдат должен съедать 84 фунта (34 кг 40 г) говядины и 20 фунтов соли (8 кг 180 г), если он строевой, а нестроевой получал мяса ровно вдвое меньше – 42 фунта. В зависимости от цены на мясо в той или иной губернии и определялась денежная сумма выплаты на эти продукты, которая называлась провиантскими деньгами. Таким образом, рацион солдата включал около 3 кг мяса в месяц, или примерно 100 г в день. Соли же почти 23 г в день! Такой порядок сохранялся до 1857 г. – до конца бесславно проигранной Крымской войны, обнаружившей всю гнилость снабжения царской армии.
Вновь решено было перейти от норм продовольствия на фиксированный отпуск солдатам так называемых приварочных денег. Пусть сами добывают себе, что хотят! Остановились на том, что 3,5 копейки в день на питание солдата будет вполне достаточно, а нестроевой обойдется и 2,5 копейками. Однако жизнь быстро сломала эти расчеты.
Отмена крепостного права в 1861 г., создание капиталистического рынка в стране, которая органически к нему не была приспособлена, повлекли за собой хаотическое развитие цен. Они резко возросли в столицах и никак не могли подняться в глухой провинции: в стране сложились катастрофические «ножницы» в ценах между крупными городами и провинцией, что привело к разорению как крестьян, так и многих провинциальных помещиков-дворян и к укреплению нового подымающегося класса – купцов и кулаков-прасолов, скупщиков разорившихся хозяйств.
Армия, а точнее ее солдатская масса, оказалась в этих никем не предвиденных условиях в тяжелом положении.
С запозданием, но с поразительной «скоростью» для русских обычных условий, принципы довольствия армии были пересмотрены уже в 1871 г., к чему подтолкнули и внешние события – тотальный разгром хваленой французской армии прусскими солдатами Вильгельма I. Показательно, что ничего нового, отвечающего задачам наступившего исторического периода и диктуемого именно его спецификой, придумано не было. Ведь для этого надо было бы серьезно изучать и экономику капитализма, и особенности российского возникающего рынка, и, наконец, реальные потребности войск, рядовых солдат, учитывая их физическую и профессиональную нагрузку. А это было и сложно, и слишком ново, да и ужасно хлопотно. Поэтому поступили проще и, как оказалось, традиционно по-русски: увидев, что новая схема (1857 г.) совершенно не сработала, решили вернуться к совсем стародавней, петровской, памятуя, что в чем-чем, а в военном деле Петр I разбирался, да и победы всегда одерживал. Однако совершенно забыли при этом, что равнять-то XVIII век с веком XX никак нельзя, не говоря уже о том, что смотреть следует не назад, а вперед. А этого в России никогда не понимали, а вернее – отказывались понимать, упрямо твердя, что «учатся у истории».
Так вот, решили, как и в XVIII в., восстановить условное деление пищи, положенной солдатам, на провиант – обязательную, непременную еду – и приварок – еду как бы факультативную, без которой солдат в случае чего мог бы и обойтись. (Так полагал сам царь Петр I.) Обязательными для солдата, как считал царь, были хлеб и соль и, конечно, вода, в ту далекую пору еще немерянная и чистая, родниковая. Суточная доза (порция) хлеба составляла 2 фунта 25,5 золотника ржаной муки и 32 золотника крупы, обычно перловой. Этот провиант должен был выдаваться солдатам натурой, независимо от тех цен, которые складывались на эти товары на рынке, и от того, сколько за них фактически должна была платить казна. Солдатам же предоставлялось право складываться в артели и печь из полученной муки хлеб – подовый, пеклеванный – кто во что горазд. При этом вся разница в фактических ценах на муку и вся экономия, полученная на припеке от умелого использования муки, великодушно обращалась в пользу солдатской артели, а не высчитывалась, как при Петре I, обратно в пользу казны. Это был, конечно, верх, триумф самодержавного демократизма, на который пошел царизм в эпоху империализма, наступившую после франко-прусской войны. Кое-что, в виде настроений солдатской массы, царизм под давлением народовольческого террора все-таки учитывал. Правда, и тут не обошлось без чисто русского бюрократического крохоборства: 365 дней в году приравнивались в армии к 360 дням. И порция муки и крупы выдавалась на 360 дней, то есть
2 фунта 25,5 золотника × 360 = 720 фунтов 918 золотников,
или в современных мерах веса:
294 кг 480 г + 39 кг 162 г = 333 кг 642 г муки, или 913,6 г в день вместо 926,5 г, как надо было из расчета на день.