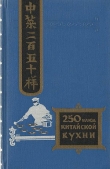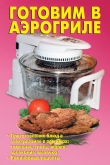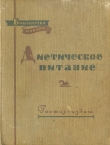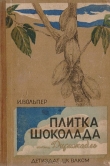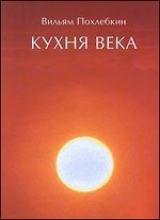
Текст книги "Кухня века"
Автор книги: Вильям Похлебкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 87 страниц)
Кулеш – блюдо не русской кухни, но встречающееся чаще всего в южнорусских областях, на границе России и Украины, на Белгородчине, в Воронежской области, в западных районах Ростовской области и Ставропольщины, а также в пограничных, смежных с Россией районах юго-восточной и восточной части украинских земель, то есть практически в Слободской Украине да кое-где на границе Черниговской и Брянской областей. Есть, однако, один довольно точный лингвистико-фонетический способ установления ареала распространения кулеша как блюда. Его приготавливает и ест в основном население, которое говорит на «перевертени», то есть на смеси украинского и русского языков, или на искаженном русском с некоторыми украинскими словами и с общим «гаканьем» всех слов. Настоящего же украинского языка эти люди практически не знают и даже не совсем его понимают.
Само слово «кулеш» – венгерского происхождения. Кёлеш (Koles) по-венгерски – просо, пшено. И пшенная крупа – основной компонент этого блюда, столь же непременный, как и свекла для борща.
Кулеш пришел, а вернее, лишь дошел до границ России, из Венгрии через Польшу и Украину. По-польски он называется кулеш (Kulesz), а по-украински – куліш. Поэтому в XIX в., когда слово «кулеш» впервые попало в русские словари, то как правильно пишется это слово – никто не знал. То писали кулеш через «е», то через «ять», так как существовало грамматическое правило, что во всех украинских словах, где буква «е» смягчается через «і», в русском языке следует писать «ять». Однако это относилось к словам, заимствованным из греческого и латинского языков, и к очень древним общеславянским, а слово «кулеш» было венгерским и новым для славянской речи. Вот почему его вплоть до революции 1917 г. писали и так и эдак: твердого правописания для него так и не успели установить. Все это косвенно повлияло на то, что кулеш не только как слово, но и как блюдо не был распространен в России.
Впервые это слово было зафиксировано в русском языке в 1629 г., что убедительно говорит о том, что его занесли в Россию либо польские интервенты эпохи Смутного времени, либо малороссийские крестьяне, пришедшие из Украины и Южной России с восставшими отрядами Ивана Болотникова. Кулеш как блюдо представлял собой кашицу, а каши, кашицы как простые, примитивные и быстроваркие блюда всегда и во всех странах составляли основной рацион армий. Ведь их можно было варить в котлах, на кострах, в полевых условиях, и именно эта технология обрекала кулеш на то, что он становился традиционным армейским, солдатским, непрезентабельным и дешевым блюдом, или, иначе говоря, блюдом войны и массовых народных движений.
В силу того, что каши как блюда примитивны и технология их приготовления состоит из варки той или иной крупы (зерна) в воде, то существует огромный риск получить однообразное, пресное, вязкое, невкусное и малопитательное блюдо, которое может вызывать крайне опасный эффект – быструю приедаемость и, как следствие, снижение боеспособности войск и их возмущение. Тем не менее отказаться от использования каш, в том числе и кулеша, ни одна армия не может, ибо только каши могут составлять стабильную, горячую пищу больших масс людей в полевых условиях. Что же делать в таком случае? Как найти выход из этого противоречия?
Выход был найден чисто кулинарный: зерновая основа, оставаясь на 90—95% неизменной, должна обогащаться такими компонентами, которые, не меняя технологии приготовления, способны существенно изменить вкусовую гамму, обмануть человеческое ощущение и тем самым сделать блюдо – кашу – не только приемлемым, но и вкусным, а возможно, даже и желанным. Все зависит от индивидуального искусства кашевара, от его кулинарного таланта и интуиции при сохранении стандартного состава этого дежурного армейского блюда, строго определенного интендантами и раскладкой.
В чем же состоит это искусство? Каким путем достигается вкусовой мираж каш, в том числе и кулеша?
Первое условие: внести сильный пряно-вкусовой компонент, способный изменить в корне пресный характер зерновой основы. Практически это означает, что надо включить прежде всего лук, и как можно больше, по крайней мере до предела экономической рентабельности.
Второе условие: к луку, по возможности и в силу таланта того или иного кашевара, можно добавить те пряно-вкусовые травы, которые можно сыскать под рукой и которые дополнят, оттенят, а не вступят в противоречие с луком. Это – петрушка, дудник (ангелика), любисток, иссоп, лук-порей, колба, черемша. Выбор, как видим, достаточно широк. И все эти травы, как правило, произрастают в диком или культурном состоянии на территории Украины и юга России.
Третье условие: чтобы снизить неприятную клейкость, вязкость и повысить пищевую ценность и питательность любой каши, необходимо внести жиры. Как известно, кашу маслом не испортишь. Поэтому в количественном отношении никаких рецептурных ограничений в данном случае не предусматривается. Но в кулеш вносят обычно не масло, а свиное сало – в любом виде: топленое, нутряное, соленое, копченое, фритюрное. Обычно делают шкварки из соленого сала и вносят их в почти готовый кулеш вместе с растопленной, жидкой частью сала, обязательно в горячем виде.
Четвертое условие: в кулеш можно добавить для еще большего вкусового разнообразия и небольшое количество мелко нарезанного обжаренного мяса или мясного фарша либо солонину. Эти добавки могут быть мизерны по весу, почти незаметны визуально, но они, как правило, влияют на изменение и обогащение вкуса кулеша. Чтобы разнообразить вкус кулеша, рекомендуется добавлять к пшену во время его варки либо мелко нарезанную кубиками картошку, либо картофельное пюре, приготовленное отдельно.
Неплохо добавлять и гороховую муку или разваренный, тертый горох. Эти добавки не должны превышать 10—15% от общей массы кулеша, чтобы придать ему лишь особый акцент, но не изменить его характерный пшенный вкус.
Если все эти разнообразные добавки совершаются в меру, с хорошим кулинарным тактом, то кулеш действительно можно превратить в весьма привлекательное и оригинальное по вкусу блюдо, особенно если приготовлять его изредка и к месту, то есть сообразуясь со временем года, погодой, настроением того, кому он предназначается. Кулеш особенно хорош зимой, ранней весной и сырой промозглой осенью, в дождливую ненастную погоду. Что же касается времени суток, то он лучше всего пригоден к завтраку, перед дальней дорогой или тяжелой работой. На ночь есть кулеш – тяжеловато.
Старушка, о которой вспоминал Оборин, все это, видимо, хорошо знала и учитывала. Оттого кулеш и остался в памяти солдата.
А теперь для тех, кто хотел бы повторить оборинский кулеш, помещаем, помимо вышеприведенных указаний, его рецепт.
Рецепт кулеша
Просо (пшено) считается малоценным зерном, и поэтому просяные (пшенные) каши требуют чрезвычайного внимания при их подготовке к варке, приготовлении и особенно при сдабривании.
Во время все этих трех основных операций необходима тщательность, внимательность и значительные затраты труда, противопоказаны – неряшливость и леность. Разумеется, старушка, которая готовила кулеш для Оборина и его друзей, обладала всеми необходимыми качествами в силу своего возраста, кухарочного стажа и той ответственности, которой обладали лишь люди довоенного времени.
Подготовка
Промыть пшено 5—7 раз в холодной воде до ее полной прозрачности, затем ошпарить кипятком, вновь промыть проточной холодной водой. Перебрать оставшиеся засорения.
Вскипятить воду, слегка подсолить.
Приготовление
Всыпать очищенную крупу в кипяток, варить на сильном огне в «большой воде» (вдвое-втрое превышающей объем крупы!) минут 15—20, внимательно следя, чтобы крупа не стала развариваться, а вода мутнеть, затем воду слить.
Слив первую воду, добавить немного кипятка, мелко нарезанный лук, немного мелко нарезанной моркови или тыквы (можно и любой овощ с нейтральным, пресным вкусом – брюкву, репу, кольраби) и варить (уваривать, разваривать) на умеренном огне до полного выкипания воды и разваривания зерна.
Затем добавить еще мелконарезанного лука, хорошо перемешать, влить полстакана на каждый стакан крупы вскипяченного горячего молока и продолжать уваривать крупу на умеренном огне, следя за тем, чтобы она не приставала к стенкам посуды, не пригорала, для этого все время мешать ложкой.
Когда каша достаточно разварится, а жидкость выкипит, добавить в кулеш нарезанное мелкими кубиками свиное сало или свиную грудинку (копченую) и продолжать уваривать и мешать на слабом огне, подсолив в процессе помешивания и несколько раз попробовав на вкус. Но взятой на пробу ложке кулеша надо дать остыть и пробовать не в горячем, а в теплом виде. Если вкус не будет удовлетворять, то можно добавить лавровый лист, петрушку, наконец, немного чеснока, и после этого дать кулешу постоять под крышкой минут 15, влив в него предварительно полстакана простокваши, и отодвинуть на край плиты либо закутать в ватник.
Едят кулеш с серым хлебом, то есть из отрубей или из пшеничной муки самого грубого помола.
Если сала нет, то в крайнем случае можно использовать подсолнечное масло, но только после его тщательного перекаливания и обжаривания в нем хотя бы небольшого количества (50—100 г) какой-нибудь жирной свиной колбасы. В этом случае кулеш получит и необходимую пропитку жиром, и запах свиного сала, столь характерный и необходимый для настоящего вкуса этого блюда.
Если все указанные условия соблюдены тщательно, то кулеш должен выйти очень вкусным и приятным, запоминающимся.
Продукты
Пшено – 1 стакан
3 луковицы
Молоко (и простокваша): 0,5—1 стакан
Жиры: 50—150 г сала или грудинки (корейки). Вариант – 0,25—0,5 стакана подсолнечного масла и 50—150 г любой колбасы
Лавровый лист, петрушка, морковь, чеснок (соответственно по одному корешку, листику, головке)
Кулеш можно варить и по-польски – на костном бульоне вместо воды. И добавлять в пшено картофель, а не корнеплоды. Важно при этом не забывать петрушку – корневую и листовую, сильно измельченную.
Бульон добавлять после предварительной варки каши в большой воде.
Картофель лучше отваривать отдельно и вводить в кашу в виде пюре. Остальное – так же.
Поляки называют кулеш крупником и делают его жиже украинского или южнорусского кулеша, причем варьируют его мясную часть как угодно: могут добавлять утиные, гусиные или куриные потроха (очень мелко нарезанные, отваренные вместе с бульоном), иногда грибы, сырые желтки (в картофельное пюре), вареные тертые желтки. Жиры тоже разнообразные: все, что есть, идет в крупник понемножку – одна-две ложки сметаны, ложка масла топленого, кусочек сала или колбасы (краковской или полтавской, домашней, жирной).
Словом, кулеш – блюдо отнюдь не с жесткой рецептурой, блюдо, открытое для кулинарной фантазии, блюдо, удобное для использования всех «отходов» или «излишков», «остатков» жиров, мяса, овощей, которые всегда можно утилизировать в кулеше с пользой, выгодой и с улучшением вкуса этого составного, комбинированного блюда.
Вот почему кулеш в основном было принято считать блюдом бедного люда, простолюдинов, и при наличии кулинарной фантазии и знании технологии можно превращать это простое блюдо в сытное и отличное по вкусу, запоминающееся кушанье.
А вот воспоминания генерала, члена Военного Совета Карельского фронта, секретаря республиканского ЦК ВКП(б) Карело-Финской ССР Г. Н. Куприянова [30]30
Куприянов Г. Н. От Баренцева моря до Ладоги. Л., 1972
[Закрыть]:
Калитки«Ранним утром 29 июня 1944 г. на половине пути между Суной и Шуей у ручья устроили привал. Солдаты вытащили из своих вещевых мешков сухари и консервы и с большим аппетитом ели. Я лег на траву вместе с группой солдат восьмой роты. Мне тоже захотелось есть, но адъютанты ничего с собой не захватили. Когда я спросил их, хотят ли они перекусить, все, виновато улыбнувшись, отвечали, что есть им совсем неохота.
Тогда сидевший рядом солдат протянул мне большой сухарь. За ним потянулись другие, предлагая попробовать именно их сухари. Я с удовольствием ел сухари, запивал их холодной ключевой водой. И казалось, что ничего более вкусного не едал в течение всей войны. Когда до Шуи оставалось 5—6 километров, нас догнала, наконец, моя машина, посланная из штаба фронта. На ней приехали также четыре корреспондента разных газет и оператор кинохроники.
Мой шофер Дима Макеев оказался догадливее адъютантов. Пока ждали переправы через Суну, он нашел в поселке кем-то брошенную, помятую алюминиевую кастрюлю, быстро исправил ее на обрубке бревна, затем добыл из запасов саперов несколько килограммов картошки и две буханки белого хлеба и сварил картошку с мясными консервами, которые всегда лежали у нас под сидением в виллисе как НЗ. Дима отменно накормил меня и корреспондентов.
Когда, наконец, наши войска вступили в освобожденную Шую, нас встретили у околицы местные жители, повылезавшие из землянок.
Вынесли несколько кувшинов молока и стопку карельских тоненьких пирожков, намазанных картофельным пюре с молоком и яйцами. По-местному они называются „калитками“. Есть нам уже не хотелось, но по стакану молока мы выпили с удовольствием и, чтобы не обидеть гостеприимных хозяев, попробовали калитки».
Калитки – это маленькие карельские пирожки из пресного теста из ржаной муки. Само название «калитки» – русское, но к калитке, воротам или дверям не имеющее никакого отношения. Оно возникло случайно, как звуковое искажение непонятного русским финского «калиттоа», «калитт».
Сами карелы называют их еще «рюпиттетю», что означает «морщинистые», «сборчатые», по виду их защипки, а «калиттоа» можно перевести как «намазанное», ибо начинку как бы намазывают на блинчик, или сканец, из которого делается пирожок.
Таким образом, название этих национальных пирожков связано с технологией изготовления, с их формой. А это говорит о древности калиток. Тот факт, что их приготавливают к тому же из пресного теста, указывает совершенно определенно, что они существовали у карел задолго до крещения Руси, то есть возникли, видимо, в IX в., а быть может и раньше.
Карелы сохранили это национальное блюдо в неприкосновенности в течение тысячелетия, несмотря на то, что уже с XII в. находились под сильным влиянием новгородцев, входили в государство Новгородской феодальной республики и научились от русских в XII в. печь также дрожжевые пироги по типу и подобию русских.
Однако, несмотря на седую древность, это изделие фактически до XX в. не выходило за национальные пределы Карелии, считаясь деревенским и невкусным, поскольку сведения о его составе, прямо скажем, гурманов не вдохновляли: пресное ржаное тесто с начинкой из перловки. Кроме того, после выпечки калитки становятся жесткими, как железо, и, чтобы их съесть, необходимо заново размачивать. Это никак не умещалось в сознании русских людей, привыкших, что пироги из печи – это мягкие, пышные, благоухающие, дразнящие запахом вкусной начинки, приятные и вкусные изделия, которые после печного огня уже ни в какой последующей обработке не нуждаются.
Вот почему до XX в. никто не разобрался кулинарно в этом изделии и не записал правильный, грамотный в кулинарном отношении рецепт калиток. Конечно, одно из препятствий – незнание карельского (финского) языка теми российскими кулинарами, которые еще в XIX в. проявляли интерес к различным региональным народным кухням России. Например, у Елены Молоховец среди огромного числа переделок и обработок украинских, еврейских, немецких, литовских, молдавских, грузинских, армянских и даже финских блюд, приспособленных к «русскому вкусу благородных господ», «калитки» ни в каком виде, даже намеком, не встречаются. Это говорит о том, что по крайней мере до 1910 г. в русской кулинарной и художественной литературе о калитках не имели никакого представления.
Вместе с тем у Даля, который знал, видимо, все слова, хотя и не все из них мог представить реально, к слову «калитка» дается только одно объяснение – дверка подле ворот или в заборе. А ниже помещено другое слово – «калитовка» (которого в природе не существует), объясненное как «четырехугольная шаньга, ватрушка, лепешка с кашей, наливашник», что действительно внешне, в общих чертах, напоминает калитки.
По-видимому, именно такие характеристики калиток в сочетании с неудачными попытками русских людей их воспроизвести самостоятельно, без знания особой национальной технологии, и закрыли на века дверь калиткам в поварской цивилизованный мир. Ибо пытаясь сделать калитки из ржаной муки с перловой кашей по рецепту ватрушек (дрожжевая выпечка) или шанег (совсем другое тесто!), не только нельзя получить представление об этом национальном карельском блюде, но и вообще невозможно создать никакого съедобного блюда!
Забегая вперед, скажу, что калитки, может быть, одним из первых в России оценил и даже полюбил один из крупнейших в истории нашей страны государственных деятелей, ничего не желающий понимать в кулинарии, причем не когда-нибудь, а в 1905 г. Но подробнее об этом там, где нам придется говорить о вкусах крупных исторических деятелей России в XX в.
А теперь приведем рецепт приготовления этого изделия в обработанном финскими городскими современными кулинарами виде.
Состав продуктов
Мука ржаная – 1 стакан. Соотношение ржаной и пшеничной муки может быть 1:1 или треть пшеничной по отношению к ржаной.
Мука пшеничная – 0,5 стакана
Простокваша (или кефир) – 1 стакан (замена: сметана с водой)
Молоко – 1 литр
Масло сливочное – 100 г
Яйца – 3—4 шт.
Крупа: перловая, ячневая или рис – 1 стакан (или картофель – 4—5 крупных клубней)
Соль – 1 ч. л.
Подготовка муки и теста
Можно использовать только одну ржаную муку – так национальнее. Однако мой личный экспериментальный опыт подсказал внести хотя бы треть пшеничной муки. Получается вкуснее. Муку двух видов надо тщательно, равномерно перемешать, добавив соль. Иными словами: вначале смешиваются все сухие, сыпучие порошкообразные компоненты.
Подготовка крупы
Крупа (любая из перечисленных) используется для основной начинки. Ее надо приготовить заранее, то есть начинка должна уже быть полностью готовой, когда решено сесть за изготовление пирожков. Национальная крупа для калиток – либо перловая, либо ячневая. Перловая очень вкусна, если она правильно сварена, но для этого она должна вариться по крайней мере 5—6 часов и особым способом, что для современного городского человека неприемлемо. Ячневая крупа не отваривается, а замачивается на 10—12 часов в простокваше с распущенным в ней топленым маслом (50—75 г). В результате она становится мягкой и кисловатой, что и придает калиткам настоящий национальный карельский вкус.
Предложение финских кулинаров: применять мягкие, приятные, «культурные» начинки из отварного риса.
На практике же в XX в. и в Карелии, и в Финляндии стали повсеместно применять для начинки «калиток» более дешевую, всюду распространенную картошку, делая из нее картофельное пюре и сдабривая его для улучшения вкуса сметаной, маслом и крутыми рубленными яйцами с луком. Точно такие же добавки придаются и рисовой начинке. Таким образом, начинка калиток может быть совершенно разной.
Приготовление теста
В глубокую миску налить простоквашу и, осторожно подсыпая к ней мучную смесь, составленную предварительно, замешивать тесто до нужной консистенции. Когда тесто приобретет такую консистенцию, что оно не будет прилипать к рукам, из него можно начать приготовление оболочки для пирожков – так называемые сканцы.
Приготовление «сканцев»
Первый способ: раскатать все тесто или его половину в один крупный лист, как это делается для домашней лапши, а затем, наложив на него блюдце (дном вверх) диаметром в 12—18 см, острием ножа вырезать блинчик – сканец (это финский способ). При этом все калитки получаются одинаковыми, ровными, красивыми.
Второй способ, как принято у карел: сделать из теста «колбаску» толщиной с сосиску или сардельку и отрезать от этой «колбаски» одинаковые кусочки, каждый из которых отдельно раскатать в сканец. Чтобы сканцы не сохли, их обычно складывают в стопку и накрывают большой кастрюлей, оберегая тесто от заветривания. Калитки из таких сканцев получаются разнокалиберные, корявые и именно поэтому носят подлинный народный оттенок, деревенский, самодельный, а не чинный городской.
Приготовление и выпечка «калиток»
Сканцы раскладываются рядышком, и в середину каждого из них кладутся одна-две ложки начинки, затем сканцы защипываются, но не наглухо. «Калитки» – открытые пирожки.
Два способа защипки:
1. Карельский. Края сканцев загибаются за четыре или семь углов, частично прикрывая начинку. Вот почему Даль назвал их «четырехугольными ватрушками».
2. Финский. Края сканцев с двух противоположных сторон вокруг начинки собираются в сборки. В результате получается открытый пирожок в виде эллипса, но с заостренными краями, ибо только на краях тесто защипывается наглухо. Открытая часть начинки смазывается сметаной с яйцом (желтком).
Выпекаются калитки на слабом или среднем огне в духовке в течение 10—15 минут. Их готовность станет заметна только по появлению золотистости начинки. Сами же калитки останутся такими же, они не увеличатся в объеме, не изменятся по цвету. На ощупь же они будут жесткими, как жесть.
Обработка калиток после выпечки
Вынутые из духовки горячие калитки быстро смазываются сливочным маслом, чем обильнее, тем лучше, и покрываются полотном.
Как едят калитки?
Кажется, вот странный вопрос? Неужели, чтобы съесть, тоже нужны правила? Вот именно. Если есть «калитки» не по правилам, они покажутся невкусными, а съеденные по всем правилам – станут для вас, быть может, самым любимым блюдом.
А едят их так. Все садятся вокруг стола, у каждого – пустая тарелка. На середине стола – глубокая миска или супница, в которую вливают по меньшей мере литр горячего молока, а затем складывают в это молоко намеченные для трапезы калитки. К молоку нередко прибавляют еще и 100 г сливочного масла. Из этой молочно-масляной смеси каждый (или хозяйка) вылавливает большой деревянной ложкой калитки, кладет себе на тарелку и ест.
Как? Финны режут калитки ножом, а затем едят ложкой с сопровождающим их молоком, кусочками. Карелы, конечно, едят руками, которые каждый раз вытирают о лежащие рядом салфетку или полотенце.
Калитки могут храниться двое суток, и каждый раз их нужно есть горячими, предварительно размочив в кипящей молочно-масляной смеси.
• • •
Армия по сравнению с тылом снабжалась неплохо, и нормы питания в Красной Армии были значительно выше норм в зарубежных армиях. Но и здесь существовали проблемы со снабжением, с разнообразием ассортимента и имелись разные категории «едоков», а главное, складывались для разных частей и фронтов различные, далеко не схожие ситуации в обеспечении продуктами.
Продовольственные нормы гвардейских частей и соединений, а также ударных армий были выше норм в других полевых частях, а особенно в тыловых гарнизонах, что было, разумеется, вполне справедливо. Кроме того, на практике эти нормы количественно или по объему всегда увеличивались, поскольку продукты получались согласно списочному составу части, а готовый горячий обед распределялся нередко после боя, в котором известная доля этого списочного состава неизменно исчезала (убитые, раненые, пленные, пропавшие без вести).
В то же время бывали и такие ситуации, когда по какой-то причине подвоз продуктов не мог быть осуществлен в срок. Тогда приходилось или временно сокращать рацион, или питаться за счет НЗ, всухомятку, или же вовсе голодать.
Правда, случаи настоящего голодания, по нескольку дней, случались лишь во время окружения тех или иных частей и соединений. И хотя таких случаев было не так уж много, но степень голода в окружении зимой была порой ужасной. В такую ситуацию попали, например, части Калининского фронта, совершившие в январе – феврале рейд за линию фронта в тыл немцев в Сычевский и Вяземский районы Смоленской области и отрезанные там немецкими карательными отрядами. Правда, наша авиация пыталась сбрасывать окруженным продовольствие, но обессиленные от голода люди не всегда могли его найти в глубоком снегу и не имели уже сил для организации мощного прорыва к своим, тем более что голодали не только они, но и их кони, часть которых пала еще до того, как их успели пристрелить на мясо.
Да, продовольственное снабжение армии имеет первостепенное значение, особенно во время войны, и тем более во время затяжной войны. Причем отнюдь не меньшее, чем снабжение армии вооружением и боеприпасами. Это понятно каждому: ведь не поевши – не много навоюешь! Однако менее известным фактом, а порой и вовсе неизвестным для подавляющего большинства людей, в том числе и для профессиональных военных, является то обстоятельство, что данные о продовольственном снабжении армии позволяют иногда иметь более достоверные сведения о ее фактической боевой мощи, чем все иные показатели. А подчас служат и единственным достоверным критерием фактической численности армии.
Хорошо известно, что, готовя нападение на СССР, Гитлер и его Генштаб заранее составили подробную и точную диспозицию всех вооруженных сил германской армии и армий сателлитов Германии, придвинутых для вторжения в СССР к советско-германской границе. Все было расписано не только до отдельного полка или роты, но и буквально до каждого солдата. Поэтому теперь историки знают совершенно точно, сколько и где, на каком участке напало немцев на нашу страну.
В то же время о численности советских войск, противостоявших в момент начала войны германским полчищам и встретившим первый удар, военные историки не имеют полной ясности. Ведь нападение было настолько неожиданным и сразу же все спутавшим, что определить задним числом, где, сколько и каких войск, вступивших в бои с врагом, имелось в тот момент в приграничных районах, было просто затруднительно. Ибо никто – ни штабы, ни местные гарнизонные власти – дислокацию и численность войск с нашей стороны заранее не зафиксировал. Вот почему, реконструируя обстановку по разным сохранившимся в военных архивах документам, историки – как советские, так и немецкие – за последние 50 лет приводили совершенно различные, мало схожие друг с другом цифровые данные. Ибо все они были подсчитаны по-разному. Так восстанавливалось примерное число частей и соединений, дислоцированных в полосе 150—170 км от государственной границы и делался расчет их средней численности. Собирались сведения Генштаба о плановой дислокации частей и соединений первого и второго эшелонов прикрытия, которые, однако, не всегда и не везде отвечали реальному положению, создавшемуся к лету 1941 г. в советских вооруженных силах, противостоящих Германии на западной границе. Наконец, сообщались данные о количестве призванных в первые дни войны и направленных в действующую армию.
Короче говоря, цифры получались самые разные: 2,7 млн человек, 2,9 млн, 3,4 млн и даже 5,3 млн.
Происходило это потому, что не только количество частей и соединений не всегда можно было точно установить, но и численность отдельных соединений в Красной Армии в период с апреля по июль 1941 г. была различной, так как именно в этот период армия подверглась реорганизации.
Единой численности дивизий еще не было установлено. Многие из них были сильно не доукомплектованы до штатов военного времени и насчитывали всего по 5,5—6,5 тыс. человек, в то время как по штату на 1 января 1941 г. они должны были иметь численность в 10 291 человек. Полностью укомплектованными считались, согласно постановлению в апреле 1941 г., дивизии в 12 000 человек. Но таких соединений к 22 июня было не так уж много. В то же время, с началом военных действий, то есть уже 23 июня 1941 г., был утвержден новый штатный состав дивизии военного времени в 14 976 человек, и все расчеты количества соединений в действующей армии и в резерве велись с этих пор, исходя из указанной численности людского состава.
Понятно, что при таком разнобое было совершенно неясно, сколько же бойцов и офицеров реально, в первые же недели войны дали ожесточенный отпор врагу и сколько были готово выступить им в поддержку. По штабным, бумажным, официальным данным сделать этот подсчет оказалось невозможным, даже спустя годы после окончания войны.
Единственно разумными и подлинно реальными данными о фактической численности войск, находившихся под ружьем на 22 июня 1941 г., оказались данные не оперативных служб Генштаба, а служб тыла, или иными словами – интендантских управлений. Они располагали реальными цифрами о том, сколько всего людей состояло на довольствии в вооруженных силах.
Так, согласно сводке Генштаба на 1 июня 1941 г., хлебные порции отпускались в этот момент на 9 638 000 человек. (Для сравнения: на 1 января 1941 г. – на 3 883 000 человек. Из них: в действующей армии – на 3 544 000 чел., в территориальных округах – на 5 562 000 чел., в Военно-Морском флоте – на 532 000 чел.)
Таким образом, 9,64 млн человек – это было то количество реальных ртов, которые предстояло кормить интендантам по крайней мере в ближайшие месяцы лета 1941 г. Это были уже не абстрактные цифры, а цифры, наполненные заботой, тревогой, необходимостью во что бы то ни стало доставить не только хлеб, но и все другое продуктовое довольствие почти 10-миллионной армии – в первую очередь, непременно! Это была суровая, болезненная и чувствительная для страны реальность!
Мы уже говорили выше, что продовольственные ресурсы страны между тем стремительно сокращались: к лету 1942 г. противником было захвачено 42% европейской, притом самой лучшей, сельскохозяйственной территории СССР. В то же время значительная часть населения с этой территории была эвакуирована в глубь страны, на Урал и в Среднюю Азию. Так что едоков на сократившейся территории прибавилось. Было ясно, что одних НЗ на военных складах и тех запасов, что в тяжелых условиях отсутствия рабочей силы и недостатка бензина для сельхозтехники могли произвести неоккупированные северные и восточные районы страны, было недостаточно.
Необходимо было искать какие-то новые, пусть небольшие, но дополнительные природные, местные и еще не использованные дотоле внутренние ресурсы. И они были найдены.
Пришлось обратиться к старой русской народной традиции, которая в 30-е годы стала отступать на задний план вследствие массированного наступления советских медиков, и особенно так называемых гигиенистов-эпидемиологов, «за культуру питания».
Эта «культура» состояла в том, что бездумно отвергался всякий народный «подножный корм», который веками выручал русского крестьянина и любого бедняка. «Гигиенисты» всячески отвращали людей от сбора даров леса: ягод, грибов, трав, корней, семян диких растений, орехов, то есть всего того, что на протяжении истории отличало русский национальный стол от европейского, а тем более – западноевропейского, ресторанного. От того, что составляло своеобразие и прелесть русского народного национального стола, в равной степени доступного и боярину, и крепостному смерду в XIII—XVII вв.