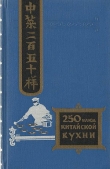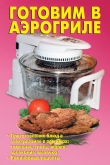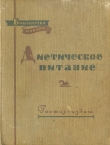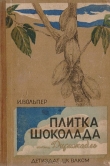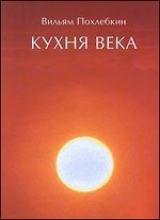
Текст книги "Кухня века"
Автор книги: Вильям Похлебкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 87 страниц)
Рационирование продуктов питания было введено по всей стране не с первого дня войны, а лишь тогда, когда стало окончательно ясно, что война примет тяжелый и затяжной характер. 18 июля 1941 г. Совнарком СССР принял решение ввести в Москве и Ленинграде, а также в крупных городах Московской и Ленинградской областей карточки на хлеб, мясо, жиры, сахар, соль как на основные базовые продтовары.
Спустя месяц, 20 августа 1941 г., нормированное снабжение хлебом, сахаром и кондитерскими изделиями было распространено в 200 крупных или значительных по своему промышленному характеру городах и рабочих поселках, чтобы гарантировать снабжение продовольствием в первую очередь занятого в промышленности населения.
Только с ноября 1941 г., в наиболее тяжелый для Красной Армии период, когда враг стоял уже в 20 км от ворот Москвы, рационированное снабжение было распространено на все населенные пункты страны, имеющие статус городов.
При этом продукты, подлежащие нормированию, строго устанавливались в зависимости от местности, от конкретного состояния снабжения данного района.
В 43 крупнейших промышленных центрах страны карточки были введены на хлеб, соль, мясо, рыбу, жиры, крупы, макароны и сахар, то есть на весь регистр базовых продуктов.
Но в ряде городов, удаленных от фронта и менее промышленных, карточки на мясо, жиры и крупу не вводились до конца 1941 г. Это не значит, что указанные продукты там продавались свободно. Нет. Но снабжение ими не шло через торговую сеть – они непосредственно распределялись на заводах и фабриках, расположенных в этих городах. Рабочие могли получать продукты по разовым талонам на заводе в отделах рабочего снабжения (ОРС) или использовать их в заводских бесплатных столовых.
Сельское население, не связанное с сельским хозяйством, снабжалось по карточкам только хлебом. А колхозники и совхозные рабочие, занятые непосредственно в земледелии и животноводстве, вообще карточек не получали, и их снабжение осуществлял колхоз или совхоз из своих собственных средств и запасов.
В тех же районах, где хлеб не сеяли и скот не разводили, а занимались исключительно техническими культурами, населению была предоставлена возможность приобретать все продовольственные базовые продукты – от хлеба до жиров – в своей потребкооперации, без карточек, но по определенным нормам, которые зависели исключительно от того, какое количество продукции технических культур вырастил или уже сдал тот или иной покупатель.
Таким образом, был продуман дифференцированный подход к каждой группе населения (городского или сельского), и отсюда – в зависимости от ее возможностей, а также от той пользы, которую данная группа населения приносила стране в военное время. Вот почему все население было разбито на 4 основные группы.
I. Рабочие и приравненные к ним ИТР, основные силы и кадры промышленности.
II. Служащие, то есть весь чиновный, аппаратный, писучий народ, не занятый физическим трудом, приносящим какой-нибудь реальный доход, а являющийся, так сказать, нахлебником государства, пользователем его бюджета. Естественно, что эта категория лиц получала меньшие нормы еды, чем промышленные рабочие.
III. Третьей группой были иждивенцы, неработающие члены семей рабочих и служащих – пенсионеры, увечные, больные с детства. Они получали норму продуктов почти вдвое меньшую, чем служащие.
IV. Наконец, в особую категорию были выделены дети до 12 лет, которые получали вдвое больше жиров, чем иждивенцы, а также большую долю сладостей – сахара и кондитерских изделий. Но с 13 лет они переходили в категорию иждивенцев, а с 14 лет имели право работать на любом производстве и в таком случае приравнивались к промышленным рабочим.
Месячные нормы продуктов по карточкам (в кг)
| I. Рабочие и ИТР | 2,2 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,5 |
| II. Служащие | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 1,5 | 1,2 |
| III. Иждивенцы | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 1,0 |
| IV. Дети до 12 лет | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,2 |
Ежедневные (суточные) нормы хлеба тем же категориям составляли: для рабочих от 1,2 кг до 800 г, для служащих – 400—450 г, для иждивенцев – 300 г и для детей – 400 г.
Таким образом, наиболее стандартная в довоенные годы молодая советская семья из папы-рабочего, мамы-служащей и двух ребятишек моложе 12 лет получала в месяц 4,6 кг мяса, 2,6 кг рыбы, 2 кг жиров и 5,9 кг крупы или макарон, чуть более 5 кг сахара, а также 2—2,4 кг хлеба в сутки.
Такой рацион, разумеется, предполагал какой-то дополнительный приварок, хотя бы в виде овощей и иных сезонных продуктов вроде молока, творога, яиц, трав, ягод, грибов и фруктов – этих «маленьких добавок» к базовому рациону, которые и составляют в совокупности основное отличие человеческого питания от кормления животных, а именно, определяют разницу между насыщением едой и удовольствием, удовлетворением, получаемым от еды.
Официально эти «маленькие добавки» никогда не упоминались, ибо почему-то считались «неважными», «не имеющими значения», либо «сантиментами» и, следовательно, несерьезными и даже «мещанскими», которыми не может заниматься серьезное, солидное государство. Этот аскетизм в пищевых воззрениях шел еще с тех времен, когда партия находилась в подполье. И уже в 30—40-е годы он был архаичен. И существовал только потому, что старшее поколение свыклось с ним и считало его нормальным.
Но фактически – в быту, да и на уровне низового производства, а также в армии – этим «мелочам» уделялось немалое внимание, и именно оно создавало общность интересов конкретного руководителя и его подчиненных, вызывало всеобщую симпатию и чувство надежности, защищенности.
Прежде всего, в промышленности в дополнение к карточным нормам продуктов рабочие и инженеры получали бесплатную горячую пищу, равно как и дети-школьники и беременные женщины и молодые матери.
С лета 1942 г. расширился и ассортимент продуктов, выдаваемых по детским карточкам, – он был дополнен молоком и яйцами. Хлеб по карточкам ежедневно получали в стране 39 млн человек.
Недостаток продуктов питания объяснялся во многом тем, что почти вся пищевая промышленность была сосредоточена в южных и юго-западных районах страны, а именно они оказались потерянными в первую очередь: из 10 400 предприятий Наркомпищепрома почти 5500 оказались в оккупированной зоне. Из строя вышли все сахарные заводы Украины, 61% спирто-водочных заводов всего СССР, а также 76% консервных, 55% маслосбойных, 60% кондитерских и даже 50% соляных, не говоря уже о 78% винодельческих и 76% пивоваренных, без продукции которых можно было и обойтись.
Новая же пищевая промышленность на востоке страны создавалась не сразу и во вторую очередь, ибо на первом месте стояли военные предприятия, эвакуированные с запада и восстанавливаемые спешно на новых местах в уральском регионе.
Ясно, что не только мощности пищевой промышленности резко сократились, но сократилось и пищевое сырье, также во многом сосредоточенное в южных районах Европейской части СССР.
И если бы не десятилетние запасы важнейших нескоропортящихся базовых продуктов – муки, круп, сахара, чая, соли, то положение со снабжением населения могло бы быть в несколько раз хуже, учитывая, что основная забота правительства состояла в том, чтобы накормить армию и рабочих оборонной промышленности, непосредственно ковавших победу над врагом.
Чтобы представить себе, насколько карточные нормы покоились на предварительных запасах, а не на том, что мог дать ежегодный урожай, приведем данные о резком снижении в 1941—1942 гг. производства пищевых продуктов в процентах по отношению к предвоенному 1940 г., принятому за 100%.
| Сахар-песок | 24% | 5% |
| Сахар-рафинад | 102% | 2% |
| Мясо (совхозное) | 78% | 48% |
| Рыба (годовой улов) | 91% | 69% |
| Масло животное | 91% | 49% |
| Масло растительное | 86% | 32% |
| Кондитерские изделия | 81% | 24% |
| Макаронные изделия | 90% | 73% |
| Мука | 85% | 54% |
| Крупа | 91% | 56% |
Из данных этой таблицы отчетливо видно, что производство таких базовых продуктов, как мука и крупа, сократилось в 1942 г. почти вдвое, а поступление сахара практически прекратилось. Тем не менее, благодаря именно государственным неприкосновенным запасам, нормы выдачи по карточкам были полностью сохранены, даже в самом тяжелом 1942 г.
В то же время скоропортящиеся продукты, запасов которых не было, по карточкам, например в феврале 1942 г., получить было невозможно. Так, рыба совершенно не выдавалась, мясо – только на 30%, а жиры – на 44%, что объяснялось существованием некоторых запасов подсолнечного масла, также способного к длительному хранению.
В качестве внегосударственного резерва продовольствия существовал еще колхозный рынок, где можно было покупать и «добавки», и базовые продукты. Однако цены на таких рынках поднялись до громадных размеров по сравнению с продолжавшими существовать государственными ценами на продукты карточной торговли. Разница в рыночных и государственных ценах видна из следующей таблицы.
| Мука | 80 руб. | 2 руб. 40 коп. |
| Говядина | 155 руб. | 10—12 руб. (в разных районах) |
| Масло сливочное | 578 руб. | 25 руб. |
| Масло растительное | 245 руб. | 13 руб. 50 коп. |
| Молоко (за 1 литр) | 44 руб. | 2 руб. 20 коп. |
Совершенно ясно, что приобретать товары на рынке по таким ценам могли в Советском Союзе очень и очень немногие. В первую очередь, представители привилегированной творческой интеллигенции: писатели, поэты, артисты, певцы, музыканты, ученые и художники – то есть те, кто числился либо служащим либо иждивенцем по своему формальному социальному положению, но обладал по крайней мере такими вещевыми ценностями, которые можно было заложить в ломбарде или обменять на рынке на продукты питания.
Вот почему основным источником пополнения пищевого сырья в годы войны были организованные на каждом предприятии ОРСы (отделы рабочего снабжения), которые взялись за создание при заводах и фабриках подсобных хозяйств, где выращивались картофель, овощи, откармливались свиньи, содержался крупный рогатый скот или птица – куры, гуси, индейки. Продукты этих вспомогательных сельскохозяйственных очагов, которыми управляла заводская администрация, распределялись среди рабочих и служащих данного предприятия по государственным ценам и отмечались в так называемых заборных книжках, существовавших в дополнение к государственным карточкам. ОРСы имели почти все наркоматы в стране – 45 союзных и союзно-республиканских. Менее чем за год своего существования, к осени 1942 г., то есть к первому урожаю, ОРСы произвели в подсобных хозяйствах 360 тыс. тонн картофеля, 400 тыс. тонн разных овощей, в основном лука, капусты, свеклы и моркови, 32 тыс. тонн мяса, 60 тыс. тонн рыбы, свыше 3 млн яиц, 108,3 тыс. тонн молока и даже 420 тонн меда.
Некоторым ОРСам крупнейших предприятий металлургии и машиностроения правительство отдавало целые совхозы. ОРСы обеспечивали ремонт сельхозтехники, бесплатную рабочую силу в случае авральных работ по севу или сбору урожая, а совхозы взамен поставляли свою продукцию исключительно своему родному предприятию, его рабочим, служащим, их семьям.
Так уже в 1942 г. была снята проблема нехватки сельхозпродуктов для рабочих тяжелой промышленности – главной в годы войны.
Кроме того, наряду с ОРСами при наркоматах и заводах широко использовались с 1942 г. индивидуальные и коллективные огороды, урожай с которых также стал важным подспорьем в пополнении рациона населения дешевыми и свежими продуктами. Так, огородный картофель в 1942 г. уже более чем на 38% покрывал потребности населения в этой культуре. Картофель в годы войны стал вторым хлебом советского народа.
Огороды давали не только дополнительно 300—450 кг овощей в год каждой рабочей семье, но и позволили существенно сократить перевозки в промышленных областях России, что высвободило вагонный парк для снабжения фронта боеприпасами, оружием и продовольствием. Так, только в Московской области в 1942 г. было высвобождено в результате прекращения подвоза овощей из провинции 10 000 вагонов, или 210 железнодорожных составов.
О продовольственном снабжении Карельского фронта(По сообщениям начальника продовольственного управления фронта полковника С. К. Колобовникова)
Значительная удаленность Карельского фронта от основных центров страны и транспортные затруднения в связи с этим – сказывались отрицательно на обеспечении войск фронта продовольствием и фуражом. Так, запланированный для фронта транспорт с продфуражом в течение января и февраля 1942 г. почти не поступал из-за недостатка паровозов и топлива. В марте поступил только 31% запланированных вагонов. Это создало трудности в обеспечении фронта некоторыми видами продуктов. На помощь пришли трудящиеся Карело-Финской ССР и Мурманской области, передавшие своим защитникам из своих скудных запасов, тем не менее, сотни тонн муки, крупы и овощей. В результате даже в этот тяжелый период питание войск было бесперебойным и высококалорийным.
Трудности были и в организации доставки горячей пищи на передний край. В частях не хватало походных кухонь, кипятильников и термосов. Пришлось изъять котлы для варки пищи, термосы и кухни на предприятиях Карелии и Заполярья, что в значительной мере облегчило положение.
В конце 1941 г. местными силами был спроектирован и изготовлен умельцами в мастерских Сумского Посада деревянный термос объемом до 10 литров, в котором плюсовая 26-градусная температура сохранялась при сильном морозе в течение трех часов. Такие термосы были пущены в массовое производство, и ими были снабжены все батальоны частей и соединений фронта.
Принятые меры позволили обеспечить горячей пищей войска, находившиеся на переднем крае, не менее двух раз в сутки. В 1943 г. питание было уже трехразовое, при этом обеды готовились из двух блюд. Чай доставлялся два раза в сутки.
Большое внимание уделялось и улучшению качества пищи, а также увеличению ее объема. В этих целях широко использовались дары природы (крапива, щавель, грибы, ягоды), а также ранняя зелень, свекольная ботва, водоросли, капустные листья. Особенно ценным для района Заполярья оказалось поступление с 1944 г. нового отечественного полуфабриката – овощных концентратов.
На фронте широко практиковалась заготовка овощей и корма для животных силами и средствами фронта. Для этого выделялись специальные команды, в основном из тыловых частей и учреждений. Сено, например, накашивалось каждой армией в Карелии и шести северных районах Ленинградской области на лучших сенокосных участках, выделенных фронту местными райсоветами.
Заготовка и отгрузка свежих овощей и картофеля производились также фронтовыми командами в соседних с фронтом Вологодской, Архангельской, Ивановской, Горьковской и Ярославской областях. С 1943 г. для максимального использования местных ресурсов и создания дополнительных продовольственных запасов в районах дислокации войск стали создаваться войсковые хозяйства, земли для которых отводились в 25-километровой зоне военных действий. Только в 1943 г. сельсоветы и колхозы Карелии передали войсковым хозяйствам 1929 га земельных угодий, 380 плугов, 250 борон, 200 культиваторов и другой сельхозтехники. Всего же фронтом в 1943 и 1944 гг. было организовано 241 хозяйство с земельными угодьями более 6 тыс. га. Здесь в основном выращивались картофель и капуста, а также другие виды овощей и зерновые, производился откорм свиней.
Войсковые подсобные хозяйства стали важным источником продовольственного снабжения войск. В 1943 г. фронтом от них было получено картофеля 6800 т, капусты и других овощей 1600 т, что составило в общей сложности 23 фронтовые сутодачи, а в 1944 г. эти показатели значительно выросли: хозяйствами на полях было собрано картофеля – 9728 т, капусты и других овощей – 3015 т, или 35 фронтовых сутодач. Иными словами, целый фронт в течение более месяца снабжался совершенно самостоятельно!
Источником дополнительного питания войск явились также рыба, которой были богаты местные водоемы, и продукты охоты – мясо диких оленей и других животных, а также птиц.
Всего за три года (с 1942 по 1944) фронтом было заготовлено: рыбы – 7582 т, зелени – 291 т, ягод – 1345 т, грибов – 1448 т, сена – 55 727 т, мха-ягеля 7649 т, картофеля – 16 528 т, овощей – 4615 т (в том числе капусты 2571 т), зерна – 3086 т, мяса дичи – 505 т.
Итого, средняя калорийность суточного рациона бойцов Карельского фронта уже в начале 1943 г. составила 3436 калорий, что соответствовало норме, установленной ГКО для боевых частей Советской Армии.
Глава 11. Еда в СССР после войны в период восстановления народного хозяйства. 1949—1954
Продснабжение и советский общепит в первые послевоенные годы
Первые послевоенные годы были, несомненно, своеобразным периодом в истории советской страны. Но, к сожалению, ни духовная обстановка того времени, ни новые черты бытовой жизни советских людей не нашли глубокого и серьезного отражения ни в советской художественной литературе, ни тем более в исторических исследованиях. Время, а с ним и люди, помнившие его, к концу века постепенно уходят. Современникам же было тогда невдомек анализировать своеобразие наступившего нового исторического периода, который все они считали временным, преходящим, промежуточным, не стоящим серьезного внимания со стороны литературы и тем более науки. Между тем время это было особенным и неповторимым. Все внимание писателей и историков со всей силой, со всей энергией, как чисто человеческой, так и творческой, было обращено в то время к прошедшей войне, к ее воздействию на души и судьбы людей. Это представлялось и значительным исторически, и самым главным.
Война не ушла из жизни общества сразу же после своего формального завершения, хотя прежде казалось, что это неизбежно произойдет, одним махом. Она продолжала пронизывать своим «постдыханием» все, с чем сталкивались люди в первые годы послевоенной жизни, как на официальном, так и на бытовом, житейском уровне. В этом и заключалась одна из характерных особенностей первых послевоенных лет, этого нового исторического этапа в жизни страны. Живая, текущая реальная жизнь выдвигала новые вопросы, ставила новые задачи, создавала новые общественные и бытовые коллизии и ситуации, но прошедшая война, с ее критериями и опытом, все еще глубоко укорененная в сознании и психологии народа, приходила в противоречие с этим «новым» и не уходила из сознания людей, оставляя глубокие шрамы в их душах, идеализируясь у одних и «мельчая» у других в соответствии с личным опытом каждого.
«Война была свирепа, но ясна!» – записал в своей записной книжке драматург Евгений Шварц в 1946—1947 гг., мысленно имея в виду, как антитезу, переживаемый период. «Война – время тяжелое, но чистое», – повторил он спустя год-полтора, в 1948—1949 гг., в еще более четкой форме ту же мысль. Теперь уже это отчетливо ощущали все, в том числе и те, кто не мог столь ясно формулировать свои мысли. В гражданской жизни миллионы демобилизованных воинов столкнулись с массой неприятных явлений, которыми они были оскорблены и шокированы: воровством, приспособленчеством, ложью, карьеризмом, завистью и хитростью, с общей неясностью, туманностью мотивов, поступков своих сослуживцев и сограждан.
То, что великий идейный стержень, сплачивавший и поддерживавший весь народ, всю страну, постепенно начинает подтачиваться усталостью, мелкими житейскими неурядицами и общей неустроенностью быта, первыми, несомненно, поняли руководящие партийно-правительственные круги, хорошо информированные об истинном положении общества.
Этот процесс был признан опасным, а потому и было принято решение остановить его как можно резче, чтобы сразу оборвать, прекратить его. Перед лицом новой грандиозной исторической задачи – скорейшего восстановления разрушенного войной хозяйства – стране требовались отнюдь не меньший энтузиазм и вера людей, чем для отражения вторгнувшегося врага.
Между тем мобилизовать силы уставших от четырех лет войны людей требовало немалых усилий. И в этой обстановке отсутствие морально-политического единства общества, распространение в нем сомнений, неверия в будущее, мелкого хихиканья по поводу общественных и бытовых недостатков представлялось совершенно недопустимым, опасным, носило подрывное значение для государства, особенно в складывающейся международной обстановке, направленной на политическую и особенно экономическую изоляцию Советской страны.
Вот почему уже 14 августа 1946 г. последовало постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», а затем аналогичные постановления «О репертуарах драматических театров» (26 августа 1946), «О кинофильме „Большая жизнь“» (4 сентября 1946 г.) и, наконец, «Об опере Мурадели „Великая дружба“» (10 февраля 1948 г.). Общая цель всех этих мероприятий состояла в том, чтобы резко заклеймить всякие проявления мелкобуржуазной идеологии, мелкобуржуазных идейных установок и устремлений, которые всегда служат теоретической и бытовой базой для возрождения капитализма. Речь шла, следовательно, не о «борьбе на литературном фронте», а о самой настоящей классовой борьбе, о серьезной политической, а точнее – внутриполитической акции, направленной против попыток размагнитить социалистическую решимость и непримиримость нового поколения строителей коммунизма.
То, что этот чисто политический и классово заостренный шаг был облечен в форму дискуссии о проблемах культуры и о роли деятелей культуры в советском обществе, объясняется рядом причин. Но то, что сама форма ослабила действенность содержания и классовая борьба велась под псевдонимом «литературной», было в известной степени – слабой стороной акции, и эта «ошибка» руководства партии объяснялась исключительно своеобразием исторического момента внутри страны и положением, сложившимся в послевоенных международных отношениях. Речь шла о борьбе за умы, за идейное сознание советского народа, и одно это делало ставку чрезвычайно высокой. Отсюда и резкость, и придание этим выступлениям государственной значимости – пальба велась из орудий самого крупного политического калибра. Большинство советских людей сути этой компании так и не поняли, а у других это вызвало сомнения и пошатнуло авторитет верхов. Между тем на кону стояли следующие серьезные проблемы экономическо-демографическо-политического и одновременно социально-психологического характера.
К концу войны армия Советского Союза насчитывала 11,5 миллионов человек, в основном холостых мужчин от 18 до 40 лет. Их демобилизация, которая была связана с немалыми экономическими, транспортными и психологическими проблемами, началась с 23 июня 1945 г. и проводилась в три этапа.
Первая очередь демобилизованных солдат состояла из 13 старших возрастов, вторая, стартовавшая 25 сентября 1945 г. после окончания войны с Японией, включала 10 последующих возрастов. Наконец, 20 марта 1946 г. была осуществлена третья очередь демобилизации, «подчищавшая» все «остатки». Всего к лету 1946 г. в стране оказалось 8,5 млн молодых демобилизованных мужчин, которых надо было обеспечить не только работой, но и достойным, никак не худшим, чем в армии, содержанием и, кроме того, не давая фактически отдохнуть, призвать к скоростному, напряженному труду по восстановлению разрушенного войной хозяйства.
Помимо демобилизованных воинов, к концу 1946 г. из-за границы были репатриированы 5,5 млн человек, в основном молодых женщин, которые были угнаны на фашистскую каторгу или оказались в плену в фашистских концентрационных лагерях. Эти люди, как правило, были сильно истощены, страдали теми или иными болезнями, а среди бывших воинов Красной Армии был немалый процент инвалидов. Все это требовало улучшенного продовольственного снабжения, а положение с продовольствием в стране было тяжелым: во время войны сельскохозяйственное производство ежегодно снижалось из-за нехватки рабочих рук и сельхозтехники в деревне.
За годы войны число работоспособных колхозников-мужчин сократилось в деревне с 18 млн человек (1941 г.) до 11,4 млн (1945 г.). При этом демобилизация 1945—1946 гг. не решила проблемы обеспечения рабочей силы именно деревни.
Во-первых, далеко не все призванные из села туда же и вернулись – многие были убиты, пропали без вести, стали инвалидами или же, приобретя какую-либо техническую специальность в армии (шофер, танкист, связист, техник), оставались работать в городах. Но и из тех, кто первоначально возвращался, оставались далеко не многие; так, примерно из каждых 15—20 человек, вернувшихся в 1946 г. в колхоз Скопинского района Рязанской области, оставались 1—2 человека, а остальные уже в 1947 г. уходили на разного рода отхожие промыслы в города.
Во-вторых, в 1946 г. разразилась жесточайшая засуха. Уже к весне 1946 г. (апрель – май) погибло 2,6 млн га озимых хлебов, а к лету – свыше 320 тыс. га посевов подсолнечника и даже почти 50 тыс. га посевов картофеля. Особенно пострадали от неурожая разоренные войной области – Новгородская, Псковская, Ленинградская, а также северные и нечерноземные области Европейской части СССР (Архангельская, Свердловская, Кировская, Костромская, Горьковская). Колхозники в этих регионах получали по 100—140 г хлеба или же вообще ничего не получали. Приходилось пускать на питание семенное зерно, что заранее обрекало на новый голодный год. Там, где решили беречь семенной фонд, приходилось питаться суррогатами – к 40% муки добавляли хвою, траву-кислицу, льняной жмых и т. п.
Поскольку разоренная войной Украина перестала играть роль житницы страны, а в Сибири погодные условия сложились лучше, то в октябре 1946 г. впервые за годы советской власти было принято решение перебросить излишки продовольствия (по сравнению с карточными нормами!) из Новосибирской, Омской, Тюменской, Кемеровской, Томской областей и из Алтайского и Красноярского краев для спасения от голода населения Европейской части СССР.
Одновременно в связи с тем, что острая нехватка хлеба в ряде мест вызвала подъем цен на хлеб на черном рынке, а также хищения и сокрытия зерна и муки, 27 июля 1946 г. было принято постановление «О мерах по обеспечению сохранности хлеба, недопущению его разбазаривания, хищения и порчи», а 25 октября 1946 г., когда был собран частично новый урожай, последовало постановление «Об обеспечении сохранности государственного хлеба».
Таким образом, продовольственное положение страны, несмотря на окончание войны, оставалось в 1945 и 1946 гг. крайне тяжелым. Поэтому не удивительно, что в 1945—1946 гг. продолжала сохраняться карточная система распределения продовольственных товаров, которая гарантировала строго фиксированные нормы продуктов всем трудящимся в городах. Так, на государственном снабжении хлебом к концу 1945 г. находились 80,6 млн человек, а к концу 1946 г., с учетом репатриантов, уже свыше 90 млн.
Несмотря на напряженное положение с продовольствием, правительство решило повысить размер карточной нормы хлеба детям до 15 лет, увеличив ее до 400 г, а детям, живущим в детдомах – до 500 г. Более того, некоторые категории трудящихся и учащиеся ВУЗов были переведены на снабжение по рабочим нормам, а нормы обеспечения рабочих хлебом были повышены. С этой целью уже в начале 1946 г. были произведены чрезвычайные закупки зерна за границей, на золото. Однако отказ бывших союзников после фултонской речи У. Черчилля в марте 1946 г. продавать нам зерно вновь обострил ситуацию с хлебом и крупами, самыми массовыми продуктами. Приходилось рассчитывать исключительно на увеличение собственного производства зерна в 1947—1948 гг.
В то же время государственные розничные цены на все виды продовольственных товаров сохранялись теми же, что и были с 1940 г. Хлеб, сахар, жиры, мясо, рыба, крупы, макаронные изделия вплоть до конца 1947 г. выдавались по карточкам в крупных городах регулярно, но в сельской местности, в небольших далеких городках, где жители имели собственные приусадебные участки, централизованное снабжение продовольствием давало частые сбои. В целом именно в первые три года после войны на особое улучшение продовольственного положения надеяться не приходилось.
Поскольку среди бывших фронтовиков была огромная тяга к образованию, правительство всемерно старалось поддержать их в этом, содействовать осуществлению этих стремлений. Такая позиция диктовалась как политическими, так и хозяйственными соображениями. Получить новый отряд стойкой, прошедшей войну, испытанной трудовой интеллигенции в ближайшем будущем было крайне важно, учитывая потери старых кадров в период войны. В то же время, с точки зрения развития экономики и технического перевооружения страны, не менее важно было восстановить кадры квалифицированных специалистов во всех отраслях хозяйства, также в значительной мере выбитые войной. Вот почему фронтовикам, приходящим на учебу в ВУЗы и техникумы, был предоставлен ряд льгот, в том числе и материальных. Правительство готово было нести еще в течение трех-четырех лет безвозмездные расходы, лишь бы получить в конце концов именно ту техническую и гуманитарную интеллигенцию, которой можно было доверять, на которую можно было надежно рассчитывать при развитии хозяйства и культуры страны в предстоящие послевоенные пятилетки. Именно смотря вперед, в будущее, советское правительство шло на то, чтобы у него «сидело на шее» еще несколько лет молодое, активное, многомиллионное население, не дающее немедленной отдачи.
И хотя потребность в здоровых молодых и сильных руках в стране была крайне велика, все же советское правительство дальновидно полагало, что светлые образованные головы в недалеком будущем понадобятся государству еще более.
Эта стратегия определяла и конкретную тактику. Все категории учащихся обеспечивались не только стипендиями, но и бесплатными талонами на трехразовое питание, помимо тех карточек на продовольственные товары, которые выдавались им по месту жительства.
Талоны на трехразовое питание, выдаваемые в учебных заведениях, были практически самой удобной формой получения еды, поскольку по ним выдавались не сырые продукты, а готовая, горячая пища, что учитывало специфику состава основных контингентов учащихся – как правило, молодых, холостых людей, преимущественно живущих в общежитиях, занятых целый день на занятиях, которые не могли из-за недостатка времени и отсутствия собственного хозяйства (инвентаря) и кулинарных навыков самостоятельно заняться приготовлением пищи. Однако хорошие и верные идеи, заложенные в это государственное мероприятие, как и в других аналогичных случаях, многое утрачивали при их конкретном осуществлении, что было вечным бичом советской системы, которая была не способна эффективно, квалифицированно контролировать местных, мелких, низовых исполнителей и не могла рассчитывать на глубокую сознательность и культуру населения.
Дело в том, что нормы трехразового питания, попадая на соответствующие ВУЗовские пищеблоки, произвольно уменьшались, хотя они и без того были меньше тех норм, что привыкли получать в своих частях фронтовики, особенно гвардейцы. Простое сравнение того, что выдавалось по стабильным, единым талонам на трехразовое питание в МГИМО, в МГУ и в Инязе или в любом другом ВУЗе столицы, приводило к заключению, что воруют у нас далеко не одинаково, не однообразно. Например, в ВИИЯКе практически совершенно не воровали, в МГИМО кухонные работники позволяли себе «брать», но не слишком много, – все-таки боялись увольнения, зато в МГУ практически не стеснялись, а где-нибудь в Станколитейном или Горном институте брали уже по-крупному, оставляя студентам рожки да ножки.