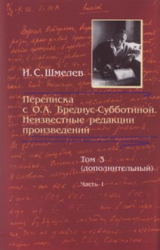
Текст книги "Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Том 3 (дополнительный). Часть 1"
Автор книги: Иван Шмелев
Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина
Жанры:
Эпистолярная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 59 страниц)
Я передал рассказ Сухова подробно, насколько мог. Олечка жадно слушала, перетягивая на себе платочек. Чудесные глаза ее были полузакрыты, в ресницах стояли слезы. Когда я кончил, она переспросила взволнованно: «так и сказал – „священный лик“?.. „как на иконах пишется… в _с_е_б_е_ сокрытый“..?! Ты слышишь, папа..? а я… я _ч_т_о_ сказала… _т_о_г_д_а..?!» Среднев пожал плечами: «ну… тождество восприятий! Бывают старцы и очень даже иконописные…» Олечка ни слова не сказала, отвернулась.
Я видел все же, что Среднев говорит наигранно, и не без раздражения, и понял по его тону, что он и не так уж равнодушен к «случаю», как хочет показать это: слушал он меня чрезвычайно вдумчиво. Заинтересованный «случаем», – может быть тут сказалась и профессиональная моя привычка, «следственная», – я попросил рассказать, как они получили крест. И вот, что мне рассказала Олечка, причем Среднев вносил иногда поправки и добавления, в своем стиле.
Случилось _э_т_о_ в конце прошлого октября. Весь день лил дождь, но к вечеру прояснело и захолодало. В тот день они получали в кооперативе – это они точно помнили, – подсолнечное масло и пшено, и вернулись домой поздней, часов около восьми. Закрыли ставни и подперли колом калитку, как всегда делали, хотя проникнуть во двор было нетрудно с соседнего пустыря, – «как и выйти со двора», – поправил Среднев, – «забор полуразвален». Оля поставила варить пшенную похлебку. Слышали оба, как в Лавре пробило 8. Среднев читал газету. Оля лежала на диване, жевала корочку. Вдруг, кто-то постучал в ставню, как будто палочкой, – «точно свой». Они переглянулись – «да кто же это?» К ним заходили редко, только по праздникам, и всегда днем. Те, хозяева жизни, стучат властно, и в ворота. Оля приоткрыла форточку – как раз и постучали в то самое окошко, где была форточка! – и спросила негромко – «кто там?» Среднев через «сердечко» в ставне ничего не мог разглядеть в черной, как уголь, ночи. На оклик Оли кто-то ответил «приятным голосом»: «с Куликова Поля». Странно было, что не спросил, здесь ли такие-то… – знает их! Сердце у Олечки захолонуло, «будто от радости». Она зашептала в комнату – «папа, кто-то… с Куликова Поля..!» – и, не ждя ответа, крикнула – Среднев отметил – «радостно и радушно, как _ж_д_а_н_н_о_м_у»: «пожалуйста… сейчас отворю калитку!..» – «и стремительно кинулась к воротам», – добавил Среднев.
Небо пылало звездами, такой блеск… – «не было никогда такого». Оля отняла кол, открыла, увидала высокую фигуру, в монашеской наметке поверх скуфьи, и, «должно быть от блеска звезд», – пояснил Среднев, – показался ей лик пришельца – «как бы в сиянии». – «Войдите, войдите, батюшка…» – прошептала она с поклоном, чувствуя, как ликует сердце, и увидала, что отец вышел на крыльцо с лампочкой – посветить. Хрустело под ногами, от морозца.
Старец одет был бедно, в сермяжной ряске, и на руке лукошко. Помолился на образа – «Рождество Богородицы» и «Спас Нерукотворный», по преданию, из опочивальни Ивана Грозного, – и, «благословив все», сказал: «Милость Господня вам». Они склонились. Это, что и он склонился, Среднев помнил и пояснил: «как-то машинально вышло, от ощущения некой глубины слов, быть может». Он подвинул кресло, как бы предлагая старцу присесть, но старец не садился, а вынул из лукошка небольшой медный крест, «блеснувший», благословил им и сказал, «внятно и наставительно», по слову Оли, что подтвердили Среднев: «Радуйтеся _Б_л_а_г_о_в_е_с_т_и_ю. Раб Божий Василий, лесной дозорщик, знакомец и доброхот, обрел Крест сей на Куликовом Поле и волею Господа посылает, во знамение Спасения».
– «Он – рассказывала Олечка, – сказал лучше, но я не могла запомнить». – «Проще как-то… – поправил Среднев, – но я невольно почувствовал какую-то… духовную? – силу в его словах». Они стояли – «как бы в оцепенении». Старец положил Крест на чистом листе бумаги, – Среднев накануне собирался писать письмо и так оставил, – и хотел уходить от них, но Оля стала его просить, – в ней все «играло» сердце: «не уходите… побудьте с нами… поужинайте с нами… у нас пшенная похлебка… ночь на дворе, останьтесь, батюшка…!» – «Вот, именно, про пшенную похлебку… это же было долгожданное нами блюдо… отлично помню», – заметил Среднев. С Олей творилось непонятное… – Она залилась слезами и, простирая руки, умоляла: «нет, вы останетесь… мы не можем вас отпустить так… у нас есть совсем чистая комната, покойного профессора… он был очень верующий, писал о нашей Лавре… с вами нам так легко, светло… столько скорби… мы так несчастны!..» – «Она была, прямо, в исступлении!» – заметил Среднев. – «Не в исступлении, а так у меня горело сердце… играло в сердце… я была… вот, именно – _б_л_а_ж_е_н_н_а!» – сказала Оля. Она даже упала на колени. Старец положил руку на ее склоненную головку, она _в_д_р_у_г_ успокоилась и встала. Старец сказал, помедля:
«Волею Господа пребуду до утра с вами».
Дальше «все было, как в тумане». Среднев не помнил, говорил ли он со старцем, сидел ли старец или стоял, – «был это как бы миг, будто пропало время».
5
8. II.42 11–40 утра
5-ое письмо с рассказом «Куликово Поле»
Продолжаю, милая Оля, «Куликово Поле».
…Но в этот «миг» Оля стелила постель в кабинете профессора, взяла все чистое, что нашлось. Лампадок они не зажигали, гарного масла не было. Но она вспомнила, что получили сегодня подсолнечное масло, и налила лампадку. И когда затеплила ее, – «вот эту самую, голубенькую, в молочных глазках… теперь негасимая она…» – озарило ее сияние, и она увидала… _Л_и_к. Это был образ Преподобного Сергия. Ее охватило священным ужасом. И до сего дня помнила она, как горело в ней сердце, как вздрагивало от слез _с_и_я_н_и_е.
В благоговейном и _с_в_е_т_л_о_м_ _у_ж_а_с_е, вошла она тихо в комнату и, трепетная, склонилась молчала, не смея поднять глаза. – «Что я в сердце своем держала… этого нельзя высказать словами[356], это выше сознания[357]. Будто и сердца не было во мне, будто я рассталась с _с_о_б_о_й… и меня, какой я знаю себя[358], уже нет… а я… я, будто, _д_у_ш_у_ в себе сознала… нет, это нельзя словами…» – рассказывала, обливаясь слезами, Оля. – «Стала, как онемелая… ну, оглушенной она показалась мне!..» – заметил Среднев, явно взволнованный. А с ним ничего «особенного» не происходило. – «На душе… то есть, внутри меня… хорошо как-то было, уютно… только». Он предлагал «иноку» поужинать с ними, хотя бы напиться чаю… – «да чай-то у нас какой-то морковно-липовый был», – но старец уклонился, «как-то особенно тактично, не приняв, и не отказав»:
«Завтра день _н_е_д_е_л_ь_н_ы_й, по вечеру не вкушается».
Среднев тогда не понял, что такое «недельный» день. Оля ему после разъяснила: «Значит это, что завтра воскресный день».
Оля так и осталась – «преклоненной», не сознавая себя, – «была _г_д_е-то», Среднев велел[359] ей поставить[360] в комнату, где[361] постелила старцу, стакан воды, принести единственную, остававшуюся[362] у них стеариновую свечу и спичку, – «мне тогда, помнится, все хозяйственное пришло в голову, чтобы все-таки некоторые удобства были для гостя нашего, – признавался Среднев, – но Оля не слыхала, не понимала[363], – будто[364] себя забыла». Среднев[365] отворил заклеенную обоями – «вот эту самую», – дверь в кабинет профессора, оглядел, «удобно ли будет гостю на клеенчатом диване, где была постлана чистая постель, под белым[366] пикейным, одеялом, из Оличкина приданого, – и удивился: „как хорошо стало при лампадке, – давно отвыкли!“ Приглашая гостя движением руки перейти в комнату профессора, Среднев, – это он твердо помнил, – „почему-то ни слова не сказал, будто забыл слова, а только _о_ч_е_н_ь_ _в_е_ж_л_и_в_о_ _и_ _р_а_д_у_ш_н_о_ поклонился“. Старец – видела Оля через слезы, – остановился в дверях, и она услыхала „последнее его к нам слово… слово _б_л_а_г_о_с_л_о_в_е_н_и_я“:
„Завтра рано отойду от вас. Пребудьте в мире. Господь да благословит[367] _в_с_е_х“.
И благословил широким знамением Креста, – „будто благословлял всех и вся“. И затворился.
Оля все плакала. Отец недоумевал, что с ней. Она прильнула к нему и, как бывало в детстве, в слезах шептала: „ах, я не знаю, папа… не знаю, папочка… мне так хорошо, легко…“ Она прильнула к его груди и плакала[368], беззвучно. Это его до слез расстрогало. И он шепотом[369], будто страшась нарушить _с_т_р_а_н_н_у_ю, как бы[370] _с_в_я_т_у_ю, тишину», – так объясняла Оля, – признался ей: «странно… и мне с _ч_е_г_о-то, так непонятно-хорошо!» – «Да, и не отрицаю… – рассказывал мне Среднев, – было такое чувство… ну[371], благоговейное, что ли… бывает иногда[372], очень редко, когда что-то торжественное совершается, как бы таинственное, что ли… будто мне от[373] Оли передалось…[374] в психологии это называется[375] „воздействием родственной души“: ее душевное состояние передалось мне, и я, как будто, понял, что с ней творится». Стараясь не стукнуть мебелью, Оля подошла к столу, перекрестилась на _с_в_е_т_л_ы_й_ Крест, видя сквозь слезы «сияние ослепительное», и, не касаясь руками, приложилась. Среднев хотел взять[376] в руки, но она не позволила, «страшным шепотом»: «не тронь[377]»… Так Крест и лежал до утра, на белом листе, нетронуто.
Оле трудно было рассказывать. Среднев не спал в ту ночь: всякие думы думались, «o[378] жизни». Чувствовал, что не спит и Оля. Она лежала и плакала неслышно. Но _э_т_и_ слезы были для нее _р_а_д_о_с_т_ь_ю, «самой светлой». Ей _в_с_е_ _в_д_р_у_г_ _о_с_в_е_т_и_л_о_с_ь, «как в откровении». Ей открылось, что все – _ж_и_в_о_е: все, что прошло, – _в_с_е_ _е_с_т_ь, как бы назад вернулось, или пропало время[379], перестало существовать[380], «не принималось сознанием». Ни Среднев, ни я – не понимали, как ни старалась она сделать нам ясным это странное[381] в человеке состояние. Для нее стало[382] непобедимо-ясно, «до осязаемости», до ощутимости материальной, что покойная ее мама – с ней, и Шура, мичман, утопленный в море, в Гельсингфорсе21, любимый, единственный брат у ней, – _ж_и_в, и – с ней. И все, что было в жизни ее; и все, что она в[383] жизни видела, слышала, о чем помышляла[384], мечтала, чего ждала… и все, что она помнила по книгам, – родное наше…[385] – _ж_и_в_е_т, и – с ней. И Куликово Поле, откуда _я_в_и_л_с_я_ Крест, – _з_д_е_с_ь, и в _н_е_й! «Не отсвет его в истории, a[386] сущность его, _ж_и_в_а_я… – и теперь _н_и_ч_е_г_о_ не надо[387]» Она страшилась, что это с ней помрачение рассудка, и сейчас она все забудет, – но все становилось _я_р_ч_е, _п_р_о_с_в_е_т_л_я_л_о_с_ь. Ночи она не видела.
В ставнях рассвет, и утро[388]. Небывалое утро радости[389] и неземного счастья, какого-то блаженного покоя[390]. – «Да нет, словами это нельзя сказать!» Она хотела мне объяснить, как она чувствует, что «все вернулось[391], все – с ней, и в ней, и что все, все – _ж_и_в_о_е». И чтобы дать мне понять ясней, она прочла, на память, из ап. Павла «К Римлянам»:
«И потому, живем ли, или умираем, всегда Господни…»18
«Понимаете,[392]_в_с_е_ _ж_и_в_е_т! у Господа ничто не умирает, у Господа… – _н_е_т_ утрат!.. все – в Нем, Господне!..»
Нет, я не понимал.
И вот, утро. Заскрежетал будильник. – 7. Среднев постучал, осторожно, в кабинет профессора. – ?… – молчание. Оля, странно как-то улыбаясь, сказала, громко: – «Войди – и увидишь:[393] О_н_ _у_ш_е_л». – «Но _о_н_[394] _н_е_ _м_о_г_ уйти!» Оля сказала[395], уверенно-спокойно: – «Как ты не видишь, папа…!? это же было _я_в_л_е_н_и_е_ _С_в_я_т_о_г_о!..» Среднев не мог поверить. Осмотрел комнату: постель не смята, лампадка догорала под нагаром. Оля взяла отца за руку и показала на образ Преподобного – «Не веришь?!..» Среднев _н_и_ч_е_г_о_ _н_е_ _в_и_д_е_л, не мог поверить: для него это был – абсурд.
IV
Меня этот «странный случай» затронул двойственно: и как следователя – загадкой, которая должна быть разгадана здравым смыслом, и как человека, – явлением, близким к чуду, против чего поднимался все тот же мой «здравый смысл». Оля это почувствовала: рассказывая, она все время пытливо-тревожно вглядывалась в меня, спрашивая как будто: «и вы, как папа..?» Не вера моя в чудо была нужна ей, не укрепление от моей веры, – сама она крепко верила: ей нужно была моя помощь, нравственная моя поддержка сломить маловерие отца. Мне ее стало жаль. И эта жалость к ней, ее «одинокость» между нами, неверами, заставили меня отнестись к «странному случаю» с особенно чуткой осмотрительностью.
Только один был выход из кабинета профессора, через их комнату, а они не спали. Так уверяли оба. Дверь из передней в сени Оля не запирала, – это облегчало выход без шума и не вызвало бы их внимания, если бы они хоть на миг забылись, – но парадная дверь была заперта на щеколду, которая падала в пробой. Среднев объяснял мне: нужно предположить единственное – они оба могли забыться, и он тихо прошел в парадное. Не имеет значения, что щеколда осталась в пробое: случай со щеколдой – не их открытие, это делают все, когда надо уйти и запереть квартиру, если кто-нибудь остается, и не хотят будить. – «Мы всегда это делали. Когда Оля уходит, а я еще сплю, она ставит стойком щеколду, и…» Он повел меня в сени и показал. – «Смотрите, поднятая щеколда держится довольно туго… ставлю вот так, чуть наклонно, выхожу, захлопываю дверь… – и щеколда падает!» – сказал он уже за дверью. – «Какое же объяснение иначе..?!»
Оля упорно повторяла – «Это было _я_в_л_е_н_и_е!..[396] Он _у_ш_е_л!..[397] для _Н_е_г_о_ _н_е_т_ _п_р_е_г_р_а_д».
Среднев открыл парадное. В ночь навалило снегу, но никаких следов не было. И это было объяснимо: след завалило снегом. Оля показала на крыльцо: – «Завалило снегом..? Но раз отворялась дверь, она бы загребла снег, а снег лежит совершенно ровно, нетронуто!» Среднев и тут объяснял «логично»: «значит, ушел _д_о_ снега!» Вероятности полной, конечно, не было, но… _м_о_ж_н_о_ было пройти неслышно, когда они забылись, _м_о_ж_н_о_ было и сделать со щеколдой. Кол подпирал калитку, как было с вечера, но и тут… – _м_о_ж_н_о_ было пролезть в малинник, забор развален.
Доводы Среднева были скользки, но нельзя было возразить, что это невозможно: тут не страдала «логика». Для него, как и для меня, _ч_у_д_о_ было гораздо невозможней. Оля смотрела на нас с грустной, жалеющей улыбкой, но могла защищать _с_в_о_е, единственно, только верой. Среднев веры ее не разбивал, признавал, что рассказ мой «еще больше сгущает впечатление, что старец достойнейший человек, великий инок». Объяснял и мотив «явления». – «Несомненно, это человек тонкой душевной организации, – говорил он, – чуткий к народному страданию и большой психолог. Находка Васи… только вообразите! – крест, с Куликова Поля!.. какой же си-мвол! Он сразу понял, что этим крестом можно укрепить падающих духом, влить надежду на скорое освобождение… эффект совершенно исключительный! Заметьте _е_г_о_ прием, и с Васей, и с нами… _е_г_о_ ободряющие слова – „господь посылает – _м_и_л_о_с_т_ь… _б_л_а_г_о_в_е_с_т_и_е!“ Пять веков назад русский князь разгромил Мамая, татарское иго, тьму… с _б_л_а_г_о_с_л_о_в_е_н_и_я_ Преподобного. И вот, эта находка, эта встреча в поле, и… мысль – символ-то какой! И вот – „голос Куликова Поля“: _у_п_о_в_а_й_т_е! и повторится чудо, падет иго наистрашнейшее, Крест победит его! И _о_н_ принимает на себя миссию, и идет… к нам, в _в_о_т_ч_и_н_у_ Преподобного, откуда и воссияет – вторично! – свет. Я искреннорасстроган, я перед _н_и_м_ преклоняюсь, _з_а_ _и_д_е_ю! я готов руку поцеловать у этого светлого пришельца!.. А этот уход таинственный – какое тончайшее воздействие! обвеять _т_а_й_н_о_й… – как-бы граничит с чудом! Ведь если _т_а_к_о_е… „явление“ – бросить в массы народные..! Но мы не можем содействовать, вы понимаете. Кто поверит нам, интеллигентам? Оля рассказывала немногим, верным, но этого недостаточно. Надо на площадях кричать, надо… _о_б_ъ_я_в_и_т_ь_ Крест! надо… принять крест[398]. Это лишь повело бы к новым жертвам. Она хотела… принять крест. Я удержал, я умолял ее… – взволнованно шептал мне Среднев, – Крест далеко отсюда».
Нет, чуда Среднев не мог принять. Я… – смута во мне была, – я[399] _п_о_ч_т_и_ верил, что тут[400] исключительное, граничащее с чудом. Опытом следователя я чувствовал по тону, по глазам чистой девушки, по шатким доводам Среднева, по всему матерьялу «дела», что тут… необъяснимое, почти[401] чудесное.
– «И вы не верите…» – с жалеющей улыбкой, грустно повторяла Оля. Я сказал: «искренно _х_о_ч_у_ верить… больше: я _п_о_ч_т_и_ верю, смотря на вас». И это была правда. Светлым своим порывом веры[402], светом в глазах, детскою чистотою в них она _з_а_с_т_а_в_л_я_л_а_ верить. Тогда я впервые[403] почувствовал, кто она: не современной была она, извечное в ней светилось, за-земное: такими, думалось мне, были христианские мученицы-девы: _э_т_о_ светилось в ней.
Среднев заметно волновался, мучилось _ч_т_о-то в нем, – его неверие? – «Ну, хорошо, допустим, _я_в_л_е_н_и_е,_ _о_т_т_у_д_a![404] Но!.. не могу я понять, почему вдруг… у _н_а_с!?.. Я, конечно, не круглый атеист, но… почему я удостоин такого… „высокого внимания“»?! – «Но почему вы предполагаете, – вырвалось у меня невольно, – что это _в_ы_ удостоены… „высокого внимания“?» – и я перевел взгляд к Оле. Среднев заметил это. – «Нет, я не обольщаюсь… я говорю смиренно: я _н_е_д_о_с_т_о_и_н, я…» – «Папа, не укрывайся же за слова! – с болью и нежностью вырвалось у Оли. – _И_щ_е_т_ твоя душа, но ты страшишься, что вдруг все твое и рухнет, чем жил… а чем ты жил[405] – разве оно не рухнуло?! или не видишь ты..?! А ты не бойся, ты…» – она не могла, заплакала.
И тут… – что меня натолкнуло..? – я, как бы заканчивая «следствие», может быть, по привычке к форме протокола, коснулся «срока»: _к_о_г_д_а_ _э_т_о_ произошло? И восстановил для них: встреча со старцем на Куликовом Поле произошла часов около 4-х дня, 25 октября, в субботу… в «родительскую» субботу, в «Димитриевскую», и это совершенно точно, потому что Сухов возвращался от дочери, со станции «Птань», где его угостили пирогом с кашей, и он вез кусок пирога внукам, а в тех местах этот день чтят особенно. – «Вы помните… это точно?!.» – крикнула нервно Оля, вдруг побледнев и дернувшись. – «Папа… слушай… па-па..! – задыхаясь, вскрикнула она и протянула руку к письменному столу, – там… у тебя, в продовольственной книжке… там есть, я знаю… у меня в дневнике… знаю… а вот ты… в книжке!..» Она задохнулась, кинулась в комнаты. Среднев взглянул на меня испуганно, словно он растерялся, и, вдруг, что-то поняв, нервно дернул ящик стола, – но это был стол профессора, – побежал к своему столу, вынул затертую, трепаную тетрадку, быстро стал перелистывать, что-то нашел, ткнул пальцем, и… – тут прибежала Оля с клеенчатой тетрадью, – не своим голосом прочитал: «200 граммов подсолнечного масла… 300 граммов пшена… штемпель… 7 ноября…» – «Но это же было… 7 ноября!» – сказал он раздраженно-вопросительно. – «Да, 25 октября, по церковному стилю, по старому… в субботу… в „Димитриевскую“ субботу..!» – прерывающимся и как бы пристукивающим голосом выговорила Оля, с усилием, – «как _т_а_м… на Куликовом Поле… в _т_о_т_ же вечер… больше четырехсот верст от нас! Папа… па-па…» Она упала бы, если бы я не подхватил ее. Среднев стоял, бледный, оглушенный, губы его запрыгали, перекосились, он что-то хотел сказать и не мог выговорить, – только одно и разобрал я: «в _т_о_т_ же… вечер»![406] Он опустился на стул, закрыл руками лицо и весь затрясся. Оля стояла перед ним, сложив у груди ладони, ни слова ему не говорила[407], – понимала, что с ним совершается сейчас самое важное, величайшее в его жизни. Он сотрясался в глухих рыданиях, и, сквозь дрожавшие его пальцы на лице, струились слезы. Я хорошо знаю подобное «разряжение», не раз видал в своей практике. Но тут было сложней неизмеримо: тут рушилось _в_с_е_ привычное и замещалось… – чем? На это ответить невозможно, это – _в_н_е_ наших измерений. Оля – не странно ли, я мог наблюдать за всем! – была радостно-спокойна, торжественно-радостно-спокойна, смотрела напряженно и выжидательно… но это было такое нежное, почти материнское _д_в_и_ж_е_н_и_е – взгляд сердца! Я… не странно ли? – совсем не был потрясен, – очевидно, был уже подготовлен, нес в своем подсознательном свершившееся _ч_у_д_о. Я был как бы в ликовании, – впервые изведанное чувство, – и теперь знаю, что такое, когда «ликует сердце». И еще во мне было… чувство профессионального торжества: _р_а_с_к_р_ы_л! – и совсем неожиданно для себя. Тут уже никакими увертками нельзя было опорочить «юридического акта». Мое заявление, предварительное, о дне и часе, было документально подтверждено записями в Олином дневнике и в грязной тетрадке Среднева. Он отнял от лица руки, оглянул нас смущенно-радостно, новым каким-то взглядом, по-детски как-то, смазал слезы и облегченным вздохом, как истомленный путник, сказал, озирая комнату, – «верую, Господи…» – закрылся и зарыдал. И теперь плакала Оля с ним, и я… заплакал, _о_т_ _у_м_и_л_е_н_и_я, – впервые изведанное мною чувство.
В посаде я пробыл больше недели. Много тогда переговорилось и передумалось. Вскоре опять приехал, и до зимы приезжал не раз. Приехал перед Рождеством и не нашел Средневых: они переехали на юг, – так нужно было.
Январь – февраль 1939 г. Париж Ив. Шмелев Выправлено мною – февраль 1942 г. Ив. Шмелев
Михайлов день
(Редакция ноября 1942 – января 1943 гг.)
1
30. XI.42 8 вечера […]
Михайлов день[408]
Я давно считаю, – с самого Покрова, когда давали расчет уходившим в деревню на зиму, – сколько до Михайлова дня19 осталось: Горкина именины будут. По разному все выходит, все много остается. Горкин сердится, надоели ему допросы:
– Ну, что ты такой нетерпеливый… когда будут – тогда и будут! Все в свое время будет.
Все-таки пожалел, выстрогал мне еловую досточку и велел на ней херить гвоздиком нарезки, как буду спать ложиться:
– Все повеселей тебе будет ждать.
Два денька только остается, две метинки осталось!
На дворе самая темная пора: только пообедали – и уж и ночь. И гулять-то невесело, – грязища, студеный дождик, – не к чему руки приложить. Большая лужа вот-вот застынет, рябью по ней студеной гуляет с ветру, и так разлилась с дождей, хоть барки по ней гоняй: под самый курятник подступает, курам уж сладили мосточки, а то ни в курятник, ни из курятника; уж петух затревожился, Марьюшку20 криком донял, – «да что ж это за непорядки!?..» – разобрали, будто, по голоску. А утки так прямо и вплывают в свои утятники, такое приволье им! В садике пусто, голо, деревья плачут, видно даже, как по коре сочится, как ручейки… все листочки давно посдуло, на антоновке только вихорок желтеет рваными листьями… последнюю рябину еще до Казанской сняли21, – морозцем уж хватило, – и теперь только на макушке ржавой почерневшие кисточки, на радость галкам. Горкин говорит:
– Самый грязник теперь, ни на колесах, ни на санях, до самых до моих именин… Михаил-архангел все ко мне по снежку приходит.
В деревне теперь веселье: свадьбы играют, бражку варят… вот Василь-то-Василич и поехал, отгуливать. Мы с Горкиным все коньки в амбаре осмотрели, три ящика, сальцем промазали ремешки: морозы скоро, каток на пруду в Зоологическом Саду откроем для публики, елками-флагами разукрасим, стеклянные разноцветные шары на проволочках повесим, шкаликов и кубастиков наставим, – иллюминацию. Переглядели и саночки-каталочки, в плисе и бахроме, – скоро будет катанье с гор. Приедет Василь-Василич из деревни, горы осматривать покатим… не успеешь и оглянуться – Николин день22, только бы укатать снежком, под морозы успеть залить. Отец уж ездил в Зоологический, распорядился. Говорит – на пруду еще «сало» только, а пора бы и «ледяной дом» ставить, как запоздало-то. Что за «ледяной дом»?.. Сколько же всего будет… зима бы только скорей пришла! У меня уж готовы саночки, и Андрейка вытесал-выстрогал мне новую лопатку. Я кладу ее спать с собой, глажу и нюхаю: пахнет живою елкой, снежком, зимой. Вижу во сне сугробы, весь двор завален… копаю и копаю, и… лопаточка вдруг пропала, в снегу утопла. Просыпаюсь, – ах, вот она! теплая, шелковая, как тельце. Еще темно, только затапливают печи, – вскакиваю, бегу к окошку: а, мокрая грязь чернеет. А пожалуй и хорошо, что мокро: Горкин говорит, что зима никогда не приходит посуху, а все на грязи становится. И он не дождется именин: самый это священный день, сам архангел к нему приходит.
Мастерская побелена, стекла промыты с мелом; между рамами насыпаны для тепла опилки, прикрыты ватой, а по вате разложены шерстинки, – зеленые, голубые, красные, – и посажены веселые розочки, из сахара, с кондитерских пирогов недавних, – ну, будто садик за стеклами! Полы проструганы до-бела, – как же, надо почиститься, день такой: порадовать надо ангела.
* * *
Только денек остался. Вернулся Василь-Василич, привез деревенского гостинца. Такой веселый, – с бражки да с толокна. Вез мне живую белку, да дорогой собаки отняли, не довез. Папашеньке – особенных рябчиков, любимых: не ягодничков, а «с почки да с можжухи», осинничков, с горьковинкой, – в Охотном и не найти. Михаиле Панкратычу мешочек толоконца жареного, с кваском хорошо хлебать, Горкин ужасно любит – уважает, и белых сухих грибов, – ну, дочего ж духовитых… с одной вязаночки во всю мастерскую ду-хом, живым грибом! Я впиваюсь лицом в вязаночку, нюхаю и дышу, дышу… не могу даже оторваться, – такое в этом… такое-та-кое… ну, не сказать! Будто и щи с грибами, и похлебка, и соус сладкий к картофельным котлетам, и лес, и грибы, и… все! Мне ростовский кубарь расписанный и клюквы, в березовом бурачке, веселой, крупной, как бусины на елку сладкие. И аржаных лепешек еще, с соломками, – сразу я сильный буду. А белочку еще заведем, успеем.
– Со-о-рок у нас нонче по задворкам… – говорит, – прямо, из годов год, невидано никогда! к большим снегам, старики сказывают… лю-тая зима будет! Да у нас в избах тёпло, лесу навезено – девать некуда!..
Такой веселый, разгулистый… – всех нас порадовал, что зима не гнилая будет: русский человек морозу рад, здоровье с морозу только. И Горкин такой веселый, что Василь-Василич не припоздал, а то – говорит – «без тебя, Вася, и именины не в именины». В деревне и хорошо, понятно, а по калачам соскучишься.
Горкин уж прибирает свою каморку. Народ разъехался, в мастерской свободно. Соберутся гости, захотят поглядеть святыньки. А много у него святынек. Весь угол заставлен образами, до-древними. Черная-Казанская, – отказала ему по смерти прабабушка Устинья, – и еще Богородица-Скорбящая, литая риза, а на спинке печать наложена казенная, под арестом была икона, раскольницкая какая-то: Горкину верный человек доставил, из-под печатей. Ему триста рублей давали староверы, да он не отдал: «на церкву отказать – откажу, – сказал, – а иконами торговать не могу». И еще «темная Богородица», лика не разобрать; нашел ее Горкин, когда ломали на Пресне дом: с третьего яруса с ней упал, с балками обвалился, – и _о_п_у_с_т_и_л_о_ безо вреда, ни цапинки! Потом Спаситель еще старинный, – «Спас» называется. И еще – «Собор архистратига Михаила и прочих сил бесплотных», в серебрёной литой ризе, до-древних лет. Все образа почищены столовым вином с мелком, лампадки на новых голубых лентах, – «небо-то, касатик, голубое!» – а подлампадники с лепными херувимчиками по уголкам, старинные, 84-й пробы. Под «Ангела» голубой шелковый подзор подвесил, с вышитыми золотою канительцей крестиками, от Сергия-Троицы, – только на именины вешает. Справа от «Ангела» медный надгробный крест, литой-старинный; нашел его Горкин в земле, на какой-то стройке: на потлевшем гробу лежал, – таких уж теперь не льют. После смерти откажет мне. Крест до-древний, мел его не берет, бузиной его надо чистить: прямо, как золотой сияет. Привешивает еще на стенку двух серебрёных… – как они называются..? – не херувимов… а… серебрёные святые птички, а головки у них – как девочкины… и даже над головками у них крылышки, и трепещут, совсем живые! Спрашиваю его: «это святые… бабочки?» Он смеется, отмахивается: «а, чего говоришь, дурачок… согрешишь с тобой! си-лы это бесплотные… шесто-крылые серафимы это, серебрецом шиты, в Хотькове монашки рукодельничают… ишь, крылышками как трепещут, для радости!» – говорит он молитвенно, и старенькое лицо его в ласковых, радостных морщинках, и все морщинки сияют-светятся. Этих «шестокрылых серафимов» он вынимает из укладки на именины только: и закоптятся, и муха засидеть может. На полочке, где старые просвирки, серенькие совсем от пыли, принесенные добрыми людьми, – ерусалимские, афонские, соловецкие, с дальних обителей, – на малиновой бархатной полочке положены самые главные святыньки: колючка ерусалимского терновника, с горы Христовой, – баньщица Полугариха подарила, паломничала туда, – сухая оливошная ветка, из Гефсиманского сада взятая, «Пилат-камень», а еще называют – «литостротон», с какого-то порожка, где ступала стопа Христова, иорданский песочек в пузыречке, сухие цветы, святые, которые на воде распускаются, будто совсем живые, и еще много святостей. Кипарисовые кресты и крестики, складнички и пояски с молитвой, раковинки и камушки, фараонов морской конек, до-древний… – еще поется: «коня и всадника вверзи в море!»23 – и святая сухая рыбка, апостолы где ловили, оттуда вот… – на окунька похожа. Святыньки эти Горкин вынимает только на Светлый День да вот, на день «Ангела» своего. Убирает с задней стены картинку – «Как мыши кота погребали», – я всегда на нее гляжу, и мне все чего-то страшно! – и говорит печально: «Вася это мне навесил, скопец ему подарил сокровенно… будто и не про кота тут, а в насмешку писано, для потехи». Я спрашиваю – «скупец»? – «Ну, скупец… не ндравится она мне, да обидеть Василь-Василича не хотел, терпел… мыши тут не годятся». И навешивает новую картинку – «Два пастыря». На одной половинке пастырь добрый гладит овечек, и овечки кудрявенькие такие, как вот на куличах, из сахара; а на другой – дурной пастырь: бежит растерзанный, палку бросил, только подошвы видно; а волки дерут испуганных овечек, так шерсть клочьями и летит. Это такая притча. Потом достает новое одеяло, все из шелковых ярких лоскутков, подарок Домны Панферовны из бань.
– На язык востра, а хорошая женщина, нищелюбивая и богомольная… – говорит он, расстеливая одеяло на кровати, – ишь, какое веселое, как коморочку-то приукрасило!
Я ему говорю:
– Тебя одеялками завалят завтра, Гришка сказал – смеялся.
– Глупый сказал. А правда, в прошедчем годе два одеяла монашки из Страстного подарили да еще из Зачатиевского. Ну, я их пораздавал, куда мне!..








