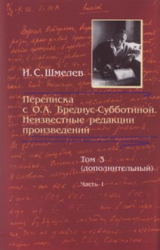
Текст книги "Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Том 3 (дополнительный). Часть 1"
Автор книги: Иван Шмелев
Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина
Жанры:
Эпистолярная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
«Пути» мои – пишутся, «в уме». Путаешься в них – Ты, всегда.
31
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
28. Х.41
Оля, милая… какая боль – письмо твое, 22.Х!91 Твоя и моя. Я ответил вчера92, смутный. Прости за exprès, но я не мог иначе, почта так неспешна. Чем оправдаюсь? Оглушенный твоим, 2.Х, не зная, в какой тяготе ты, – ты уже после написала все, – я был потрясен твоим – «нельзя и думать о Париже», и – «не посылайте, ради Бога!» Это был удар. Потом я понял, теперь мне очень больно за тебя. Чем искуплю? Не смею смотреть на тебя, моя святая, мученица! Видит Бог, как я люблю тебя. Более страшного обвинения не мог бы составить против меня самый искусный обвинитель. Мне больно, очень, но я счастлив, как ты даровита! – это я знал, _э_т_о_ лишь утверждение. Да, ты – огромная, _г_о_т_о_в_а_я. Твоя богатая натура, обожженная предельным страданием, жизнью горькой-жесткой, так несправедливой к тебе, – готова к чудесно-творческому. Это и боль, и радость. Ты ничего не сжигала: Ты – родилась, я с изумлением, благоговейно на тебя смотрю. Я писал, ослепленный острым горем, мнимым, да… будто снова я во тьме, в которой жил до встречи с твоим сердцем. Я его слышу, бедное… Оля, прости меня. Я не так виновен. Я в ужасе, – как мог я тебе, такой… дать столько боли! Так любить и – так терзать!.. кого?! Выслушай – увидишь: не я это, это тьма во мне. И я страдаю. Ты сказала так, – мне стало страшно за себя, какой я… неужели это я?! Только ты могла, – с такой предельной силой, с такой разящей правдой! Но… я же не такой. Я не помню всего письма, но ты даешь его. Выслушай же, я хочу разобраться сам в себе. Вижу твое сердце, как оно истекает болью. Я сам хочу кричать от боли. Я многое превратно истолковал. В мгновенной безнадежности, что я потерял! Хоть за это – прости меня! Пойми: я только что называл тебя моей, просил – будь моей, от Бога мне дарованной?!.. И в ответ – страшное твое: «нечего и думать… не посылайте, ради Бога!» Отчаяние меня так оглушило… – и вот, безумие, – мое письмо. Я знал, что произошло! Это не мое сердце говорило, – это темное во мне _к_р_и_ч_а_л_о, утраченное счастье, боль. Все извратилось, вдруг, – все покрылось тьмой. Остановилось сердце. Мучить _т_а_к, _т_е_б_я..! кто всего дороже в целой жизни! Оля!.. так терзать себя, чтобы еще больше боли..? Только тобой живу. И ты могла подумать, что это «игра чувствами»! Это у меня-то! так незаслуженно одаренного тобой! Такое – противно всему во мне, _ж_и_в_о_м_у, чем дышал всю жизнь, что людям изливал! Нет, это не так. Я жалел людей, всю жизнь я со-страдал – и… не пожалел тебя, самое во мне _с_в_я_т_о_е! Нет, это не так. Это все – в помрачении, в отчаянии. За тебя жизнь отдам. Что еще отдать?! Милая, чистая, дитя мое, так обойденная судьбой, израненная, вся… я плачу над твоей головкой, светлой, озаренной Божьей благодатью. Если бы ты узнала, как я страдаю! Вдумайся, – и ты увидишь – и простишь.
Циник-адвокат93. _К_а_к_ я мог его оценку моей книги, Дари… – ставить выше твоего очарования? Нет, ни-когда. Смотри: не выше! – до твоего, в оценке, никто не мог бы вырасти! – ни-кто. Я не высоту, не правду оценил: а _с_и_л_у_ моего образа Дари. А не оценку циником. Даже он, для кого все женщины – «котлеты» только, жратва, – как я в иронии определил его, всю, сущность, – даже он проникся! _з_а_х_в_а_ч_е_н, остановился – как перед откровением, перед Небом, – увидал впервые… – это после всего-то, что давала наша великая литература, и – мировая! Да, я был очень удовлетворен. Тут, в этом… – тебя..? – не мог коснуться, сопоставлять. Я благоговею, Оля, перед тобой. Нет, это циничное – о «котлетах» – не перед тобой я говорил, – это ему я говорил, его определял. А тебя потому, что я все хотел открывать тебе, как моей подруге, моей дружке, моей товарке, самой близкой, – все мое должна бы знать ты, перед тобой быть ясным. Я не погрешил перед тобой. Как ты приняла «Пути» – это для меня было всему во мне – наградой с Неба, всему в моем искусстве. _Т_а_к_ – _н_и-к_т_о! Жизнь Дари, ее души и сердца – _Т_в_о_е. Я с изумлением, в восторге, понял, что ты _ж_и_л_а_ во мне, когда не знал тебя, – когда писал «Пути» – уже искал тебя, инстинктом. Я уже нашел тебя – в Дари, тогда, в марте 35 г., за год до кончины Оли, – _и_с_к_а_л_ тебя! Так ясно, вот теперь. Так всегда: для меня писать-искать. Я искал света, чтобы самому найти его, себе дать радость и – другим, вести их. Вот смысл всего в моей работе. И потому – я никогда не списываю, а – _и_щ_у, _т_в_о_р_ю, томлюсь. Ищет моя душа по жизни – светлого, я о нем тоскую, – и творю его. М. б. потому в _м_о_е_м_ больше светлых, а не дурных. Ищу – в тоске по светлым. Разве не так? Потому я и людей жалею, со-страдаю им. Такое свойство. Как же я _м_о_г_ – тебя – обидеть?! Любимую, из всего на свете, мою жизнь?! Не так это, это совсем обратное всей моей «правде», это – опрокинуто мгновением, в потемнении – Я мог сказать: «это последнее письмо?» Осудить себя на казнь?! И тебя, свет мой, – и – себя?! Я – мог? Нет, не могу. Каждое твое слово – счастье! Боль громоздить на боль? Не мог. Это – не сердце: это – мрак кричал во мне. Ну, покарай меня, я все от тебя приму, только не отходи! пиши, хоть одно слово. Им я буду жить. Ты – светлая, ты пожалеешь, не отвернешься. Я мог – не высказать, а вскрикнуть, от острой боли, но это – миг темный, это невольно, – это могло быть. Я сам себя казнил. Помилуй, почувствуй мою боль – прости, пожалей меня, последней жалостью, от твоего сердца, безмерного, знающего, что такое – боль. Ну, недостоин я тебя, я это знаю. Так больно сделал – и кому?! Помилуй злого. Я был, злой, темный, оглушенный. Это не я писал, а – разбитый, истомленный. Все во мне опрокинулось, все наоборот, как сны бывают. Эти муки – когда человек делает все наоборот истинному в нем, – это ты знаешь: это дано так предельно-ясно Достоевским. По себе, он знал. Такое, м. б. и во мне бывает, как у многих, но это не мое, не все во мне. Это – как Достоевский говорит: – «понесся», «надрыв души». Прости. Моя _п_р_а_в_д_а_ – любовь к тебе, вся. Сколько вынести сердце может. Эта любовь к тебе – самая чистая моя правда, непорочная, восторженная, невероятная. Я знаю: я недостоин такой правды, такой любви. Но она есть, – что же могу я тут? Только сознавать, как недостоин нести в себе такую правду – любовь твою, к тебе. Я еще не встречал такой, как ты, – я лишь мечтал, искал, старался вообразить, и – создавал, как мог. И вот, жизнь мне тебя явила – как в награду? за мои искания? за мою _в_е_р_у, что _д_о_л_ж_н_а_ такая _б_ы_т_ь_ и в жизни, не только в воображении? Да, случилось чудо: жизнь, Господь… – мне показали, мне явили – _т_е_б_я! Явили _ч_у_д_о. И это _ч_у_д_о… я мог терзать? обидеть? Это тебя-то, мое святое… мог? Я?! Нет, это не так. Оля, клянусь тебе, всем моим единственным, моим мальчиком несчастным – не так, неправда. Этого не могло быть. Мне больно, слезы все закрыли. Не так, Оля, не правда. Тебя, дарованное Светом… мучить?! Ты поверишь, не можешь не поверить – и простишь темное во мне, крик боли и отчаянья.
Ирина… Бог с ней. Сравнивать ее – с Тобой! Смешно. Она так несложна, так обыденна, так – простое. Дилетантка, – в ней ни искры святого дара. Так, способная, – вся в житейском. Суди по ее выбору – выбрала пустышку. Но, в моей опустошенности, до тебя, – даже и она казалась чем-то. Я никогда, ни взглядом, ни словом ничего не выдавал ей. Не было ничего. Личико, очень уж детское, – да, чистое оно, что-то очень наивное – и все. Но ведь это же смешно, ей только было, до брака, 25 л. – 26. На 38 л. разницы! Правда, Менделеев к 70 г. женился на 18 л.94, бывало, как исключение. Но со мной, при моих исканиях – не могло быть такого, и не с ней же. Должно было случиться _ч_у_д_о, должна была явиться, – и так сложно! – _д_а_р_о_м, одарением… – я недостоин, знаю. Только _т_ы, _т_а_к_а_я, могла быть _ч_у_д_о_м. Мне страшно, я – недостоин. М. б. это – испытание, последняя казнь мне, из казней казнь… – будет отнято? М. б. я только этого достоин? Что же… – пусть, конец страданию, отплата… но за что же?! Или я так преступен? Не мне судить. При жизни Оли – она нам нравилась обоим. Сиротливым, будто возможная такая, несбывшаяся – дочь-девочка? Зачем я ее тут-то упомянул? Сперва – потому что 10-го, после моего темного Ангела – принесла она мне цветы – и не застала? Странно так: 11 мес. я не видел ее. Видишь, _ч_т_о_ она мне. И рассказывая о себе, я и об этом рассказал. Тогда я чувствовал, что после твоего письма – я снова в темноте, тобой оставлен. Вспомнилось больное, как мы потеряли ребенка, так и не родившегося к жизни. Почему – «горящей изнутри»? Мой восторг? Нет. Это лишь привычное писателю определение, из опыта, – м. б. совсем неверное. Бледность лица – «внутреннее горенье»? По себе сужу. Должно быть я б[ываю] ч[асто] бледнолик. Чем сильней волнение, тем я бледней. Свежесть твоего лица – поверишь? – это же такая радость! жизнь живая, твоя. Это редкая прелесть в женщине! Это же я у Дари хотел увидеть! – У тебя, – увижу ли? Ты приняла мои слова – обидой? Мой восторг, – я его еще не умел, не успел высказать, я его в себе таил, как незаслуженное, как одарение – и ты вменила мне – во что же?! У меня и в мысли не было, – почему ты это об Ирине приняла, как восхищение? Я _т_в_о_е_ _г_о_р_е_н_ь_е_ могу ли с чем сравнивать?! Ведь ты – вся ты – святой огонь, палящий… – и не сжигающий. Твой огонь, душевный, пыланье сердца, – _т_в_о_е, Оля! – это – Свет, это Неопалимое-Святое… и это… прости мне – страстное-чудесное… – я знаю, я предполагать могу, мечтать, таить – и в тайне любоваться, только. Оля, неизреченная, огненное сердце..! Мое сердце Бальмонт называл – «горящим». Написал о моем творчестве статью – «Горящее сердце»95. Вот, у тебя – _т_а_к_о_е. Такие – редки. Их – почти нет. Не знаю. Не знал, до встречи. Чистота и свежесть твоего лица – твоя природа. Я ее чувствовал в Дари. Оля покойная не знала никакой косметики. У нее лицо было свежее, потом – от горя – стало блекнуть. Я забывал ее. Ей это было горько. Только раз, шутя… видя, как я забываю ее, весь в своем, в писании, купила она краску… – ей было это и больно, и… как бы шутка в ее боли. Мне было очень больно, за _в_с_е. Так жалко всего – утраченного. Так ее мне было жалко. Ты вспомни, у Лескова, в «Соборянах» его чудесных, – (не совершенных в целом – не надо было «смешное» вводить! – но гениальных по некоторым страницам) – «голубицу чистую» Туберозова, как она _з_в_а_л_а_ его… бумажкой на ниточке… тянула к себе96, – он забывал ее… – о, какая скромность, ясность, святость! Лучшего нет во всей литературе, такого сокровенного, такой чудесной ласковости, женской-детской тайны! Оля оплакивала _у_х_о_д_я_щ_е_е… не для себя все это, – для меня. Видела она, как одиноко мне, только все – в воображении. Но в ней еще не угасла – женщина, любимая… М. б. она томилась, что я, в воображении, в кипении, – ухожу – в другое? к другой? ищу – другим? Не знаю. Она не говорила, никогда. Но она знала, что я – могу увлечься. Она мне верила. Я – правда, не изменял ей, ни-когда! Но было мне больно, что «срывался»… – лишь в любовный флирт, – изменял в половину, никогда весь. Т. е. я не прелюбодействовал. Не переступал, физически. Мучил, да… невольно, но ее образ меня держал. Этим оскорблялись, бросали мне безумные обвинения – в обмане, – я не переступил. Не было _з_а_х_в_а_т_а, значит. Да, «вожделел» – и это уже измена, но не отдавал себя, не осквернил ее. Но для нее и «мысли» – были страшной болью.
Оля, поверь мне. Твои работы в живописи, твоя тоска по ней, – светом стали мне. Святым. Такое счастье! так тебя влило в сердце! Моя дружка, мой товарищ! Я не ошибся. Я тебя себе открыл, не тебе. Ты уже знала, только ты так скромна, укромна. Письма твои открыли мне тебя, твой дар, неоценимый. Твое душевное богатство – редкое. Ты – само искусство. Эта радость так мне светит, Оля!
Таким, в такой тебе, – я не могу шутить. Ты – мое сердце, моя душа, ты – повторяешь мне меня, – я _в_и_ж_у. Оля, умоляю, не убавляй себя, не погасай, – не подавляй – обидой, мнимой. Гори, свети, – радостная, от Господа, данная на радость Жизни. Оля, я склоняюсь, я целую землю у твоих ног, – вот как ты священна для меня! Как нерукотворенна! – я светом твоим живу, я – ослепляюсь духовной красотой твоей, – такой не знаю. Я – смотрю на тебя, _н_о_в_у_ю, – и – что с моим сердцем! И с пущей болью – сознаю, как я недостоин! Я вскрикиваю, когда взгяну-увижу – Оля! ты… такая! Свет льется от тебя. Оля! Останься незапятнанной, – ничто из слов моих не могло, не может тебя коснуться, – ты неприкосновенна, как самое священное, _н_е_т_л_е_н_н_а. Ты – все закрыла красотой души и лика, все взяла у меня… – и сохранила, сохранишь, я верю… – и отдашь. Прости мне мою, – если и вину, то внешнюю, обманную… – то, вне моего сердца, вне моей правды, – о тебе, – вне моего сознания. Ну, накажи меня, – только не больно, не очень больно. Будь я проклят, если тебя терзал. Я плачу над твоим сердечком, бедным, все отдавшим, – для других. Господи, дай мне силы, согреть, жизнью светлой наполнить сердце _ч_у_д_н_о_й! Оля, ну, погляди в _м_о_е_ – все ты поймешь. Простишь. Я не так виноват, не так, – я живу только тобой, я – смерть приму, все отдам – за тебя. Как же я мог о твоем чудесном, о неосуществленном, _п_о_к_а, – сожженном, так любовно мне открытом тобой, – так думать, покрыть его какими-то чужими потугами в искусстве – чужой мне вовсе..! М. б. тут было чуть от боли во мне? Нет, нет… я просто был с тобой откровенен, ты же меня корила, что я не все тебе говорю, что я не открываюсь… – я просто сказал – да, «пейзажи парижских окрестностей – муть в дожде» – И[рина] давала недурно. Но это не мой восторг. И – клянусь – в мысли не приходило твоего касаться. Твое – Святое, не походя могу о нем! Нет, не говори так: оно не _з_а_д_а_в_л_е_н_о, – оно – ты сама не знаешь, – выросло в тебе. Если будем когда-нибудь вместе, ты все откроешь, найдешь себя. Школа? Все будет. Ты гореть будешь, и святое, чем ты полна, изольется в _ж_и_в_о_е, в твои создания! Только с глазу на глаз сказал бы тебе, _к_т_о_ ты, и _к_а_к_ _я_ _в_е_р_ю_ в тебя! Глазами сказал бы, от тебя, от света твоего _п_i_я, сказал бы… _ч_у_в_с_т_в_о_м, нежной-нежной страстью. И ты ответила бы мне… – восторгом. Знаю, верю. Нежно снимаю слезы с твоих ресниц. Боль выпиваю – всю! – из сердца твоего – в себя вливаю боль твою. Пусть живет, светясь, твое неизреченное, чудесное! Вспомни: раньше, чем ты мне сказала о томлении искусством, я тебе сказал о твоем даре, о твоей душе _т_в_о_р_я_щ_е_й. Несравненная! Чудовищное мое письмо – не мое, это больное извращение, это – не от воли, это – провал. Вычеркни из сердца. Я все тебе сказал. Я правдой защищал себя. Ты сверх-умна, необычайно чутка, ты большой художник, но… тут ты все взяла в неверном преломлении. Я не мог так, я так не погрешил. Я в ином – оправдан заблуждением, страстностью ослеплен, я многого не знал. В ином – заслуживаю жалости. Прости. Я не понял о «слезах». – Ты здесь – на недосягаемой высоте, ты тут – верх великодушия. Я могу лишь молиться. Глупая религиозность доктора – никакой связи с Тобой, о Божией Воле. Клянусь! И не подумал. Нет, я никогда не считал тебя «примитивной». Я не слепой! Я тебя считаю чудом. Сколько я спрашивал: «Кто – ты?» Ты – непостижима. Ты – крик восторга, для меня. Ты – сверх-женщина. Ты идеал, какого и не постигают, еще не ищут. Я – искал его. Нашел – живую! Я не понял глубины твоего «на Волю Божию»! Прости же! Не мне тебя учить, – ты _д_а_н_а_ Господом, готовая. Я теперь все понял, я целую твои ножки, мне стыдно глядеть. Прости. Напиши все, если простила, что было… и о Б[редиусе] – трагедия – и о всей жизни, два-три письма. Буду с болью ждать. Целую. О, прости, Оля. Твой Ив. Шмелев
[На полях: ] Весь в твоей воле. – Я очень спутан: если не на все дал объяснения, скажи, что еще? Отвечу.
Я все сделаю, чтобы свидеться. Да! Я – почти уверен.
Я не дерзал поверить, что ты все отдаешь мне. Я знаю, как я недостоин. Молюсь на тебя.
32
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
28. Х.41
Пишу, Оля моя, еще, в дополнение (я уже все написал и отослал тебе), к объяснениям, которые ты затребовала, по поводу моего письма от 10 или 11.Х.
Я не мог же, – ни прямо, ни криво, – иметь в виду тебя, когда совершенно _п_р_о_с_т_о, без всякой скрытой мысли, а лишь описывая Ирину, – Бог с ней, совсем! – сказал о «горящей изнутри», при ее бледности лица. Ты мне, светлая моя Оля, и это вменила: я тебя… будто бы – «не пощадил», узнав все из того же письма, от 2.Х, о том, что «свежи еще у меня краски» (на лице), что я «воспел» бледность Ирины! Зачем же это, вовсе незаслуженное? Ты же мне о себе писала в открытке от 2 окт. (да!), которую я получил, – так у меня помечено на этой открытке, – 16.Х! Письмо за No, я же так дорожу твоими письмами! Не веришь? Если свидимся – увидишь. Там же ты писала, что Б[редиус] многое знает[68]. Только. Об объяснениях с Б[редиусом] ты ни словом меня не известила. Очень жалею, что так поздно узнал, да и – что я узнал? Могу теперь только чувствовать, как тебе было тяжело. Оля, умоляю: если тебе будет еще тяжелей, обратись за защитой к власти, к германской власти: благородные солдаты оградят тебя. Ты видишь – мы разделены – условиями жизни, я рвусь приехать, но это сразу не делается ныне, я мыкаюсь, в бессилии. Если твоя жизнь будет под угрозой от человека, который, быть может, неответственен за свои действия, во власти neurose, – ты же имеешь хоть право защищаться?! Ты сколько же лет жила жертвенно! Я надеюсь получить разрешение, я ищу его. Ты собой владеешь, ты имеешь огромный _о_п_ы_т_ от жизни, в такой тяжкой обстановке. Господи, только бы мне помог Ты, Сокровище благих! Оля, если обстоятельства _т_а_к_ вдруг обострятся, что тебе надо будет уйти от возможных ужасов, от человека, который может в любой момент утратить душевное равновесие и сознание ответственности за действия, извести немедленно, срочно: ты не одна на свете, ты знаешь. Немедленно, насколько позволят условия сношений, я приму все меры, переведу тебе средства, упрошу людей власти – помочь мне в деле ограждения тебя. Я в большой тревоге, в тоске великой. Господи, сохрани. Ты чудесно владеешь немецким языком – тебя поймут люди, у которых много сердца. Я видел, знал, сколько здесь, во Франции, немецкие войска спасли от гибели – бывших врагов своих, в первые месяцы французского разгрома. Тебе, угнетенной жизнью, женщине, русской… – я верю, – дадут защиту. Дай знать представителю русской эмиграции в Голландии, ты знаешь его адрес? Он окажет свое участие, содействие. Я понимаю: долго вынести такой жизни – сил у тебя не хватит, ты ослабла, ты – больна. Я связан условиями жизни, непреложными правилами, выполнение которых требует времени. Я ничем не возмущу твоего горького «покоя», не подам никакого повода, чтобы вызвать тяжкое для тебя. Господи, спаси.
К письму твоему – еще. Ты пишешь: «И „стих“ мой не увидел?» Ах, Оля… Я все чудесное твое так знаю, так храню в сердце. Как же я «не понял» сердца твоего биенья?! Но «стих» твой (это, конечно, ярчайшее выражение _в_с_е_г_о_ в тебе, сердца, души, нежности, ласки, заботы, великой святой любви, сверхчеловеческой…) я знаю. Давно _в_с_е_ понял. Но позволь, – (это, конечно, лишь формальное, пояснение!) – позволь сказать: твой «стих», чудесный, я узнал 16.Х, он в письме, с почтовым штемпелем Schalkwijk’a от 7 окт. Я не мог иметь его в виду в моем письме от 10–11.Х. Хоть в этом-то не вини меня! Я уж не такой бесчувственный?
Ты пишешь: «Не важно, что ты зовешь меня Святой… и т. д. Важно, _к_а_к_ со мной ты поступаешь…» Ну, я виновен… в помрачении… но – что же это… – «не важно», что я пытаюсь, посильно, для себя, определить, _к_т_о_ – ты? _к_а_к_а_я…? – для меня. И – называю. Это все живая правда. Это – истинное чувство. Мне – _в_а_ж_н_о. Это-то, позволишь? Это – светлое, чистое – от сердца, его _я_з_ы_к. Оно не в силах быть глухим, в молчании. Я в нем не властен. Если не велишь, – не буду, задавлю в себе. Нет, ты позволишь, ты же – любишь. А любовь, чистая, _т_в_о_я_ любовь – _т_а_к_ не может. Ты, умом, – можешь приказывать, но _с_е_р_д_ц_е_ не послушает его. И будет вечно _п_р_а_в_о. Говоришь, напоминая, как я называл тебя, – Святая, Прекрасная… «и все другое»… Не важно? Это твой рассудок, ныне боль – так говорит – «и все другое», будто отметает. А сердце… – плачет сердце, знаю. Как у меня. Оно, как заведенные часы, стучит _с_в_о_е, – пусть дождь, ночь, солнце, крики в доме, все, что в жизни творится…… – _о_н_о_ ведет _с_в_о_й_ счет, _с_в_о_е_ у него время, свой шепот… – пока живое, пока не лопнула пружина. «И все другое…» Разве тебе не нужно? Ну, на миг поверю. Но мне… – это же родится моим сердцем, это – Ты, такая, – для меня. Это – моя святая _п_р_а_в_д_а. _Ч_и_с_т_а_я_ она, ничем не подмененная. На «грешность» твою – я тебя толкнул? Что же, я принимаю, мне не стыдно, за мое чувство. И тебе не стыдно. Зачем упоминать? Оля, дорогая, чистая моя… – для меня _в_с_е_ _Н_а_ш_е_ – _Б_о_ж_ь_я_ _В_о_л_я. Нет, не стыжусь, а радуюсь, Свету в тебе – во мне – рожденному, – радуюсь и благодарю Его. И ты, я знаю, – благодаришь, ты веришь в Его свет: он послан, чтобы рассеять тьму, твою, мою. «И тьма не объя его»97. Так писал мой Ангел – Иоанн. Ты говоришь: «И как легко у тебя с „ошибкой“ получилось! Ну, прямо, „Полукровка“ Вертинского!». К сожалению, – теперь, правда, к сожалению, – не знаю, не читал никогда Вертинского98. Знаю, что он был не без дарования, распевая где-то для снобов, модных, охотников до пряной жизни. Пел каких-то «лиловых» негров99. Эту гниль я не любил, _ж_и_л_ другим, _с_в_е_ж_и_м. Как и ты. Напомни, приведи эту «Полукровку». Я предпочел бы _т_в_о_е, или – из Пушкина… Но тут, раз меня сравниваешь с «Полукровкой»… скажи мне, чтобы и я вместе с тобой – горько усмехнулся и – признал себя виновным и за еще – неосторожность в слове – за «ошибку». В чем моя «ошибка»? – Только в неудачном, «безвольном» слове – в мгновенном помрачении моем, от раскаленного, меня ожегшего воображения – им, через него я вдруг увидел себя гибнущим, во тьме тонущим. Ты меня _с_п_а_с_л_а, а тут – раскал воображения, страх, что теряю _в_с_е_ – вырвал у меня «ошибку». Прости. Неправда это, что мои «Пути Небесные» убиты мною… Оля, они не могут быть убиты: _е_с_т_ь_ они. Часть – в книге, ее знают, ею бредят. Другая – в моем сердце, а теперь – хоть крупки! – в твоем: я о них вчера писал тебе. Если сердце останется немного жить – роман закончится. Нет, «Пути» должны явиться. Я их несу во-имя Твое, Оля. Я их напишу – для тебя, Прекрасная, – я силен их закончить – тобой, только. Без тебя – не родятся, _н_е_ _м_о_г_у_т. Ты дала мне силу, волю. Ты их – оживишь, ты – поведешь, ты – их закончишь, мной. Тебя не будет – ничего не будет, для меня, во мне, и – из меня: меня не будет.
Ты пишешь: «Я уничтожила 2–3 письма о драме с Б[редиусом]… об унижении…» Кто мог тебя унизить?! Тебя?! Ты – унижалась?! Ты?!! Столько жертвуя, го-ды… – ты могла унизиться? Не верю. Если тебя унизили… что же – будешь продолжать, терпеть? Во-имя чего же? Что _с_п_а_с_а_я? Ты давно _с_п_а_с_л_а, _с_п_а_с_а_л_а… – Оля, лошадям дают покой… всю душу измотала жизнь, твою… И – еще – уни-же-ние?! Не постигаю. Прошу – открой мне, все напиши. Не хочешь – воля твоя, молчу.
О, нет, за «тетей» эмигрантских я тебя не принимал. Зачем это-то еще? Ты знаешь, за _к_о_г_о_ я признаю тебя, – для сего и имени не нахожу тебе, – _к_т_о_ _т_ы?! И сердце шепчет – сила, гений, – Дар тебе, недостойному! Да, правда. Я не скрываю. Дар. Зачем же так? Нет, я его вижу, осязаю, живое твое сердце. Я его слышу, чуткое его стучанье, мне – биение… и – мое ему. Сказать мне больше нечего.
О «котлетах» – к черту! – Эта пошлость – для пошлого, я уже писал. И, говоря об этом, пошлом, – о «чистой» тени мысли не было. Чистая всегда ограждена. Своею _ч_и_с_т_о_т_о_й_ – во мне. «Теперь уже поздно»? – написала ты мое безумство. Говорю – «безумство» – верь, это правда. Ну, я ничего не помню, я был в кошмаре. Я не понимаю, как, когда я посылал? Не помню, я был во тьме. Не обвиняй. Не помню. Ну… прости! Но – не повинен, не было сознанья. Теперь – _н_и_ч_е_г_о_ не понимаю.
Про «слезы», что это на бумаге влага от розы… – помню: утратил чуткость, не понял, до чего ты бережна ко мне! Это – мой провал. Прости. Теперь молю, тут я не до-понял. Все – от одного, от потемнения. Я дней не видел. А ночью – ничего не видел, мученье, только.
«Глупо-религиозный» доктор… О тебе и мысли не было, клянусь.
Но так я никогда не кончу. Все равно, ну, не жалей, не прощай мне. Ну, не могу больше. Я все тебе сказал. Раньше, сегодня, и сейчас. Голова устала, 2 ч. ночи. Я устал… я – ну, не могу я больше, больно мне.
Но вот что. Пусть больно, очень больно мне, пусть я преступник, камень, злой, тупой, пошляк… игральщик сердцем. Хорошо. Пусть. И – я счастлив, страшно счастлив! Благодарю, Оля, свет мой, чудесная! За _в_с_е_ благодарю! Это твое письмо – необычайное. Никто такого не мог бы написать. Это – да, я теперь отрешился от «себя», я теперь лишь ценитель. Я в восхищении. Т_а_к, _п_и_с_а_т_ь, – ! – так тонко, так глубоко, так потрясающе, так _т_и_х_о, так _п_о_к_о_й_н_о_ крикнуть..! – только ты могла. Ты – гений. Это для меня – бесспорно. Вот какая ты! Такого – ни один Великий не мог бы дать в романе! Заставить героиню – написать. Я целую эти _б_о_л_ь_н_ы_е, – эту боль мою! – эти живые, трепетные строки. Благодарю! Ты одарила, меня, себя. Это же – верх искусства, искусства-сердца! Только _т_в_о_е, только ум твой, твой гений – да, и мне ничто не запретит так говорить! это я могу доказать!! – твоя душа – могли _т_а_к_о_е… величайшее, что я когда-либо читал. Это – предел. Как же ты, Оля, мо-жешь так говорить о Даре Божием?! – о Талантах? «Их просто нет». Вот – явь! Свет мой, целую, – позволь, Оля. Твой всегда. Ив. Шмелев
33
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
[30.Х.1941]
ИвОчек, Ивчик мой, И-ву-ленька, душенька родная!..
Ну, что ты делаешь с собой? А со мной? Тебе не жаль? Я уж тебе писала, как мне. И почему. И что не надо, нет надобности меня «уговаривать». Разве ты все еще не понял? Не понял, что и без «уговоров» я вся твоя, в одном полете – к тебе. И вот _т_а_к_у_ю… держит… не только кто, а и что… Как больно… Все твое понимаю. Т. к. сама страдаю так же! И… _т_о_г_д_а_ же. Да! Ужасно это было 21–22-го! Видишь, как я тебе открыто. А 22-го, после зова тебя, любви ужасной – твое письмо от 10-го, ужасное письмо. Оно хуже, во 100 раз моей открытки. Эти «2 строчки» ты не понял. О, как не понял! Почему ты все видишь хуже? Послушай, я тебя боюсь… Твоего «пожара»… Правда. И еще того… что ты… такой… всеобщий. Ты _т_е_п_е_р_ь_ только – мой. А дальше? Я боюсь Парижа, друзей твоих. Не смейся, а пойми!
А после твоего письма, 10-го, я так была убита… Ты стал такой… «мужской»… такой… будто я вошла нечаянно в мужскую компанию. И… как смутилась. И все другое было так… больно. Зачем ты это сделал? У меня в жизни было много муки, но нечто вот такое, что мне мелькнуло сходством в письме том, – было пределом муки. И я боюсь!.. Я тогда ушла… Ты пишешь об инженерше и о «жизни или смерти», – я эту постановку испила тогда до ужаса. Только роли были наоборот. Это был – _у_ж_а_с. Я им-то и надломлена. Но нет, это не он, не 10 лет назад… Я тогда была 19 лет только, и несла это до 22-х! А ты знаешь, что ты – ревнивец… да, да. И я боюсь тебе все открывать! Все из _о_п_ы_т_а_ же вынесла! Вас, мужчин, надо очень остерегаться! (Вышло как-то на манер горничной «Вас – мужчин»). Но это – истина… Скажу только, что, нет – не обладал… Ни кавказец, – и никто… Ну, до… 1937 г., конечно. Успокойся! Иначе было бы все проще, _к_у_д_а_ проще! Скажи, обязательно, скажи – в чем мои изломы? Мне для себя это надо знать. Только я с тобой – пряма. Я тебя никогда не «разжигаю». М. б. невольно?! Ах, вот о деле: я сержусь на тебя за М[арину] Кв[артирову]! Зачем, и что ты рассказал? Пойдет сплетня? Я вчера ей как раз открытку послала – просила портрет выслать. Она неисполнительна. Тогда держала письмо твое 3 мес.!
А о Земмеринг… знаешь почему я спросила «кто» она? Она меня, не зная, не видя, незаслуженно… лягать хотела. Не веришь? Да, да! Не забывай: тебя любят! И любовь к тебе – не значит и любовь ко мне. Особенно женщин! Милушка мой, тебе многие… не простят меня! Считайся с этим. Примеров много. Я не ошиблась во впечатлении от письма З[еммеринг]. Дала, не говоря ничего, его прочесть Сереже. С. – умный, без тени «изломов», трезвый… «Кто эта стерва?» «Чего это она тебя лягает, – ты с ней, что ли, в переписке?» Понимаешь? Та _т_е_б_я_ ценит, тебя любит (пусть только читательски), а меня?..
Не пиши ей ни звука! Молю! Берлин – для меня базар. Меня там слишком знают. Опошлят наше! И подумай: ты там… к тебе все льнут, идут, ты взят… Н[аталья] Як[овлевна] – счастлива тобой… ты гость… Ну, и… ради приятности… конечно допустят О. А… Ты же там разорван будешь людьми. А я? По уголкам у Н[атальи] Я[ковлевны] с тобой шептаться? Нет! Это мне – тяжело! И… главное… самое главное… меня не пустят! Уже не пустили. И _т_у_д_а! Разрешение на визу ты получишь только через германские власти, Wehrmacht[69]. Женщину не пустят. Не могут ничего сделать «местные власти», например Голландия, Бауэр и т. д. Только – германские… Я думаю, тебе легче. Ты мог бы сказать, что нам необходимо по твоим литературным делам, по делу увидеться. Ведь это даже отчасти – правда. Все наши «дельцы» ездят по своим делам «geschaft’aм»[70]. Почему же писатель не может? Я думаю, что они даже поймут. Связи – все. Наш батюшка ездил.
Сейчас ко мне воробушек в окошко стукнулся. Ты это? Не не хочу, а… не могу. Против воли не могу получить для себя поездку. Никому обо мне ничего не рассказывай. Ты – слишком велик и на виду, – а люди злы. Изгадят так, что и не заметишь. Я не о Квартировых. Но ты знаешь, как подобное сенсационно? Посылаю тебе одновременно еще письмо с маленькой фото – японка100, и еще одно101 – собственно только «gutachten»[71], «Anamnese»[72] (не сделала ошибки? Уже забыла эти слова!) об Арнольде. Думаю, что это тебе знать важно.
Здоровье мое все истрепано. И как все кончится – не знаю… Ты меня немножечко пойми! Хорошо было бы уехать и отдохнуть, ну, хоть… в Швейцарию! И ты бы! Ах, ах… забыла! «История любовная» и «Свет Разума» – уже здесь! Я Тоничку теперь совсем еще иначе увидала. Ты – ты _т_е_п_е_р_ь_ такой! Боже, ты весь! Ах, Тонька, Тонька!.. Нет, у тебя там не «много любвей», – а одна, единая, Единая, невоплощенная… Как, искал! И как нашел счастливо!








