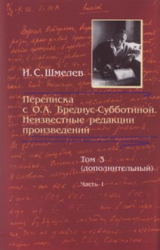
Текст книги "Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Том 3 (дополнительный). Часть 1"
Автор книги: Иван Шмелев
Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина
Жанры:
Эпистолярная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 59 страниц)
Пиши мне ласково, нежно… – это облегчение моего постылого одиночества, моих глубоких скорбей… верь мне, как самой себе. Что ты насочиняла! «„Любовь“ – в кавычки! – твоя ко мне – _н_е_ мне». Нет, ты должна отделаться от этой дикой мысли. Оля, всем этим недоверием – ты _р_а_н_и_ш_ь_ мое большое чувство, к тебе! Зачем испытываешь меня?! Я опускаю руки, теряюсь. Вчера опять была тревога после 10–15 дней покоя. И мне перебило сон. Я лежал и слышал, как поют моторы, как грохает «защита». И – о тебе думал, – слава Богу, покойно в глухой деревне… «Господи, укрепи Олюночку мою… огради ее, даруй мне ее… хоть бы увидеть только!»
А припадки тоски часто у меня… и это отзывается на «спящей язве». Иногда я ее слышу, и принимаю белладонну. Эти дни были ночью боли. Теперь трудно соблюдать диету, многого нет, а я привык к молоку… теперь же – только пол– или четверть литра! Бывало, я выпивал полтора. Хорошо еще – достаю сухари белые, а хлеб не по мне, должно быть, добавляют ячмень французские пекари, – не переношу. И нет «су нитрат-дэбисмют»[165]. И Серов не может добыть, хоть и в госпитале французском работает – кажется, единственный из русских врачей, без парижского диплома допущенный, «приглашенный» даже в госпиталь Ляонек, с жалованием в… 500 фр. в месяц! Смех? Это составит… 20 гульденов. Скоро ли ты напишешь, что тебе лучше? Прошу, молю. Не будь жестокой, Оля. Твои два последних письма – закрытое – 21298 и открытое – 22 – больно было читать. И – до-садно! Ты все-таки, несмотря на мое разъяснение, не хочешь понять оброненное Серовым словечко «увлекающийся». Это значит – _ж_и_в_о_й, душа все еще в порывах, немертва, молода. Сегодня муж Юли принес мне рыбы и шоколадный порошок – вроде какао. Но сегодня же я получил и полфунта – 240 г – хорошей баранины, сварил суп-лапшу, сыт вполне. Скоро, м. б. лучше будет. Вот, выдали полфунта варенья, фунт цветной капусты – которую я не ем, – нельзя! – фасоли зеленой – тоже не годится. Мечтаю вернуться домой, но без тебя – не поеду. Я должен перевезти и прах Оли, похоронить на родине. Если бы мы очутились в нашем домике, под Алуштой! Я его мало дал в «Солнце Мертвых», – больно очень. Ах, как черные дрозды поют по весне там! «Вон он сидит на пустыре, на старой груше, на маковке, – как уголек! На светлом небе он четко виден. Даже как нос его сияет в заходящем солнце, как у него играет горлышко. Он любит петь один…»299 О, милая… ты положила бы головку мне на плечо… я сердце твое услышал бы… и слезы, слезы… в моих глазах… последнего счастья, обретенного, слезы… в лобик тебя поцеловал бы… – и увидал бы слезы в твоих глазах. Поверила бы мне тогда? Теперь поверь. И не томи себя: Ваня – всецело твой, только тебя и любит, крепко, достойно, нежно, чисто. Живи, оживотворяй себя верой, что наши чувства друг к другу не мимолетны, неслучайны: надо было, чтобы ты _н_а_ш_л_а_ себя, чтобы я нашел в тебе последнюю радость жизни, и силу – достойно завершить свою творческую дорогу. Милая моя птичка, утишь сердечко, и не укоряй меня: вот моя совесть, перед тобой.
То, что ты написала – показывает мне, как мало ты считаешься с моим чувством, как ты не доверяешь мне. Кто же я по-твоему? Лгун, пошляк?.. Не причиняй мне боли, – с меня довольно ее. Целую. Твой Ваня
[На полях: ] Пришли же «Куликово поле» – в красках. И – автопортрет.
Напиши – сколько прошу! – о здоровье! И – Оля! – будь же тихой, неясной. Не томи.
139
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
1 мая 1942 г.[166]
Бесценный мой Ванюша, любимый, нежный!
До чего я вся к тебе тянусь душой… Чувствуешь ли ты это? Вчера у меня прямо замирало сердце при думе о тебе, – целый-то день! К вечеру взяла тоска. Что с тобой, василечек мой? Ночь всю ты и о тебе (тебя самого не видала) снилось. В тревоге я вся… Что такое? Господи, м. б. мое дурацкое письмо пришло? Кажется, я его 20-го или 22-го послала? Ты расстроился? Разволновался? Ваня, милый, выругай меня! Я, гадкая, о себе только думаю. Но это «о себе» из любви к тебе! _В_е_р_ь_ же!
Умоляю тебя: прости меня! Мне кажется теперь, что ты меня никогда не простишь! Ванечек, я на коленях перед тобой! Я молюсь на тебя! Я так люблю тебя! Светлый мой! Прости, прости, солнышко мое! Какая я скверная! За что я тебя расстроила. Ну, потерпела бы уж! Пождала бы писем! А я тогда навоображала. Я же Бог знает что _в_и_д_е_л_а. Но как (!) видела! Хоть пиши! Я и хотела уж, т. е. в голове так проносилось!
Прости мое безумие, мой чудный! Ваня, Ванюша мой, прости!! Будь покоен опять, радостен, уверен во всем хорошем! Да, мама умеет спокойствие вселять. А я вот не умею, нет! Я совсем другая! Твое письмо маме чудесно!300 Она мне его дала прочесть. Дивный ты!! Ваня мой милый, роднушенька, душенька ясная моя! Ваня, я м. б. одержимая, но слушай: я все это время, несколько недель как-то «осязательно» чувствую… что м. б. твой Сережа жив. Я не знаю отчего это. Но иногда я просыпаюсь с еще не осознанной радостью, умом не осознанной… сердце сладко жмется… думаю: «что бы такое?», хочу вспомнить, просыпаюсь окончательно и знаю уже, ясно знаю, что это от надежды, что Сережа жив. Я говорю «надежда» – осторожно, но в душе у меня (абсурдно?) прямо будто знание, вера… Прости меня, Ваня, что так об таком святом тебе пишу. Но я до того себя как-то странно чувствую, так сжилась с этим, что не могу не поделиться с тобой. Ну, считай это моей истеричностью… Не знаю. Но неотрывно о твоем Сереже думаю…
Не может этого быть? Ты уверен, что его нет? Господи, как же это ужасно, – вот его однополчанин жив, а его нет!.. М. б. я потому о С. так думаю, что его Дух с нами? Прости, если я тебя растрогала, расшевелила рану. Как я люблю всех вас. Тебя и твоих дорогих! Сегодня мучилась в снах… Сперва мне снилось, что ты непременно хочешь, чтобы я надела какое-то платье. Но все путается: это ты, по чувству моему к тебе, по всему _з_н_а_н_и_ю, но говоришь ты так, как муж сестры Арнольда, русский301.
Его жена развелась (или он с ней, не знаю) с ним, – и вот будто ты говоришь, чтобы я надела платье «первой жены». И я знаю, что это она, В. М.302, – не Ольга Александровна твоя. И думаю, что все это так странно. И дама эта очень полная (я ее знаю), и как же платье я смогу надеть. Но я уступаю просьбам и надеваю. Оно все из серебра (плохо?) и точно влитое, как раз по мне, будто на меня. И очень декольтировано. Я боюсь посмотреть в зеркало, – такая худышка, а с декольте… но вижу, что я совсем не худышка и очень красиво это платье. Но я думаю: «мне не идет серебро, – я бы хотела лучше золотой брокат»[167]. Мне желтый цвет очень к лицу. И я все время тебя чувствую, за спиной, но не вижу. И ты будто тоже большой и полный, как муж Елизаветы. И я хочу тебя увидеть, но не могу и мучаюсь этим очень. И потом все в обществе, в этом серебре… А туфли… вижу худые… И так мне неловко… И я в роскошном ресторане, масса красивых женщин. Я стесняюсь за туфли. И все какой-то около меня юноша, мальчик. Был такой однажды случай – влюбился в меня один мальчик, – похож на него. И я так боюсь, что заговорит о любви. И хочу ему помешать, не говорил чтобы, чтобы понял, что я не хочу! И все уйти, уйти хочу, а он все просит посидеть и вина выпить. Я вижу большой стол и за ним все священники наши, какие-то славяне. Я к ним сажусь, чтобы мальчик отстал. Но он тут же. И мне это мучительно. Священники из Праги… Потом я на улице, жду почтальона. Получаю твои 3 письма. 2 открытки и закрытое. Долго думаю как мне надо расписаться на чужом каком-то языке, целую фразу. Читаю твои письма и не могу ничего понять. И вдруг вижу, что все это рисунки. Девочки и цветы, цветы… И я ничего не понимаю. И вот улавливаю буквы: «Оля, я думаю, что тебя утрачу, это не может быть иначе…» Это так ужасно. И я ничего дальше не могу понять. И все эти писания написаны на крышке конфетной коробки, а не на бумаге. Я, мучаясь, просыпаюсь. И все о тебе думаю. Здоров ли ты? М. б. я опять заболею. Боялась почти, – думала какое грустное твое письмо. Но ничего не было. И еще тоскливей. У меня нет минуты, чтобы я о тебе не думала. Ты, Ваня, знай, что, что бы я ни писала, я всегда твоя – «Оля». Коли злюсь за твое молчание, надумываю страхов, то это только из любви же! Ванечка мой милый, дорогой!.. Так много думаю о тебе! Ах, я ничего не «надумываю», когда боюсь за переписку нашу. Я просто вспоминаю то время, когда мы месяцы ничего не могли узнать друг о друге. И вот чего-то мне представилось, что вдруг да, опять так…
Я м. б. от болезни своей, так стала пуглива.
Ванёк мой, радость моя, – мне лучше. Определенно, я выздоравливаю. Я глотаю твой селлюкрин и мне кажется, что это он именно дает мне силы. Я постоянно хочу есть. И ем.
У меня уже слегка румянец. И под глазами не так черно. Я радуюсь здоровью! Это ты, ты мне даешь силы, нежный ангел! Я принимаю селлюкрин и говорю себе: это Ванечка хочет, чтобы я была здорова! Я уже готовлю «исподволь» обед. Я кое-что могу уже делать. О, не бойся, я не устаю. Я до позора лентяйка. Встаю только в 1/2 9-го! Мама уж чай устроит. Я на готовенькое встаю. Ванечек, разумник, умник, все ты знаешь: даже рецепт твой кормления ягняток пригодился – мама остальных всех выкормила, так, как ты писал. О желатине для меня, очевидно, тоже верно, т. к. мне и в детстве тогда, когда истекала горлом кровью, давали лед и желатин. Я тебе писала об этом когда-нибудь? Я чуть не умерла тогда… Лет 6-ти. И в 1940 г. я сама еще до доктора просила желатина развести прямо в кипяток и пила, чувствуя инстинктом, что надо. Не знаю смогу ли достать желатину, у меня пока у себя есть. Я много пью разных соков. Кончу когда селюкрин, начну снова «Tonicum», a потом еще есть у меня одно средство очень хорошее еще из Берлина. Я на себе испытала их действие (конфетки)[168]. Если Бог даст! Я теперь боюсь что-нибудь загадывать. О луковицах гиацинтов я могу тебе только то сказать, что мы делаем с нашими садовыми: когда отцветут, то цвет все оборвать, еще до их засыхания (но это на свободе, когда они оплодотворяются) и мало поливать, пока поблекнут листья. Около июня (конца) луковицы вырывают из земли и сохраняют до следующего года в сухом месте. Мы храним их на чердаке. Цикламен я обычно так и оставляла в горшке и он цвел на другой год. А не знаю правильно ли это. Твои ландышки я высадила в сад, но не знаю, что выйдет. Так холодно, а держать их в корзиночке уже нельзя было. Корешкам пора было уж высадиться. Погода катастрофальна[169] для сельского хозяйства: холодный суховей! Ничто не растет. Скоту взять нечего. Наши коровы все еще не согнаны, а доедают пока что остатки сена и законсервированной травы. У других же, у кого запасы кончились, – коченеют на пустых полях. Ужас, если так пойдет и дальше!
Продолжаю в 10 ч. вечера… Пошел дождичек. Чуть-чуть, но м. б. разойдется. Не разошелся, 2-го мая, сегодня – солнце![170] Мама массу работает в огороде. Увлекается, любит это. Мы с ней много занимаемся(лись) и садом. А твои ландышки растут? Как мило это все у тебя! Ванёк, прочитала написанное, и стало мне как-то не по себе: не надо мне было писать так о своих «подчувствах»? Прости мне! Мне так все, все хочется тебе рассказать! А я твоих люблю тоже очень. Я молюсь всегда о них.
Ванюрочка, м. б. я слишком много живу в снах и предчувствиях. Тот сон с Пречистой я не приняла за знак иноческого чина. Я даже не подумала о таком значении. Мне думалось другое: м. б. обратное, чем для той сухой смоковницы?!
Но я ничего уверенно не думала. Я не знаю значения слова «Елизавета». Ванёк, мой, мне очень хочется для тебя и писать и рисовать. Но я, не ломаясь, скажу тебе честно, что у меня ни разу не было чувства, что у меня что-то выйдет. И потому я живопись бросила, а писать не соберусь. Ты понимаешь? Я тебе признаюсь: я уже начинала писать, еще до тебя. И бросила. Мне тоскливо было читать свою бездарь. Я, право, не ломаюсь, а говорю то, что есть. Но я теперь, в радость тебе буду пробовать. А ты – ты суди! Ты все должен знать во мне без прикрас! Сегодня мама читала-перечитывала «Няню», – мы опять и опять в восторге. И я слушала и думала: «ну разве можно хоть похоже на это создать?!» Я себя чувствую такой мизерной по сравнению с тобой! Тебе бы служить хотела!.. Ах, Ванёк, сегодня так красиво было: на фоне тучи, свинцово-синей чуть-чуть распускающиеся сливы и ярко-зеленая трава под ними вся в солнце с противной стороны от тучи. Хотелось «схватить». Но вижу: в хозяйстве будет мало времени. Поправлюсь, и надо стать хозяйкой… «Марфой»! Хуже Марфы! Мешает, тычется кошечка. Она собирается стать мамашей. И нрав ее даже изменился. Вся ластится, ищет ласки. Она удивительная. Мы с мамой любим ее, как дочку, – она, ночью, когда хочет впрыгнуть на кровать, то сначала курлыкнет-спросит, нежно-нежно, и если ей мама ответит: «ну иди, киса», – то и вскочит. Не терпит конкуренции и, если котишка на ее месте, то и уйдет, ревнует. Впрочем теперь она его вообще избегает и даже лапкой ударит, если тот вздумает «ухаживать». А так очень нежны, – по утрам целуются форменно, как люди, трутся мордочками и обнимаются лапками, только не смей котишка «ухаживать», тогда она озлится! Умора! У кролих обеих маленькие. Обычно нельзя рассказывать, но тебе-то можно. Позавчера у мамаши, а вчера у дочки. Лежат груды пуха и ничего не видно. Господи, до чего же все мудро!
Ваня, я читала Сургучева…303 ты его ценишь? Или нет? Мне он очень не нравится. Все ищет себя-то выказать. А и нечем! И кому интересны его расписывания… Ты маме сделал приписку о Вал. Гор.304 Ты не читал его? Но разве ты не читаешь то, что он пишет? Ответь! Он так мерзко иногда проявляется! Жаль его, если он несчастен, но все же… Получил ли ты мою цветную обложку для «Куликова поля»?305 И не очень ли разочарован? И «портрет»?
Получил ли также и письмо мое, где я писала об оптимуме моего профессора?306 Мне интересно. Почему ты перестал писать на Сережу? Ему же не трудно! С. тебя очень любит! Опиши мне как ты провел Пасху. И как твой друг Серов! Благодарю его за советы мне. Он очень мил! Привет ему! Рада была бы с ним лично познакомится. Вообще со всеми и всем, кто тебя любит. Ванюша, получил ли ты мое письмо из клиники, с пасхальным яичком, нарисованным губным карандашом? И еще одно письмо с разными цветиками. Или они выпали? Я тебе много из клиники писала, давала сестрам (иногда и чужим, т. к. моя бывала свободна). Дошли ли? Посылаю тебе сегодня наш такой знакомый герань, лапкой, – знаешь? Он у меня цветет буйно. Я за все время эмиграции нигде такого, нашего, не видала, а этот в Wickenburgh’e нашла и отсадила, «уворовала». Чудно пахнет! Ванюша, я вся ухожу, растворяюсь как-бы в этом чудесном весеннем… И каждой тучкой, каждой веточкой, каждым цветочком приникаю к тебе, обнимаю… слышишь ли? Ванечка, я поправляюсь!! Оля
[На полях: ] 2.V.42 Я вся полна тобой. Невыразимо, несказанно. Какое счастье знать, что ты есть там, хоть и вдалеке, – и что ты любишь меня! Ваня, мы должны же увидеться! Я впервые ощущаю радость жизни, и впервые начинаю не бояться (кажется так) смерти, ибо _т_а_м_ – мы неразлучны будем!
Душа моя! Будь радостен! Твори, Ваня! «Пути» ждут тебя! Твоя Оля
Мне кажется, что Лукины другого склада люди. Думаю, что они на некоторые вещи совершенно иначе смотрят, чем ты, – потому не будь очень доверчив. Конечно, если это так! Я не знаю.
140
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
4. V.42[171]
Девочка моя дорогая, светленькая Олюша, спешу сказать: едут к тебе мои «пасхалики», – три, христосуюсь с тобой за _т_р_и_ Св. Дня любви нашей: на Пасху 1940 г. (уже привязался к тебе!), на – Пасху 41 (почти _в_з_я_т_ы_й!) и 42 – весь твой. Поцелуй их – меня. И еще – если не отберет французская таможня – «фиалочка» Гэрлен. Повезет завтра m-me Boudo, сестра караимочки «Roussel», – писал я как-то! Думаю, что приедут раньше этой открытки. Сегодня 2 твоих чудесных письма – ах, какая же нежная, чудесная девочка, когда сердечко твое покойно! Спасибо, целую. Благодарю за автопортрет, но личико у тебя тут вышло жестковато, ты – сама – прелесть-свет, в натуре, я это _в_и_ж_у_ по твоему фото. Глаза почти не твои, – холодны. О, я тебя так _з_н_а_ю! Ольгунка, как хочу, чтобы ты со мной была, _в_с_е_г_д_а! Мой «вечер» – кажется, 7.VI307, в 4 ч. дня. Вспомнил. А потом – буду хлопотать о поездке. Болей почти нет. И были-то – отраженные. Целую глазки. Твой Ваня
[На полях: ] Оль, жду обложку в красках! Будь здорова, не смей работать, ты скоро будешь вполне здоровой, сильной.
Я помню день _т_в_о_е_г_о_ рождения – 9.VI!!!
141
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
9. V.42
Ваня мой родной, горячо, нежно любимый мой Ванюшечка! Солнышко родное, ангел светлый мой! Я недостойна писать тебе даже, недостойна ждать, надеяться получить твои письма!
Ваня мой, прости меня! Письмо твое от 30-го – 1-го… меня так и обрадовало, и опечалило. Я сама негодная готова себя избить! Почему не удержалась? Не дотерпела до твоего письма. Настроила страхов!? Вань, мне так больно от слов твоих: «что же я лгун, пошляк?» Ваня, не смей такого и в форме вопроса говорить о себе! Не смей! Я бы убила себя за то, что тебя довела до этого! Ванечка, я презираю себя. Я самым дорогим клянусь тебе, что если говорю тебе: «я наскучила тебе», то не твое легкомыслие в отношении меня чувствую, но только и только себя надоедной, скучной, нудной вижу. Я вечно боюсь, что твое очарование, твое воображаемое боготворение – пройдет. Ты неминуемо по-моему должен разочароваться, т. к. я не такая! Ничего я не могу с собой поделать, если так чувствую!
Не желание тебя _о_б_и_д_е_т_ь, но сознание своей ничтожности! Пойми, Ванёк! И прости, прости, радость моя!
Я не буду больше так! Умоляю тебя, Ваня! Нет, я никогда не «испытываю твоих чувств». Никогда! И больше всего страшусь боль тебе причинить. А ты думаешь, будто я тебя нарочно так! Я знаю, что я виновата, – ты можешь так сказать, но, Ванюшенька, это не так! Клянусь тебе!
Если бы ты был со мной, то поверил бы! Ванюрочка мой, ангел мой, только не разлюби меня, не оттолкни! Мне иногда кажется, что ты не простишь мне, что я тебя утрачиваю… Ужасно. Ванечка, прости! Умоляю тебя!
Прости! Не перестану просить, пока не «отпустишь».
«Не терзай, не будь жестока!» Говоришь ты… Господи, счастье мое, неужели я тебя терзать хочу?! Я не писала о здоровье, т. к. может быть ничего нового не было. И потом, я боюсь, боялась тебе наскучить вечными разговорами о болезни. Тогда у меня была легкая Temperatur[172], доктор думал что легкое воспаление пузыря от катетера.
Но все прошло. Я давно молодцом. Только слаба. Вчера у Фаси была, но очень устала. М. б., (заветно мечтаю!) завтра к обедне в Амстердам! М. б. услышу «Христос Воскресе»! Если бы! Ванёк бесценный мой, я угнетена твоей «язвой». У тебя боли! А ты обманул меня 29-го, ты написал, что давно не болела. А 30-го говоришь, что «последние дни боли ночью»! Мне это хуже всего! И м. б. я еще испортила?! Готова разбить себя о камни! Ваня, напиши подробно! Ванёк, спроси Серова! Я сегодня же звонила своему доктору с просьбой достать тебе bismut hypo-nitrat (это то, что тебе надо?). М. б. достанет. Когда будет у нас Л[укин]? Я попрошу его взять! Умолю. И еще я тебе давно делаю маленькую штуку… м. б. понравится тебе. На смену «грелочки», для лета… русскую рубашку вышиваю, ее ты можешь носить как пижаму ночью, или, если хочешь, в жару и утром, или днем, когда работаешь. Она выходит приятная. Холодит шелком. Не надоест, думаю, и вышивка (я ее частью сама составила), негрубая, однотонная, тоже не надоедная. Хочешь? Сама бы ее тебе надела, обняла бы тебя в ней! Есть у тебя небось уже?
Ну, это от меня пускай будет! Как вот только перешлю?? Хотела сюрпризом, но не утерпела, Бог знает когда дойдет… Я ее давно шью. Каждый крестик – ласка тебе, т. к. в каждый из них я любовь мою «вшиваю»… Это все – капельки из сердца моего к тебе! Так и знай! Каждый день шью и вечно с тобой! Я люблю тебя… глубоко и очень, очень. И я влюблена в тебя… трепетно и так весенне-юно! Ваня, никогда не думай, что одинок ты, – я ведь так же одинока!! Поверь же мне! Никогда я не думала, что ты легкомысленен, когда писала «увлекающийся». И я не сказала «кем-то» только, но и «чем». Я знаю, какой ты. И я чувствую себя такой мелкой, что все время боюсь, что ты такую не станешь любить. Потому только и боюсь. Пойми! Ванечка, мой бесценный! Пишу перебоями: сейчас еду в Amsterdam – сижу на вокзале. Ах, Вань, как мне мучительно знать, что тебе не так живется, как надо. Ужас это – беганье за 1/4 л молока… русскому великому писателю. И какая же горечь мне, что ничего, ничего-то не могу я тебе сделать. Послушай, дружок, если тебе хоть как-нибудь можно приехать, то устрой это! Я вылечу тебе «язву», хоть на время. У меня все есть! Я бы с такой любовью за тобой ходила! Моему котишке лучше, чем тебе: ему не надо ходить за молоком. И какое (!) получает! Никаких цветных капуст и фасолей! Я нашла бы для тебя чудную диету! Ванёк, я не ною, но если можно, то приедь! Ванёк мой, я узнала, что у нас есть этот нужный тебе alkali (да?) – bismut-hypo-nitrat. Только надо рецепт. Будь добр, скорей пришли мне эту формулу, от Серова. А я дам моему доктору переписать и куплю. Очень, очень трудно уже его найти, но в 2-х аптеках еще есть. Но они спрашивают рецепт и точно соединение, т. к. будто надо осторожно принимать, спрашиваю от какой болезни, говорят, что не безопасно. Заставь же Серова дать этот рецепт! Умоляю! Скорее, а то пропадет пожалуй! Об этом возмутительном «вознаграждении» С[ергея] М[ихеевича] в 500 фр. могу составить точное представление. То же самое было с нашим «кавказцем». Он – первоклассный врач (у него двери ломятся теперь от пациентов), с местным дипломом даже, а т. к. «бесправный», то шеф его, как «главного врача» пригвоздил к клинике день и ночь за 50 марок! Представляешь? Он тогда стеснялся мне это сказать и плёл что-то. Его друг, возмущенный такой эксплуатацией, сказал шефу, что это обидная плата. На что тот сказал в переводе на наш язык: «для этого нищего, глотателя голодной слюны и этого достаточно!»
Ах, еще целая страница! Ну подумай! Каково! Этот «глотатель» не смел даже воскресенья для себя иметь. Не смел курить в комнате, т. к. это все в клинике. Не мудрено, м. б., что у него и на меня срывалось. Ну, а со мной как было? Так же! Еще гаже, м. б. Но, Бог с ними! Для меня эта пора была хорошим жизненным уроком. Я научилась и работать! Ну, мое золото, кончаю, т. к. скоро поезд, а я хочу скорее, скорее отправить, чтобы ты смог скорее спросить Серова. Жду! Заказала держать для меня, но не обещали, т. к. это последние запасы и больше не будет.
Целую крепко, жарко, нежно… люблю, моего Ваню! Пиши о здоровье! Молюсь!
Оля
142
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
14. V.42, русское 1 мая!
2–4 ч. дня
Здравствуй, родная моя птичка, ласковая моя, нежная моя голубка!
Ну, какое же хорошее твое письмо! Давно не получал такого, – верю теперь, что ты начинаешь опять быть Олей, Олюшей, Ольгушкой славной. Ах, ты, моя расчудесная! Ну, наконец-то веришь, что Ваня твой, весь и до конца – твой. Ну, дай мне глазки, добрые, любящие глазки – сказки. Верю, что ты начинаешь набираться сил и веры в себя. И чтобы никогда-никогда не слышать мне твое истерзанное, рожденное болезнью, – «бездарная я, ничто я, маленькая я…» Ах, ты, упрямая гордячка! Тебе ма-ло, чем наградил тебя Господь?! Постыдись. Ну, будто скряга-богач: чем богаче – тем больше скаред, – «еще, еще»!.. Мало тебе, что я всю твою богатую душу показал тебе, до всего в ней дорылся – дощупался, все обцеловал-опел, всему поклонился, перед всем чудесным твоим склонился. Ма-ло?! «Честь…» – российского – «тавра»!308 Ну, кобылица молодая… когда же ты перестанешь ноги в воздух метать? когда покоришься, смиришься? когда направишься «в мерный круг»?! Все готово в тебе – и ум, и сердце, и глаз, и ушко тончайшее, и чуткость-мера, и вдохновенье, и вглубь духовное гляденье… все, как редко у кого – избранных! Поверь мне хоть, ведь стоит же, хоть чего-нибудь, и чуткость моя, и опыт?! Не считай же меня за… шарлатана, лестью влекущего, пьянящего, чтобы вскружить головку! Твоя головка не из таких, и я не из таких, что кружат… – я из таких, что… хоть и слабо, да… Богу служат! Веришь? Ну, давай обниму… так обниму… как никто никогда не обнимал тебя… так на ушко тебе шепну… такое – никто не шептал такого. О, женка моя, любимая моя, бесценная… духовно женка ты мне, и сестренка младшенькая моя, и вся – любовь-девочка-прелестка, полная всех даров, и любви, и неги, и нежности-ласки… и сердца бессмертного! Ну, дай… ти-хости твоей, кротости, покорности Той Воле, что давно призвала тебя – служить Ей. Начни же свое служенье, выпрямись, гордая моя царевна, обернись же русской жемчужиной, достойная! Нет больше слов у меня – уверять, доказывать, просить, ободрять, молить. Терпение мое на исходе… отойду, забуду, все силы соберу, чтобы забыть… если не позабудешь, если не сбросишь с себя – гордыню ли… робость ли… – не разберусь. Ну, перекрестись – пиши «Лик» свой… жду, жду… Если бы ты была со мной, здесь!.. Ты приняла бы такой заряд любви, страсти… отдачи всего меня тебе, дару твоему… силе твоей… что, знаю, – ушла бы с головой в творческое… во всякое… – и… в земное, и в душевное-духовное! Ах, какие бы «детки» родились у тебя..! – Ну, Олёк… благословляю тебя, твори. И мы – сойдемся. Меня, такого… жизнью измученного, годами… трудами… «видно, что битая посуда»…309 – помнишь нянькино слово-то? – такого – ты не можешь полюбить, как женщина… но ты другого любишь – и полюбишь… внутреннего Ваню твоего… нежного, верного, чуткого, – весь-ласка… правда? – вот такого – любишь? полюбишь? обманешь себя? сумеешь?.. глазки закроешь и обманешь, но силу любви испытаешь – и поверишь, что я – _т_в_о_й, что меня можно любить и – женщине! _З_н_а_ю, что да, да, да, да. И поразишься, как еще можно – мне! – и так сильно любить, и так гореть, и так _т_в_о_р_и_т_ь! Вот сейчас… я – пожар, весь в пылании… к тебе, ко всему в тебе… я тебя слышу… я тебя вижу… впиваю тебя, пью тебя, сжигаю. Что еще за безумие во мне, откуда? Прости мне, Оля, эти кипенья, взрывы…
Ты победила здесь всех… – кто ни взглянет на твою «Лавру в туманце», – пленен, очарован… заворожен талантищем… нет, _с_е_р_д_ц_е_м, душой твоею, – она так и поет в этих сияниях святости нашей… в этом «очаровании троицком»! Без исключений..! Милые женщины… которые меня любят… – ну, как писателя! – склоняются, покорены… восторгаются… поверь же, что за книги мои, а не меня, меня, внешнего, нельзя полюбить. Это – духовные чувства! Моя милая караимочка (она очень ласкова и облегчает мне бытовую жизнь, ища случая угостить обедом, – ценит мою беседу, ловит слово! – и я всегда вежливо-внимателен! – ну, вспыхни, закинься! – изумлена-заворожена… – она-то отлично – умная! – понимает, – подозреваю! – _к_т_о_ ты для меня… – и она, и другая, бывшая старо-верка-владимирка-ковровка310, – красотой не блещет, и глаза у нее малые, не то, что у этой крымчачки… – приятно-скуластая крымчачка эта, а я совершенно безразличен, – во-первых потому, что «нет, уж занято здесь место» – помнишь, м. б. из водевиля «Ворона в павлиньих перьях»?311 – а я не из прохвостов! – а во-вторых – она – жена милого крымчака312, который так ко мне расположен… – как и она! – что… – «вы, сударь, холод… сударь – лед..!»313 Кстати, они теперь будут рассовывать билеты на мое «чтение»… – одобряешь? Без дам не бывает «вечеров», особенно ныне, когда ни афиш, ни газет наших… – и они их заменяют… – теперь, ведь, не до чтений, а как бы достать масла, хлеба, всякого едова! – Ну, словом, ты всех покорила. Поверишь ли хоть теперь в себя? Расцеловал твою гераньку-лапку. Перемучился я тобой, твоею истерзанностью, _з_н_а_я_ даже, что ты _д_о_л_ж_н_а_ быть здорова. И – поболел. Боли прошли, и были не от проснувшейся моей язвы, а… надо было несколько исправить преходящий нехваток чего-то у печенки… – ну, ты понимаешь, медичка-умница… и Серов дал мне такое чудесное средство… что… – чудеса! Сразу же ночные боли, тянущие, – не в печени, а в «тракте»… рукой сняло! Сам виноват, нарушил безумно всякую диету, наелся са-ла говяжьего, сырого! Временно – не было у меня масла… – теперь вдоволь! – и такой аппетит… – что селюкрин-то творит! – тебя бы съел! Дай «кала-чика-а… Олюша-а…»!
Нет, детка… нет Сережечки _з_д_е_с_ь… но это он сам, дух его напомнить мне тебе о нем тебя заставил! Временами… ты _в_с_е_ – закрываешь во мне. Теперь я молюсь о нем, думаю… плакал вчера, читая твое письмо. Милые мои – хранят меня, знаю. И – любят тебя. Они же, знаю, послали тебя мне! Чтобы твоя нежность не покидала меня. Они, ласковые-ласковые… знают, как мне нужна ласка… – как я одинок был, как томился… – и ты явилась! Они и тебя хранят. Ольга, перестань видеть сны, толковать, страшиться. Они – нет, не они, а ты сама ими себя изводишь. Это – безумие. Всякую чепуху наворачиваешь себе. Бывают сны… – редко – вещие… а у тебя больше спутанность больных грез. Молись и предай себя Пречистой, Господу. Читай всегда: «Господь мя пасет, и никтоже мя лишит!» И будь спокойна. Я счастлив, что ты выздоравливаешь, я чувствую по письму. Но не смей заниматься хозяйством! Не добивай – себя. Не делай резких движений, не носи тяжестей, не тянись, – лежи и лежи, будь лентяйкой, думай о «Лике», ну, – и обо мне чуть хоть… Да, я знаю: что бы ты ни наворачивала себе, суедумка… ты всегда отныне «моя Оля». Как и я – _т_в_о_й, и – только твой. Только ведь ты знаешь мою _д_у_ш_у! Да, селюкрин творит силы в тебе, и я рад. Принимай, что велит Серов. Ты расцветаешь. Но помни: храни себя от гриппа! принимай в свое время антигриппаль! По-мни! Будь петушком и слушайся меня – котика, – помнишь сказочку Ушинского?314 «Завтра я далеко уйду, не выглядывай в окошко… придет лиса…» По-мни, глупышка – мышка моя, ласточка, киночка… – о, как хочу тебя… всю! всю, всю… «калачик милый, горячий, мягкий…» дай же хоть кусочек… Ольга, если бы ты была со мной… как бы мы гуляли по Парижу! все бы тебе показывал… тебя бы показывал… – худышку, упрямку… мнитку… – знаешь, милка… вечерами я усаживал бы тебя в глубокое кресло, и… ну, у меня мутится в голове… – я тебе ножки целовал бы… о… прости… я тебя волную… но я и сам вне себя… – и из этого ты можешь заключить, насколько, слава Богу, я здоров… – разве больному пошло бы в голову такое?! я-то знаю себя… О, моя рыбка золотенькая… я чувствую, какая ты можешь быть, когда… любишь! Ведь ты же бе-зумица, безоглядка, вся – отдающаяся… _в_с_я… несравненная… безумная… Потому что ты вся – творчество, вся – в страстях-чувствах… чрезмерная богатством воображения и… безумства. Ты – гениальна во всем… клянусь тебе – я знаю.








