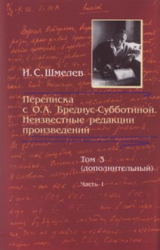
Текст книги "Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Том 3 (дополнительный). Часть 1"
Автор книги: Иван Шмелев
Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина
Жанры:
Эпистолярная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Твой, весь, всегда твой Иван – неистовый, Ваня-ласка.
Оля, глазки дай! ручки! все дай!
106
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
11. II.42, 2 дня
Дорогая моя Ольгуличка, суди сама, как я получаю твои письма, и что со мной творится. От 19.I212 получил 24. Письмо страдания твоего. А я уже 22 послал тебе всю свою душу! умолял успокоиться, я в тебя верю больше, чем себе! Письмо 22.I, получено 29, я на нем пометил – «Оля, бедняжечка моя, все мучается! Господи!» – Продолжение предыдущего письма, получено 29-го, – все та же мука, и я бессилен – расстояние! – снять ее. Письмо помечено 21.I – получено 2.II, помечено мной: «опять страдание! О, бедная моя девочка! Ну, как уверить, что она для меня _в_с_е??!» – Письмо, 28.I, получено 5.II, чуть светлей, пишешь, что «теперь _в_с_е_ приняла душой, ландыши цветут еще». Помечено мною: «все еще не получены мои „объясняющие“ письма!» Затем идут: открытка от… 22.I, получена 6.II —!! – опять боль, и еще – эта ужасная мнительность, неуверенность в себе. Помечено мной: «если бы она сознавала, какая она си-ла! Господи, помоги ей, моей Олюше! Она _д_о_л_ж_н_а_ творить, она не знает, что вся она – великое искусство, что в ней, на ней благодать – назначение – _т_в_о_р_и_т_ь!» И последняя открытка, от 26.I, получена 10.II, опущена Сережей в Амстердаме, – опять подавленность, – правда, она была писана _д_о_ 28-го. Видишь, какая мне мука, – я ведь _в_с_е_ тебе описал, во всем повинился, всю душу тебе показал, во многих письмах, и не знаю, да получила ли? Ольга, как можешь писать, что я «в мечтах доволен „призрачной Олей“»?! Оля, откуда ты это вывела? Я, _п_о_к_а_ благодарю Бога, что хоть издали чувствую твое сердце, любуюсь сокровищами твоей души, что ты любишь Ваню своего – тоже «призрачного»… – но я всеми силами хочу, жду… тебя, Оля, живую тебя! – которой я _н_е_ достоин! А томлюсь я как, Олечка! Когда все только тобой наполнено, – и нет, и нет тебя… и я еще столько боли тебе доставил, – проклятый я! и не знаю, убедят ли тебя мои письма, мой крик _м_о_е_й_ боли… А дни, как нарочно, стали тянуться… и письма твои редки, и все вперебой, и все не узнаю, да получила ли, наконец, мои, которые должны дать тебе покой и веру, что люблю тебя, как никого еще не любил, ни-ко-гда! _Т_а_к_ вот не любил, до муки, до смертельной тоски-отчаяния! Оля, я не просто люблю, я люблю-благодарю тебя, люблю-боготворю тебя! Если бы я был на 10 л. моложе! _В_с_я_ жизнь была бы впереди еще. А дни уходят… Оля, твое письмо от I.I было – есть – изумительное! То, где ты поперек страницы приписала213. Его получил я только 21.I —!! и надписал на конверте: «поразительное выражение чувства!» Я на него ответил. Я _в_с_е_ сказал. Мне _н_е_ч_е_г_о_ скрывать от тебя, и я страстно хочу быть с тобой вместе, _н_е_ расставаться ни-когда. Работать с тобой, думать, делиться с тобой всеми движениями души, всеми мыслями, планами, надеждами творческими, всегда с тобой, и только с тобой. Ничего, никого не надо мне в жизни, – только нежно обнять тебя, в глаза твои глядеть… тепло твое почувствовать, горячку-нежность твою в себя вдохнуть, – ах, Оля моя, необычайная, нездешняя ты! Читал некролог о твоем папочке – и _т_е_б_я_ в сердце держал. Красивый он был, светло-красивый, дивный. Жизнь его – иключительная, но _н_е_ умел оттенить это некрологист. Он все дает «благолепно-лампадно», а надо _с_т_р_о_г_о_ и глубоко, не разжижая мелочами. Я-то и из этих страниц мог _в_с_е_ несказанное, – в душе о. Александра укрытое от земных, – увидеть. Его «жертвенность» земными благами надо было оттенить, и не цитатами из Писания. Надо было дать и семейные чувства его, – ведь тут весь человек должен даваться, в посмертном слове! Оля, ты от Него, я чувствую… – и я по тебе уже дополняю твоего папочку. Если бы дожить, поклониться его могилке и воздвигнуть над ней бело-голубую часовню… и там написать о нем! Украсить фресками, цветами жизни, цветами Духа, – подвигов выражением! Я был бы счастлив это выполнить, во-имя Правды Божией, которой был верен твой папа. Во-имя твое, Оля, – его чудесного _ц_в_е_т_к_а! Ольгуша, свет мой чистый, как же я тебя люблю! Знаешь, я не вылезаю из твоей «грелочки»! Она так обтягивает, будто обнимает, и я слышу твое сердечко – в своем. Она напиталась от тебя, и мне это передается – тепло твое. Я слышу, как будто, духи… чуть-чуть… я в каждой петле вижу твои пальчики, твои глаза… я глажу эту «маринку», я ее целую. Я как влитой в ней, «моложе», говорят мне… стройный. Да, правда, стройный. Я как гуттаперчевый, гибкий, быстрый, легкий… мальчишка старый, странно как-то. Знаешь, я сейчас сильней, чем был 10 лет тому, – это я испытал вчера, – когда мылся в… кухне! Ванную комнату не отапливают, горячей воды не подают. Для меня мука была, терпеть две недели, – были холода, а я кашлял, – не мыться. И вот, вчера, я газом нагрел кухню до 22 градусов, поставил огромный аллюминиевый таз, нагрел воды… и полтора часа возился с «баней». Бывало, выйдешь из ванны, расслабленный, дремотный… А тут, после «гимнастики» с водой, верченья с самим собой, с огромным тазом, с уборкой после… – я вышел совершенно бодрый, напился чаю с твоим чудесным маслом, да еще часа полтора слушал стихи одного отчаянного поэта214, в конец меня доканывавшего, плохими же стихами! – и я был свежий – после таких стихов-то! – и скоро заснул, – в 12 ч., – и проснулся… в 11 с половиной —!! И с каким же наслаждением пил кофе, ел твое масло, – у меня и свое есть, но я _х_о_т_е_л_ – твоего! Ольга, Олёк, Ольгунок… я не могу без тебя, я замираю без тебя, я плачу… я _х_о_ч_у_ всегда быть с тобой. Я могу с тобой много еще дать… так во мне все горит и светится. Если бы обнять тебя..! Иногда мне кажется, что ты близко… что ты можешь приехать… каждую минуту, и я начинаю строить планы… Я всегда у твоих ножек, у твоих коленочек, кладу голову на них, смотрю в твои глаза… шепчу самое нежное, что в голову приходит, что тебя ласкает, – о, дивная моя Царевна! Как ты умеешь хорошо сказать, как ласково показать, как любишь..! Оля, я _ж_и_в_у_ю_ тебя люблю, хочу… дышать тобой хочу, твоим всем, всем существом, и земным, и – душою твоею бессмертной, _Н_е_б_о_м_ в тебе! Я чисто тебя люблю, и – пылко, знойно даже, жарко, страстно. Ты прости, это _н_е_ грешно, так любить, то – _н_а_д_о_ так любить… это – _д_а_н_о_ нам _т_а_к_ любить. Я счастлив, что твоя мама понимает, что «так нельзя же», – томиться только. Я вчера был радостно-тревожен, я _ж_д_а_л_ тебя! Странное такое чувство – близости. Ты, м. б. думала обо мне? Иногда мне кажется, – и страшно мне! – что нами играют злые силы. И опять эта острая боль при мысли, – зачем, зачем не случилось тогда, в Берлине, в 36 г., встречи с тобой?! Все было бы, м. б. иначе. Олюнчик, я послал о. Д[ионисию] книгу «Свет Разума», и – для мамы – «Няню из Москвы». «Пути Небесные» – только для тебя, милочка моя, ты, ты только у меня для них, и какую же Дари я сделаю _т_о_б_о_й! Ах, ка-ку-ю..! Ты отмахнешься, пожалуй, скажешь – «но какая же… до муки страстная!» Нет, до… светлого счастья – страстно-жадная! Я ее дам о-чень особенной, в нее теперь все, все будут страстно влюблены… – в _т_е_б_я, Олюнчик. И какое прекрасное тело дам ей! Я боюсь, как бы не переступить границ _м_е_р_ы, так я восхищен _т_о_б_о_й. То, что во мне, ты и не представляешь… – этот _з_а_х_в_а_т_ тобой, хотя и не видал тебя, настолько силен, что я пугаюсь, найду ли спокойствие давать Дари. Эта предельная «влюбленность» вносит в творческую часть души страстность, колеблет равновесие «покоя», нужного для работы. Писать _ж_е_н_щ_и_н_у_ – для меня теперь – это: писать _т_е_б_я! Писать – и в то же время – _л_ю_б_и_т_ь, – кипенье в чувствах, до… осязаемых событий, – кружит голову. Но, с другой стороны это может дать слову-образу – очарование предельное, когда слово переходит в живую сущность, в трепетное-живое, что вот-вот услышишь, как бьется кровью, как сладок поцелуй, как опьяняет страстью… – и – «Слово плоть бысть»215. Оля, я ждал сегодня письма твоего и не получил. Я страдаю, я не нахожу места, я слушаю шаги, но уже 8 ч. вечера – не будет почты. Вся моя жизнь заменилась тобой. О чем бы ни думал – все ты, все ты, _в_с_я_ – ты. Оля, не бойся писать, грех это – отталкивать _с_в_о_е. Пиши – _к_а_к_ можешь, – все будет прекрасно. Ты – переполнена. Страх – не плохо, это есть сознание важности дела, его священности. Но надо его одолеть. Думаешь, не бывало во мне страха? А де-сять лет моего «воздержания»216, после «У мельницы» и «На скалах Валаама»? И было бы преступлением, если бы я не преодолел. Я снова начал, когда мне было 28–29 л. Ты – зрелей меня, тогдашнего, и ты преодолеешь. Спроси чутко сердце, душу свою: «что я _х_о_ч_у_ писать? о чем поведать?» – и вслушайся. И начинай, _к_а_к_ хочешь, с чего хочешь. Рассказывай – поведывай – _п_р_о_с_т_о, без напряжения, без оглядки, без опаски: выйдет. Ну, расскажи просто, какой «идеал», образ предносился 10-летке Оле, в церкви. Ты когда-то намекнула мне и не рассказала. _Э_т_о_ дай. Будто мне пишешь. И все, все пиши так, будто _м_н_е_ рассказываешь. А меня ты знаешь, меня любишь, и – не будет страшно. Я, ведь, не буду тебя смущать: я _в_с_е_ приму, _л_ю_б_я. Ну, милая детуля, не бойся… ну, бросайся в воду, плыви же… – я поддержу тебя. Если бы ты была здесь, со мной… я тебе нежным поцелуем, в щечку… влил бы силу, веру в себя. _З_н_а_ю, что ты будешь писать, будешь знаменитой, будешь полонять сердца. Вот как я знаю, как я верю! _В_и_ж_у. Скромница, робкая моя, чистая Оля… – какую красоту души в тебе я вижу! Капли одной этой красоты довольно, чтобы стать писателем. Верь мне, поверь в себя! Оля, ночью я чувствую тебя… так близко! Твой Ванюрочка. Прилагаю фото-«москвич»217. Обними! не фото, а меня. Я жду тебя.
107
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
13. II.42, 1 ч. дня
Оля, снова, запоздалое письмо, 30.1, и снова громоздишь на себя, – с переводом на меня, – воображаемые терзанья. Я, тебя «оттолкнул»?! Не выдумывай, не томись болезненным желаньем «всю горечь выпить». В моей открытке открыла ты «всю новую сторону меня»? Придумывай же – какую. Мучай, терзай себя, – тебе это болезненно-сладостно. А мне как это? «Люблю и мучаю»? Не пора ли и кончить с этим? И еще спрашиваешь, почему у нас нет благостности. Сами, видно, не хотим ее. Надо же как-то «поддерживать отношения», раз нет решимости на главное, чего я ждал, во что верил, в чем ты меня не раз обнадеживала. Продолжай «изучать» меня. Мало меня знаешь? Я – двуликий? Один – в книгах, другой – Хлестаков, Деспотов, Подлецов? До-знавай. Хочешь знать, «к_а_к_о_й_ я к тебе _т_е_п_е_р_ь»? Тот же, верный, мучающийся тобою и – мучимый. Стыдишься, что так писала мне, нежно голубила твоего _п_е_в_ц_а, тебя искавшего и обретшего? Отними же, что вырвалось из твоего сердца. Насильно не держу – бери. У меня, – пишешь, – «ни разу не мелькнуло сомнения, что, м. б., неправильно обвинял»? Зачем новые обвинения? мало тебе, подавлен? Рабом никогда не буду, как бы ни любил. Ты не укротишь меня, ты лишь отдалишь меня – сама. Никогда я не посмел бы помыслить о твоей «ошибке» в отношении к другим. Но я не бесплотный дух, и, исходя из тобой же данного, мог смутиться, не имея права на то, т. к. «повесть» твоя дает тебя _д_о_ нашей «встречи». И этого ты не можешь мне благостно простить. Ты даже не признаешь за мной слабости Фомы, ты строже самого Христа: ибо ты все, все замещаешь собой, слишком ты – _в_с_я_ _в_о_ _в_с_е_м! Ты писала, что твоя мама и родные, – а они ведь знали тебя куда больше, чем я, на их глазах протекала твоя жизнь, – и они усумнились и не знали, где правда! За что же ты так обрушилась на меня? и когда нее? Когда я молил уничтожить мою проклятую открытку! Ты не давала мне, сама, твоей черточки характера, об «игре с партнерами»? Ты не поселяла в моей душе сомнений? томлений? Не признавалась ли в «легкомыслии»? – (доктор № 2). Не говорила: – «я вела порой „игру“ на „очень высокой ноте“, и когда прием партнера – спортивное-то словечко! – мне не нравился, я часто _с_р_ы_в_а_л_а_ игру». Ч_т_о_ это?! Искание _и_д_е_а_л_а? безупречная _ч_и_с_т_о_т_а? Ты сама так себя открывала, и ты же все рушишь _н_а_ _м_е_н_я?! Т_ы_ _и_г_р_а_л_а… Как же я с самыми чистыми намерениями к тебе, мог отличить, где «игра», и _г_д_е_ – «мучительное искание чистоты»? В «игре» всегда азарт, всегда скольженье, и всегда опасность – сорваться. Я привык, что ты все сгущаешь; измучаешь, а потом, так легко признаешь, что все это «глупости». За что же ты мучила _з_а_ «глупости»? Та история с г-жой Земмеринг… – где я ни в чем не повинен… как ты мне накидала обвинений?! Писала: «так еще ни-кто, ни-когда меня не оскорбил, как ты!» А оказалось все – «глупостями». Нет, ты любишь терзать… себя и – меня. Не изворачивайся: писала: «содержание твоих писем я могу сравнить лишь с универсальной _п_о_д_л_о_с_т_ь_ю_ „Н.“!» _Ч_т_о_ это значит?! Содержание – т. е. «мои слова»… и мною сказанное тебе, как и сказанное «Н» твоим родным – _о_д_н_о_ и _т_о_ _ж_е_ – _п_о_д_л_о_с_т_ь. Двух толкований не может быть. Тебе приятно высекать из меня искры? Ты их много выбила, приняв мое сердце за кремень, и, высекая своим – подчас убийственным кресалом, – ты не хотела видеть, что вместе с «искрами» – моими пылкими и яркими образами в письмах, – били струйки крови… которых ты не отличала от «искр». Тебе это доставляло болезненное наслаждение? да?! Сердце мое устало. Я ли именовал тебя «скальпоносицей»? Так именовал твой родственник, лучше меня тебя знавший. Прав ли он был? Зачем же тогда писала мне? Ведь должна понимать, что всем этим ты создаешь во мне определенное впечатление. Сгрудив в 7 письмах твои «искания», где все, как нарочно, сводилось к одному – к увлечениям, к «поцелуям»… – ты называешь это моим словом – «порханья»… – ты обрушиваешь на меня страшные обвинения в утрате веры в тебя, когда я лишь колебался, был в смуте, молил не принимать моего невольного вскрика боли… молил поверить, что для меня ты – все _т_а_ _ж_е, чистая, светлая Оля! Разве все тобой сообщенное не давало мне права сделать – пусть невольно-ошибочно! – вывод о легкости отношения к «чувству»? Оля, нельзя требовать, как бы я тебя ни любил, – или молчания моего или – только восторгов тобою. Не ты ли упрекала меня, что я с тобой неоткровенен?! А когда я открываюсь тебе, ты обвиняешь меня, что мешаю тебя с грязью! Я не выдумывал грязи о тебе. Разве молчальника и песнопевца только ты, _т_а_к_а_я, требовательная ко мне, примешь во мне? можешь любить? Нужна ли тебе моя игра с тобой «в поддавки»?! Надо кончить с таким отношением ко мне, мне уже нестерпимо от боли. Смотри же в совесть твою, она чутка, она тебе все скажет. Я все не постигаю, где искренность, где… самообман – в тебе. Ты когда-то писала: «я хотела бы к тебе приехать», о «встрече». Из чуткости к тебе, страшась смутить семейный покой твой, еще не зная о твоей семейной жизни, чувствуя, что ты можешь увлечься мной… – это же так возможно! – я удерживал тебя от такого шага. Ты поставила и это в вину мне. А когда я тебе открылся, предложил чистым сердцем – связать _з_а_к_о_н_о_м_ твою жизнь с моею… ты «была потрясена»! ты… запретила мне посылать тебе заказные письма и все, что могло бы вызвать внимание окружающих. Когда ты была искренна? Я уступил тебе. Я дал тебе сроку – до Нового года. Нельзя же вечно кипеть так, как кипим мы оба! У меня – мое заветное, моя работа. Я не смею _в_с_е_г_о_ себя сжигать. Я тебе отдавал лучшие думы, лучшие чувства. Я ждал. Ты звала меня. Я и обещал, и уклонялся. Почему? Стыдился признаться тебе, что не мог бы смотреть в глаза твоему брату, – _з_а_-_ч_е_м_ _я_ появлюсь, крадучись..? Ведь не в твой дом приду, как знакомый семье… а где-то, в чужом месте… «встреча». Меня, всегда ходившего прямым путем, _э_т_о_ смущало. Я признался. Тогда ты – снова! – даешь надежду: «хо-чешь? я приеду… я постараюсь…» Я говорю – да, хочу, приезжай, свяжи свою жизнь с моею! – «Да… но мне трудно… меня не пустят…» И снова, снова… ласканье надеждой… Наконец, – «меня пускают! на Лейпцигскую ярмарку»! Я уже вижу тебя… я пишу тебе… как приехать… И снова: – без объяснений – «я _н_е_ приеду… я не могу…» Что за… игра?! Зачем это вытягивание нервов сердца?! Зачем обнадеживание? зачем – удар?! Чтобы тянуть время, пока не случится _ч_у_д_а…?! Ты можешь ждать, тебе это дает много, моя переписка… я _н_е_ могу. Разве я не прав?! Разве я не смею сказать: надо же кончить, последние мои творческие силы размениваются на это призрачное кипенье в надеждах и разочарованиях. Но ты не можешь отказаться от наслаждения томиться и томить. Ты изыскиваешь, что же еще навалить на мою измученную душу. Ты в скольких письмах пишешь – я тебя назвал «полуобразованной»?! Я потребовал: приведи мои точные слова. Где я сказал? Я жду. Или это мое замечание – о «паре дней», что это неродственно духу русского языка? Но ты же сама писала, что хочешь учиться у меня, слушать меня, что ты так мало знаешь. Оля, я не мальчишка, и понимаю, что такое «образованный». Что я тебе писал – о тебе? Перечитай. Ты увидишь, как я восхищался тобой, умом, сердцем, много-знанием?! Я все из сердца вынул и дал тебе. Мне не стыдно, что я не _в_с_е_ знаю. Кто знает _в_с_е?! Покойная Оля многого не знала, что ты знаешь. А как я любил ее, как чтил! Ключевский, наша гордость, женился на своей кухарке218 – и какой это был брак! как он уважал ее, чтил! любил! хранил память о ней! Я знаю это, потому что я жил в его доме219. Оля, Оля… Твой Ваня знает, что такое «образование» и умеет отличить истинное. Я знаю, как ты жила, как страдала, _в_с_е_ знаю… и как же разрывается мое сердце, когда его колет твоим страданием (* что я, такой «нечуткий», не понимаю, как же трудно в таких условиях учиться!). Я плакал от боли, от горечи – или я палач? И это после всего, что я говорил тебе о тебе! Ты мою нежность, мои восторги называла «молебствиями» и уже не даешь им цены. Тебе нужны какие-то призрачные «концы», чтобы, схватив их, добраться до сердца моего и сжать его сильней. Оля, в нем две незаживающие раны… ты еще ранишь, ты третью хочешь..? зачем? и – что все это?! Ведь ты и к чужим благостна была! Ты _в_с_е_ отдавала… интимное свое, дневники, просиживала у больного, часами, позволяла, чтобы тебя за руку вытаскивали с танцев… – а у меня… тебе хочется добраться до еще неизраненного места в сердце – и _у_к_о_л_о_т_ь?! ты ко мне относишься безжалостно? Хуже я всех для тебя? и мои раны – ничто? и последние мои силы, которые не мне, не тебе одной только нужны… а мно-гим..! – можно пустить на ветер, в искры, в струи крови, в дым?! Не верю. Значит, тут не воля твоя, добрая или недобрая, а – болезненность твоя, Оля. И ты права: надо лечиться. Сколько раз я говорил тебе! посылал лекарства… – ты отмахивалась… наконец, согласилась. Мало тебе моих мук, надо еще? Зачем написала, что «я _п_о_к_а_ не буду тебе писать о моем здоровье… я здорова». _Ч_т_о_ это?! Бросить тревогу – и – закрыться. «„Необразованная“ я…» Ах, Оля. Не безумствуй: «необразованные» не могут писать. «Я не буду писать». _Ч_т_о_ это? Новый укол? Дари – образованная? Дамаянти – образованная? Прочти, если не читала Жуковского «Наль и Дамаянти»220. Очаруешься. Для меня образование – сердце. – Оно – _в_с_е. Евангельская Мария – образованная? Чего, побрякушек тебе надо? Ты же _н_е_ такая. Для русской литературы лучше было бы, если бы Чехов женился «на кухарке», а не на бездарной ломаке-актрисе, образованной для похабства. Я моего Горкина не отдам за миллион Балалайкиных. О твоем сердце я сказал тебе. И я тебя – «пригвоздил»?! Этими «болями» ты заполняешь нашу странную «сухую» любовь, пока, до решения, которого так и не будет, – так мне видится. Твоя воля. Не отнимай же у меня _м_о_ю_ Олю! Ради Господа, не отнимай… Я, ночами, сухими слезами плачу. А знаешь ты, что это такое – сухие слезы! О, если бы вылились они! И мне бо-льно. Ну, снова изыскивай на мне вины, из всего, что теперь написал тебе.
Но помни: у меня все – на исходе. Я дальше не могу так, не смею. Я – не для только переписки, я – сознаю свой долг перед Богом, давшим мне дар, перед русскими – и не только русскими! – людьми: я должен писать, _с_л_у_ж_и_т_ь. Теперь я лишь истекаю, болями, кровью сердца, сухими слезами. Я _н_е_ могу больше. Я тебя люблю, очень глубоко, и очень _в_е_р_н_о. Я _з_н_а_ю_ тебя, твои плюсы и минусы. И сердись – не сердись – скажу: доктор-кавказец, умный несомненно, верно сказал: твоя любовь может дать пресветлый рай, вознести и счастьем ослепить… и она же может ввергнуть в адские муки, в бездны! Да, я готов признать, что ты – прекрасная, лучшая, необычайная, гениальная, упоительная, святая, чистая, все-все-все… – но ты и – «гололедь», и «русалка», и «мучитель», и «рыбий глаз», и – все-все-все… Ты изящно-сложна, чутка необычайно, мнительна сверхпонятно, неотразимо влекуща, стыдлива, как мимоза-пудика, «не-тронь-меня», требовательна к себе пуще всех подвижниц, ты за идею на костер взойдешь… ты – для меня – Царица из Цариц! Но ты и мучитель мой. Я могу целовать твои ноги, но я никогда рабом не буду, от себя и _м_о_е_г_о_ _н_е_ откажусь. Бери меня таким, как я есмь. И – решай, не решай, – но не томи, и скажи все прямо и окончательно. Тогда я сделаю окончательный вывод. Я больше _т_а_к_ не могу. – Напиши о здоровье мамы. Я послал ей «Няню». «Грелочка» твоя чудесна, я не вылезаю из нее. Целую ее, глажу, чувствую в ней твои любящие глаза, чувствую нежность пальчиков. О, чудесная, моя, _в_е_ч_н_а_я, Оля! Я люблю, люблю тебя. И – страдаю. Закончу завтра. Твой Ваня
[На полях: ] Оля, я – прежний, твой Ваня, верящий в тебя, чистую! Но я так исстрадался!
На обороте последних твоих писем ты уже не даешь своего родового имени «Субботина» – что это? Отказ от себя? Окончательное утверждение в голландском «доме»? Решила? Вот оно, наконец, твое «решение»?
Тогда – простимся. Я отойду. «Игра» окончена? Давно пора. Завтра до-п_и_ш_у. Господь с тобой.
Вдумайся, возьми себя в руки. Я все написал – от страшной к тебе любви. Не отвечай спешно. Все это очень важно. Это – моя _п_р_а_в_д_а.
108
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
13. II.42 3 ч. дня
Олюша, милая, да когда же ты перестанешь себя томить, когда примешь открытое тебе мое, все, сердце?! Я _в_с_е_ сказал тебе об «ослеплении» своем, во всем повинился, сознал вину свою – невольную, от беспредельной любви к тебе, лишающей меня «хладного рассудка», обострившей _в_с_е_ чувства во мне, – и все под-чувства, – порой и мутные! Ты умна, и все понимаешь, как никто. И нечего мне шарить в твоей душе. Не обижай, никаких «доказательств» твоих не смей посылать и – прошу! – не говори больше об этом. Для меня – и _п_о_в_е_с_т_и_ твоей нет и _н_е_ _б_ы_л_о. Просто: я узнал тебя, _л_у_ч_ш_e_e_ в тебе! Забудь. Я сказал: ты для меня – _в_с_е, пусть это грех, кощунство, но это не _с_л_о_в_а: ты для меня _в_с_е, и без тебя я _н_е_ могу, и _н_е_ буду. Зачем письмо 24.I221 называешь «разумным»? Это боль моя за тебя, страх за всегда возможное твое разочарование. Сознание – трепет, – ответственности за твои страдания. Не «про запас держать» – совсем не уходить от сложившейся твоей жизни, – этого я _н_е_ мог и думать, а позволил себе, – и с какой же болью! – остеречь: ну, представь… ну, отвернешься от меня… – а мне ведь больно, что ты опять на тяжкую жизнь, на работу, где-то… – ведь я теперь всю твою жизнь знаю, восхищаюсь подвигом твоим и плачу о твоих страданиях, бедная моя девулька… – я бы на руки тебя взял и укрыл бы ото всего, ото всего… ты мое дитя, в тебе смешались для меня: и дочь, которой мне не дала судьба, и самая любимая… – я не могу сказать это обычное – и какое все же таинственное слово – _ж_е_н_щ_и_н_а! – самая любимая, огромная часть души моей, Оля моя, святая моя, чистая моя! Вот, в каком смысле писал я тебе и, должно быть, боялся, что ты примешь неверно, – и как же верно думал! – я даже и там оговорился: не подумай, что я «отмахиваюсь»! Мне больно это читать. Я знаю, _к_т_о_ ты, и знаю, что ты не вернулась бы… слишком ты… О-ля! И потому разумел: ты для меня – святое, и я мыслью не посягнул бы сделать тебя своей, коснуться тебя нескромным взглядом даже, пока ты не определила бы, что не ошиблась, что будем с тобой – навсегда, – _о_д_н_о. Главное – то, что писал тебе в первых письмах, _к_а_к_ мыслю жизнь нашу. Высшего счастья для меня – неразлучно с тобой – нет. Не надумывай на меня томящее тебя, мнимое твое: не изобретай для себя слов пытки, как «гнушаешься», даже в кавычки берешь, будто это мое слово! Это же ты сама себя растравляешь, это болезненное твое. Ничем я «снова, чем-то» _н_е_ уязвлен! Я тебя люблю, и только, в этом чувстве – весь я, и вся для меня – ты. Достойная не любви, а – преклонения. Я пишу это сознательно – я искренно считаюсь с недостоинством своим. Прими же мою _п_р_а_в_д_у. Да, я верю крепко, мы были бы счастливы. М. б. даже _с_л_и_ш_к_о_м_ был бы счастлив тобой я, я. И страшусь. Лет своих?.. Но что я могу… когда я весь поглощен образом твоим, живою твоею сущностью, мое неземное счастье! Или я исключение? Нет. Ты знаешь эти примеры жизни: это у людей, наделенных _ж_и_в_о_й_ душой, душевной жаждой неутолимой, неиссякаемой с годами. Не с великими исключениями себя сопоставляю. Охваченные творческими страстями, есть души, для которых тленное – не имеет власти. Они не могут _н_е_ любить, не творить любви, _н_е_ жить: они всегда _н_а_д_ собой, над обычным. Это – души певучие. Таков был Гете, Тютчев, Пушкин был бы юн до дряхлых лет своего тленного. Таков был и чистый лирик-романтик – наш Жуковский: первая любовь его222 – уже 35-летнего, к своей 10-летней племяннице —! – «побочной», – брак не состоялся, помешала «религиозная» мать ее… – но они любили друг друга! – мучились. И вот, после ее кончины, он, в 50 лет, полюбил 12-летку! И она… его. Это была дочка художника Рейтерна223. Промежуток в 3 года. Новая встреча. Она, 15, «кидается ему на шею, только увидала». Его это потрясло. 5 лет промежуток, – новая встреча. Интересны ее письма о чувстве к Жуковскому224. В [18]41 г. – Жуковскому было 58 л., ей 20, дарит ей… часы и «косвенно» делает предложение: «позвольте подарить вам эти часы. Но, знаете ли, часы показывают время, а время есть жизнь. Вместе с этими часами я предлагаю вам всю мою жизнь. Принимаете ли вы ее?» Она «бросилась ему на шею»225. Они прожили 10 л. Трое детей, мальчик и две девочки. Одна скончалась226. Жуковский умер 69 л. Брак был исключительно счастливый227, «безоблачный». Да ведь и Жуковский был безоблачный. См. стихотворение Тютчева, на его кончину228. Таких случаев было много у «живых душой». Тут _в_с_е_ – в силе, в жизненности душевной. И эти примеры мне так освещают то, что переживаю я, любя тебя, Оля. Ты для меня – _в_с_е. Ты – Душа моя. И без нее-тебя – я _н_е_ могу. И так _п_о_ч_е_м_у-т_о_ надо. Для зубоскалов это – повод к плоскостям. Для _Ж_и_з_н_и_ – один из её таинственных законов. _Э_т_о_ – чудесное обоснование бессмертия духа (намек на это – в «Куликовом поле», в озарении Оли), его самостоятельного бытия, вне зависимости от тела-тлена. Но _т_у_т_ и само тело – покоряется власти души: оно тоже творит, рождает. Тут залог «бессмертия всего тленного», быть может?! Очевидно какой-то таинственный закон, ускользающий от биологов, анатомов, физиологов. Мы с тобой _э_т_о_ _з_н_а_е_м, ибо мы _э_т_и_м_ живем. Да, ты права: мы могли бы быть счастливы, и мы нашли бы такой _п_л_а_н_ жизни, в любви и единомыслии, в котором были бы «безоблачны». Я непоколебимо верю, _з_н_а_ю. Да, будем просто принимать «из души в душу» друг друга.
Чтобы закончить «испытания-пытания» наши, скажу: письмом твоим от 2.Х – я никак не ограждаю себя. Я понимаю, чем оно было вызвано. Если я поминал о том, «что было 9.VI.39», то потому, что хотел вникнуть в твою жизнь-томление. Чем ты была убита, почему весь день плакала? и – почему _м_н_е_ написала? Я не знаю. – Ты писала о поездке на Лейпцигскую ярмарку. Я ухватился за это. И ты, написав, что это «легко» и тебя пустят… теперь говоришь: я _н_е_ поеду. Почему же писала?.. зачем подавала надежды? _у_н_е_с_л_а_ меня? Я объясняю это твоим состоянием, – болезнью. Ты больна, у тебя и малокровие, и неврастения. Да, надо лечиться. Почему я упустил из виду, не послал тебе с о. Д[ионисием] селюкрин?! Но в Голландии есть же кровяные сыворотки, «hemostyle»? Меня тревожит, меня томит это. Почему написала: «я _п_о_к_а_ о своем здоровье писать не буду»? _M_н_е_ не нужна встреча, чтобы узнать тебя: я тебя _в_с_ю_ _з_н_а_ю. И я люблю тебя, и я уже сказал тебе: вот мое сердце, вот я, весь… – для меня не может быть оглядки. Я давно решил, бесповоротно. Никаких колебаний, опасений: я лишь страшусь одного: достоин ли я _т_е_б_я?! Таким и бери меня, бери или – отклони. Почему – до конца войны не увидимся? Так же можно и дальше: и после можно не увидеться, если совместно _н_е_ захотим. Помни: для меня каждый день – невозвратим. Я в последние дни подавлен: кругом умирают, смерти, смерти… мы все в руце Божией, да… но шансы не равны. М. б. мой _ж_и_в_о_й_ дух дает мне силы. Но я – как пятак: прекратился «толчок», – и… конец. Это – тоже неразгаданное. Но я это сознаю. Погляди, сколько сил отдал я этому дивному чувству – любви к тебе! Огляни мои «писания любви». Это уже то-мы… и в них много сил рассеяно… – я не жалею… Но, Оля… – если бы мы встретились в 36… – _э_т_о_ _в_с_е_ перелилось бы – в иное. И наше _л_и_ч_н_о_е_ – получило бы жизнь – в мире, в иных – и м. б. чудесных – формах. Я не сожалею, но мне – страшно, что так долго не может продолжаться. Я – ты не укоряй меня, – но я – ив согласии с тобой, – перекрестясь, временно отойду от писем… я буду тебе писать раз в неделю, кратко: я хочу уйти в работу. Пусть теперь она будет толчком для катящегося пока «пятака»! А я могу писать, когда могу _т_о_л_ь_к_о_ писать в работе… – двоиться я не могу, – или – или… Когда бы мы вместе жили… – другое дело… – ты – вот ты… твой взгляд – уже сила-толчок мне… – и я в обладании себя, я силен и твоим, и моим чувством и – покоем. Теперь… – я горю, сгораю… томлю, томлюсь… – а дни уходят… я _г_л_а_в_н_о_г_о_ не доделал! Не говорю уже, что _с_м_ы_с_л_ брака, его святость… теряют возможности, свою _о_с_н_о_в_у, мою светлую – и твою, Оля! – надежду! Счастливец Жуковский! Он пел лучшее свое, не взирая на _в_р_е_м_я, когда… любил. И создавал _д_е_т_е_й_ – духовных и – брачных, малюток светлых. «Сухой» любви я не понимаю, я ею томлюсь, от нее сгораю. Да, очень это _в_а_ж_н_о_е… и требует силы воли, решимости. Я тебя понимаю, давно понял: нет, тут, в твоем – _н_е_т_ таинства-Брака. Тут – кощунство над браком-Таинством. Тут нет _Л_ю_б_в_и, семьи, _о_с_н_о_в_ы, _п_р_е_д_м_е_т_а_ Таинства. И «человек да не разлучает» – тут не при чем. «Что Бог соединил…»229 – _ч_т_о?? Вот – э_т_о-то?! Нет, мы знаем Его, читай Евангелие – Его «свободу Духа». «Дух живет, где хощет»230. Для Духа – нет буквы, формул, рамочек. Взяточники консистории и «духовного суда» – легко «разлучают»… Та-инство?! Как все шатко. Совесть, – твоя чрезмерно-чуткая совесть – вот мерило! Ты права, ты – свята. Бог знает, чего мы ищем, _ч_е_г_о_ хотим. Мы – _с_в_я_т_о_г_о_ хотим, непохотей. И мы – правы. Я в себе _с_л_ы_ш_у_ – _в_ы_с_ш_е_е_ веление, как в творческом акте, когда думаю о жизни с тобой. Бог видит.








