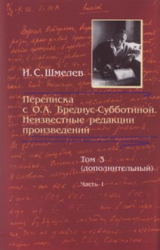
Текст книги "Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Том 3 (дополнительный). Часть 1"
Автор книги: Иван Шмелев
Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина
Жанры:
Эпистолярная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 59 страниц)
Не мечта, не выдумана ты мной, ты для меня живая сущность, вся во плоти, вся в яви, вся – _ж_и_з_н_ь. И нет у меня слова больше. И вытрави из души весь этот сосущий тебя злой яд: это от темного, не от Господа, не от нашего чистого, чем дорожим мы оба. Заставь себя! Я тебе послал слова покоющие, читай их, они размеренностью мо-гут покоить, – я знаю по личному опыту. И молись. Сны твои… да, чудесны. Но это – сны. И в них не ищи тревожного. Этот чудесный, с детской колясочкой, с Пречистой… – это же все отражение твоих думок, _в_с_е_ вышло из «яичка» иерусалимского, так это ясно. Благодари за эту _л_а_с_к_у_ во сне! Это так светло, так нежно должно голубить тебя, давать силы душе твоей! Пречистую _ч_у_в_с_т_в_о_в_а_т_ь..! Это такое счастье! Твой «крестный» сон – удивительный. Он уже _м_о_й. Ты мне его подаришь, и он будет жить в _м_о_е_м. Творческая душа, Олюша моя светлая… ты будешь всегда со мной… _ж_и_в_а_я, ты узнаешь все мои думки, все зачатия, все планы… – во всем ты со мной, и нет от тебя у меня ничего сокровенного! Как я жду этого… как высшей Милости Господней! Душой своей вечной воздействуй на слабенькое тело твое, – это же великое средство, – и ты окрепнешь. Обо мне не тревожься, я здоров вполне, я лишь о тебе болею, поверь, родная Ольгуночка! Не приходи в отчаяние, что силы возвращаются так медленно. Я больше месяца в 37 г. лежал, а «припадок» мой продолжался каких-нибудь два-три часа… Я, как говорит _т_е_п_е_р_ь_ С[еров], должно быть потерял много крови, было кровоизлияние из язвы дуодэни, – и я теперь припоминаю, что, делая за неделю перед тем гимнастику, я сделал сверх-усилие… – и должно быть несколько дней шла кровь, а я не знал! И слабел день ото дня, чтобы _в_д_р_у_г, утром, потерять все силы, – начал холодеть, не мог пошевелить пальцем… – только, к счастью, впрыскивания камфоры – подряд 3–4 раза, остановили потерю сознания! И – ме-сяцы слабости после того… ме-сяцы..! А ты – молодая, ты, при уходе и лечении, в хороших условиях, – оправишься, увидишь! зацветешь!!
Я счастлив, что д-р Капеллен такой чудесный. И я понимаю твое обожание. Я сам «обожал» моего хирурга Дю-Буше, в американском госпитале287, который… «всегда к Вашим услугам… но теперь не нахожу необходимой операции…» Я чуть не расцеловал его! И по-сейчас я ему глубоко благодарен. Уверен, что ты всех там очаровала. Это твое особое свойство – и призвание! – очаровывать: даже злые чувствуют, какая душа у тебя, какое сердце, какое сокровище ты! О, я, _з_н_а_ю, я очень чуток… к _т_а_к_о_м_у_ в человеке… я так об этом мечтал..! – о _т_а_к_о_м… – и я нашел тебя! Я _у_з_н_а_л_ тебя, единственную… – ты же знаешь, как и _ч_е_г_о_ я искал в образах смутных… и как давно, как _п_р_о_з_н_а_в_а_л, как провидел… – я всегда чуял, что _д_о_л_ж_н_а_ _ж_е_ быть «небывшая никогда»… – и вот – _О_н_а_ «стала быть».
До чего дивный сон твой «звездный-крестовый»! И… какое «созвучие» с моим, у Дари! Ми-лая… осуществившаяся мечта! ставшая живой явью. Когда ты будешь сильней, ты мне расскажешь о «сне в 40-й день по папе» твоем, и как тебе Богоматерь дала «новое имя», все, все… сокровищница моя! – «В Виши поехать!» Господи, если бы это случилось! Оля, Олюша… а? м. б. удастся? это же лечиться, это же такая уважительная причина… Господи! Как оберегал бы я тебя, как дышал бы на тебя… всего бы себя отдал! Но если нельзя будет, я – о, поверь мне! – я все усилия употреблю, чтобы получить позволение приехать, – и литературные дела оформить, и тебя увидеть, сердцем к сердцу тебе сказать, _к_т_о_ ты для меня! Оля, будем верить, что вся запутанность жизни вдруг и разрешится… – _к_т_о_ _ч_т_о_ знает! Только не приходи же в отчаяние от медленности поправки: вернутся силы, будь бодрей духом, заставь божественную силу твоей Души влиять на тленное, и преодолеет она, и… какая же ты чудесная «орхидея» будешь! _ж_и_в_а_я, таинственная-глубокая душой, внутренним ликом… прекраснейшая ликом живым, цветением женщины-девочки! О, какая ты чарующая, я _в_и_ж_у_ тебя… – и что, что все прекрасные перед тобой, для меня! – А как опять чудесно ты – в нескольких строках – дала историю этой несчастной «девочки», «женщины»? Как ты уме-ешь! Неужели не видишь.?! Олюшка, глупенькая, трусиха, изволь, как поправишься, прислать мне «Говенье»! Хочу, хочу. Ты все навыворот судишь о себе. Да, ты очень чутка к искусству, в оценках, но… «самооценка» – совсем другое. Поверь же… Я… часто ошибался в своем. Потом уже… начинал _в_и_д_е_т_ь. Ты – _м_о_ж_е_ш_ь. И потому – _д_о_л_ж_н_а_ писать. Не стану кадить тебе, довольно с тебя и с меня, но знай: если ты еще раз станешь кукситься, трусить, отмахиваться… – я озлюсь, серьезно: ну, что мне делать с таким упрямым ребенком! как наказать? Или – дураком себя признать? бездарным? олухом? «свиньей в апельсинах»? Не приводи же меня в отчаяние и в исступление, наконец! Чертовски интересен твой рассказ о «девочке»… вот трагедия с комедией-драмой! Разберись тут… да еще и «почки»… ну, и «амбара де ришесс»![162] И черт их знает, че-го людям не хватает! Это _н_е_ _л_ю_б_о_в_ь, во всяком случае… – это «капризы любови», это какое-то «дегустирование сы-ров…» любителями… это – «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Мудрый Эдип, разреши! А ты… ты и _п_р_о_щ_е_ всех этих, и ку-да сложней, изысканно-сложней, душевно-сложней! И потому – так прелестна. Я-то знаю, _к_у_д_а_ и _ч_т_о. В тебе весь молниеносный блеск _б_о_ж_е_с_т_в_е_н_н_о_г_о_ в _Л_ю_б_в_и. И как же мелки и, при всей «сложности непонятной», тусклы все эти потуги «исканий и колебаний _и_х_н_е_й_ _л_ю_б_о_в_и_ш_к_и». Ну, понимаешь, _к_а_к_ _ж_е_ ты для меня-то сверх-заманчива, глубока, изысканно-изящно заманна?! _В_с_я_ – другого сплава… из какого-то небесно-земного неведомого элемента. Неопределима, неизъяснима… и – так чиста – _п_р_о_с_т_а… «Проста» в высочайшем значении, как лучшее у гениального Пушкина, как почти все в Евангелии, Слове неземном, в слове-Духе!
Ты зачеркнула пять строк о своей зимней болезни… почему? Можешь – скажи. Но ты скажешь это только тогда, когда пройдет слабость: не напрягайся, подожду, ты – вот первое для меня, над всем, превыше всего. Родименькая, Олюночка моя… как я был счастлив твоим пасхальным гиацинтам! Отцвели. Но «мотылек» еще держится. Ах, какие пасхальные яички у меня для тебя! Они из дерева, покрыты пунцовым лачком, и на них – писал уже – пасха с куличиком, на втором – вербочка —!! – на третьем – храмик наш, белый… и на каждом на другом бочку – X. В. – золотистым. Странные Лукины… Я им на 2 день Пасхи послал письмо с X. В. и запросил, когда можно заехать к ним, чтобы передать яички, которые можно, каждое, в жилетный кармашек положить, для тебя. На 5–6 день от них цветная открытка с X. В. и поздравлением, но без даты. И только. Не получили моего письма? Не может этого быть?! Значит… убоялись «комиссии»..? Но тогда скажи прямо… а не играй в молчанку. Этот прием мне очень не понравился, – да еще после таких сердечных двух приемов с угощениями, после моего присыла книжки для Лукиной! Не понимаю. Но, перемогая себя, напишу сегодня, выясню. Я втайне надеялся хотя бы один флакон духов послать тебе, хоть «сирень»… Не удастся, плюну на них с досады… и буду ждать шефа Сережина, только устрой, чтобы он мне адрес парижский дал. Я же не злоупотреблю их любезностью, не в обузу будет. Размер яичка таков: высота около 6 см, ширина – около 3. Сейчас они стоят перед твоим портретом увеличенным. Чудесно, тебе понравятся. Ласковы уж очень, особенно с вербочками и с храмиком! _Т_в_о_й_ храмик. Сейчас напишу Лукиным. Сумею, вежливо. Что до о. Д[ионисия]… так Ирина С[ерова] передавала впечатления главным образом школьные, и я не принимаю их, как непреложные… – тебе лучше судить. Мне только показалось странным, в мое посещение… – Обычно, когда я куда прихожу, – да еще впервые! – я встречаю… или, вернее, хозяева меня встречают в передней… – я вовсе не честолюбец, а всегда стесняюсь, особенно впервые… – А тут… о. Д[ионисий] ко мне не поехал, даже на мое приглашение… – а я сказал, что нарочно для него заказал кулебяку… хочу его угостить, – это в письме писал, при свидании говорил… – чтобы он видел, как живет русский писатель, у кого есть чуткий друг-читатель… его прихожанка и духовная дочь О. А. Бредиус-Субботина. Увидит, и ей передаст, и это для нее будет интересно и предупредительно, с его стороны. И вот я поехал, первый, приехал… меня вышла встретить мать его, а сам он… он остался в кабинетике-столовой… _з_н_а_я, что приехал русский писатель, кого многие хотели бы видеть, – обычно-то! – и о-чень даже, и все же постарше смиренного инока… – а он, вполне здоровый тогда, не сделал и шага навстречу, а при моем входе в комнату, поднялся от столика… и… был большей частью нем, как рыба. Ну, суди сама… _ч_т_о_ _т_у_т. Мне это не было в обиду – я для тебя _в_с_е_ готов принять, Бог с ним, со «смиренным»… И вот, теперь… неполучение ответа на ясный запрос-просьбу..? _Ч_т_о_ это?! Но я люблю все открыто, начистоту… и потому выясню умело, с тактом. Чтобы увериться, да что же в самом деле _э_т_о_ _в_с_е. Я пошлю о. Д[ионисию] письмо, поблагодарю за посылку и кончу этим: – да, еще за одно одолжение… – и кончу. Он мне, _т_а_к_о_й, не нужен. Если он хорошо на тебя влияет, я рад, искренно. Но мне _п_у_с_т_о_ с ним. Думаю, что мое внимание – в признательность за одолжение я ему подарил «Свет Разума», – стоит его хлопот. Ну, просто, он… _н_е_ широк душой и _н_е_ глубок чувством… или – _ч_т_о_ _ж_е_ тогда? Или же он почувствовал, что я-то его _з_н_а_ю, его – по моей оценке – сущность? Не обижайся на меня, Оля, – это я спокойно, «без сердца», конечно. Это – мимопроходящее.
Ну, Господь с тобой, дорогая. Будь здоровенькой, свеженькой, окрепни, запой, птичка моя истомившаяся… и я буду так светел, так радостен тобой.
Целую тебя, ласковая, нежная… я так люблю твои сердечные письма, киночка моя, – певунья… когда запоешь? Олюша, дай глазки… губки…
Твой Ваня
[На полях: ] Где ты сейчас… дома?
Господь да обережет тебя, родная моя, дружка моя, чудеска!
Сейчас написал Лукиным очень вежливое письмо, про-шу принять поздравление – Христос Воскресе – т. к., по-видимому, своевременно посланное письмо мое – пропало?
Мамочке – и Сереже – сердечный привет. Целую руку.
133
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
18. IV.42
Милый Ванюша! Я не нахожу себе места – что с тобой?? Твое последнее письмо от 7-го, такое унылое, какое-то безжизненное, «выветренное». И до него последнее от Великой Субботы такое короткое, правда бодрое, но ничего не рассказывающее. Теперь я думаю, что это не случайно, что оба они в одну страничку, написанные от руки, – на-спех? Через силу? Ты болел? Да? Ты лежишь, потому и от руки? И мне не понять чем вызван твой такой _у_п_а_д_о_к_ 7-го? Почему «не было Св. Дня»? Что случилось за несколько часов от Причастия и до Заутрени? Все мне загадочно и не понятно. Я и не ждала, что ты мне часто будешь на пасхальной писать; – я знаю как, верно, тебя треплют почитатели, и еще, конечно много всякой праздничной суеты.
Кроме всего я знала, что ты поедешь на могилку и на это уйдет тоже целый день и м. б. и следующий… тяжело будет. И все то я понимаю. Я и думала, что раньше 4-го дня Пасхи ты мне не напишешь обстоятельно. Но теперь я ничего не понимаю… Зачем ты меня терзаешь? Я тебе массу писала из клиники. Получил? Вчера С. рожденье было. Мы ели пироги с вязигой, а я еще и клюквенный кисель. Спасибо, солнышко! У меня еще есть твои конфеты, и шоколадные и медовые! Ваня, умоляю, напиши тотчас же! Что с тобой? Я все еще лежу – вчера много вставала. Стараюсь поправиться.
Целую. Оля
На дворе весна, а я ничего не вижу!
У вас тепло? Ваня, что с тобой? Я не сплю!
134
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
20. IV.42 7–30 вечера
Радость моя, Олюша, сейчас твое письмо от 9–10.IV. Тебе лучше! – знаю из утреннего заказного письма, от 14-го!288 Но «заря здоровья» уже занимается в этом, от 9–10. Начала спать! И спи, во-всю спи, – это же укрепление. Ничего не бойся, ты – на пути к полному здоровью. Помни: нервы твои всему причина: и болезни, и – выздоровлению. Управляй собой! Мо-лись! За тебя молятся достойные. Ты – угодница Господня, не «недостойная». Олюша, гони черные мысли. Почему угаснет наша переписка?! что ты надумываешь?! Теперь – если это возможно – я еще безмерней люблю мою Олюшу-больнушку, мою детку. Хоть бы ты была «расстрашная», – как ты не поймешь! – я еще бездонней был бы _т_в_о_и_м! Твои страданья меня как бы прирастили к тебе… поняла?! При-жи-ви-ли. Не оторвать ни-какой силе! Ты мне – _в_с_е. В_с_е! – пойми же. Бесценная, благо, сила, красота сердца, душа моя светлая! Весь перелился в тебя, все сердце отдал тебе. Чту, молюсь. Радость нежданная! Ты – здорова! И посмотри – какая радость будет в тебе светиться день ото дня! Ты – здорова! Благодарю Господа. Мое сердце _з_н_а_л_о_ это. И – знает. Олюша, девочка, детка… – живи, как птичка, не думай, не уставай. Спи, ешь, – не смей тревожиться, ни-чем. Твой, только, весь Ваня
[На полях: ] Я зацеловал твой цветочек-поцелуйку.
Я твой, _в_е_ч_н_ы_й… Оля, я же не мальчик – и ты знаешь это, и – о, не забывай!
Целую глаза, губки, всю, мою, О-лю-у!
135
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
22. IV.42
Милый Ванюша! Отчего ты не пишешь?!
Не понимаю, что с тобой, мучаюсь догадками, сержусь на тебя, потом опять страдаю, боясь не болен ли. Мне никак не понятно, отчего у тебя этот припадок тоски. Это письмо 7-го!289 И с тех пор у меня ничего нет от тебя! Невероятным мне, что ты не написал мне ничего на Светлой Седмице. Ну хоть бы сказал как был за утреней, подумал ли обо мне? Ты всякий раз мне (даже в 1940 г.) писал что «мысленно христосовался». И особенно теперь, зная, что я-то в плену у болезни… Я не могу найти объяснений… Или ты увлечен? Чем? Кем?? Твои последние 2 письма – оба слишком «на-скорую руку», торопны… Пусть там много милых слов, но сердца твоего я не слышу в них… За что-то ты меня казнишь, (если не увлекся кем-то). Мне все чаще и чаще приходится мучиться мыслями, что «любовь» твоя ко мне – не мне… Я не могу от этого отделаться. Я чувствую в тебе с зимы какую-то отчужденность. Не обманывай меня, что я ошибаюсь! что-то есть!!
Есть что-то, что стоит (м. б. и кто-то) между тобой и мной. У тебя!! Прости мне вчерашнее мое письмо тебе. Оно вышло из страдания от неизвестности. Мне кажется, что тебе обузой кажется частое писание писем. Тогда не пиши! Я ценю только то, что по доброй воле. Я ценю свободу мужчины, а не рабство, и потому никогда не посягала на всякую его свободу. Я даже «Елену» тебе не запрещала, только просила мне об этом не писать.
[На полях: ] Хотела спросить Серова о тебе, но при мысли, что ты разлюбил, – не могу по самолюбию. Пока не получу, – писать не буду.
Мне – кажется, что я тебе наскучила…
Мама каждый день получает почту сама. От тебя нет писем!
Целую. Оля
136
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
24. IV.42
Дорогая сновидица Олюша, кто видит твой рисунок290 – восхищены. Доктор пришел в раж. Очень тебя жалеет, уверяет, что ты будешь здорова. Очень одобрил «селюкрин»! Гемоглобин, привлекая кислород, вызывает аппетит и улучшает питание, через кровь, сосудистых клеточек. Никак не способствует кровоизлиянию. На мою просьбу вдуматься и дать совет – отвечал: приемы в каплях слабого раствора хлористого кальция, 20–30 капель, 2 р. в день, ну – двухпроцентного раствора? И еще – принимать желатин – не фальсификацию его! – в форме разных желе. Есть же в рыбьей-то стране желатин! И вот почему. Хлористый кальций, как желатин, повышают вязкость крови и тем способствуют уменьшению возможных случаев кровотечения. – Твой последний цветок-мотылек храню, привесил под лампадку, рядом с валаамской сосновой шишечкой. Жду проекта обложки в красках. Я пленен твоим вкусом, твоим даром, всем в тебе. Слова «он нашего Роду» – сказаны были Ею про преп. Серафима, не преп. Сергия. Молюсь за тебя. Спокоен. Верю. Узнаешь радость здоровья. Спи больше. Избегай волнений, управляй собой. Ей молись! Как ты описала сон! Оля, ты должна, поправившись, закончить школу живописи. И не бросать литературную работу: ты – истинная! Не удручай же меня, трусиха! Изволь мне дать «Говение»! Милый «калачик», киса… прошу! Целую, роднушка. Твой Ваня
Ландыши чудесны.
137
О. Л. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
27. IV.42
Ванюшечка мой чудесный, солнышко мое, голубчик!
Такая нежность у меня к тебе… и так хочется мне тебя приголубить… Вот между делом (я встала сегодня вплотную, смотрю за работой моей «трамбовки»291, бьющей все и ломающей) не могу утерпеть, не могу молчать. Взяла сегодня перо и пишу тебе! Как мне кажется, что будто скоро тебя увижу! Отчего это?! И когда котишка моет лапкой рыльце, – думаю: «Ваню намывает!» Как оживает все, зеленеет, как все, все – _т_в_о_е! Все, что _ж_и_з_н_ь, – все это твое! Ты – вся жизнь сама! Ваня, ты долго-долго будешь жить, ты – жизнь! Милое солнце – мой Ваня! Радость моя! Мне грустно, как подумаю, что мои «злые» письма (они не были злые, если даже на такие и похожи) тебя замутят! Ваня, мы до того созвучны, – это правда! Я чую твою тоску, а ты мою! Ох, Господи, помоги же не поддаваться ей, помоги мне беречь Ванечку! Но это «сумасшествие» мое от любви к тебе! Ванюша, каштан напротив – весь изумрудный, горит на солнце. Мне рисовать хочется… Но я так бессильна, бессильна из-за неумения. О здоровье не волнуйся. Я много лучше стала! Вчера мигрень была и то ходила.
Немножко розовею. Кончила лекарство, которое дал доктор (вытяжка из печени + vitaminen[163]) и со вчера беру твой селюкрин. Радостно принимаю, как твою волю.
Хочу, чтобы ты помог мне стать здоровой!
Сегодня был страшный сон. Тоскливо было, – боялась не заболела ли опять, безумно боялась… посмотреть. Ребячески. Но… ничего. Когда утром не бывает крови, то я смелее: обычно всегда это утром начинается, всякий раз… Видела во сне, что я в большой белой комнате, – будто палата больничная, какой-то народ. Я знаю, что я тут первое лицо, ну вроде как было в лаборатории раньше, и по какому-то случаю должны меня чествовать (юбилей или я ухожу), и вот я знаю, что должно молиться и соображаю, что «секретарь» прочтет молитву. А кто – «секретарь» – не знаю. И вдруг какой-то тип обращается ко мне и говорит: «нет, Вы прочтете „Отче“». И я становлюсь впереди и думаю: «Отче, – иже еси на небеси». И тут же читаю особо ударя на «н_а_ш», «Отче н_а_ш». Читаю с невероятным подъемом. В душе же горит: прочту так, как ученики Христовы должны были впервые, за Ним, читать. Каждое прошение четко, будто огнем выжжено в сердце. Я все горела, вся была не здесь! – Кончила словами священника: «Яко Твое есть Царство…» И кончив, обернулась, к людям. И тот же тип, что заставлял меня молиться, – подает мне сверток, трубочкой, разворачивает и вынимает оттуда цветы… георгины, лютики… осенние цветы. Довольно помятые. И читает «адрес». Но я не слышу. Мне чего-то щемит сердце, и я проснулась. М. б. заболею? М. б. молиться больше надо! А перед тем снилась чужая квартира и одна комната с обоями в иконах. Сплошь иконы отпечатаны на обоях. И венчики горят-горят. И будто я знаю, что это образ «Хрисанфа и Дарий», а вглядишься – и не видно!.. Ну, это уж твои «Пути Небесные»! Ванечка, ты в них? Родной мой, – дай Бог тебе труд легкий!
Ванюша, не хвали меня! Я гадкая и бездарная. Не думай, что я из «ломания» это говорю. Чтобы ты не думал, я даже одну свою бездарь тебе посылаю. Убедишься сам. Я ничего не могу. Но я все-таки буду стараться. Для тебя! Если ты мне велишь, то буду! Только потому и попробовала свою физиономию изобразить. Но это же мой – позор.
Ни умения, ни души, ни техники. Правда, моя стихия – краски. Не любила ни карандаша, ни угля. Я иногда прямо, без рисунка, «по-наитию» кистью только в 5 минут могла. Смелее кистью я. А карандаш меня «увлекает» к «подробностям», требует «отчета». А я не могу! Карандаш – грамматика в рисунке… Без грамматики нельзя, конечно, но, ох, как сухо! Я языки учу тоже без грамматики, грамматику уж после, когда говорить научусь.
Я немецкий язык учила-учила, – ничего не понимала. А потом, как перестала возиться с грамматикой, так в 1/2 года с разговора выучила. Я им очень хорошо владею. Но Гете, Шиллера, Лессинга, Клопштока, Грильпарцера, Клейста, я читала со словарем. Особенно Гете! А потом перечла, и так легко! Для разбора «Фауста» я брала уроки… А ты знаешь, что голландский язык я выучила не учась. Просто так. Много читала. Мы дома не говорили по-голландски, очень редко, но тем не менее я совершенно свободно говорю и думаю (если в голландском обществе) – по-голландски. Я даже иной раз (не смейся) поправляю А. в его «германизмах». Иной раз он оговорится, «переводя» с немецкого. Некрасивый язык голландский! А французский я забыла! Я быстро усваиваю и еще быстрее забываю! Но я люблю французский язык! Английский 3 раза начинала и не могу! Отвратительный! Для Г. учила, хотела, очень. Не могла! Не решалась заговорить! Так и бросила. А французский очень хочу обновить! Когда-то я хорошо, бегло говорила, после института. Все забыла! Потому что годами болтала по-немецки. Немецкий для меня как русский. И там, в Германии, никто не думал, что я иностранка, принимали за «Ost-Preussen»[164]. Мне все хочется учить! Я когда-то мечтала стать адвокатом и принялась было за «право». Потом увлекалась психологией, очень увлекалась медициной. Влюбилась в одного студента-медика просто с вида, со слуха. Читал что-то вроде семинара в университете в Казани. А я туда ходила, т. к. вход был разрешен всем. Я все их лекции посещала, какие были для всех (не из-за «него», а наоборот: «он»-то из любви к медицине!). Никогда не увлекалась учительством. Хотя готовилась на учительницу немецкого языка.
Но это больше из практического применения знаний. Ах, чего я расписалась о себе! Ванечек мой! Приедешь? Постарайся же! Как мне в церковь хочется! Какой ты счастливый, что можешь быть в храме! Когда твой литературный вечер? Напиши точно! О, как хочу быть там! Какие счастливые люди, которые могут! Ваня, пойди в немецкую комендатуру и спроси все, что тебе нужно для поездки! Скажут! И часто дают совет. Сережиного «шефа» не уловишь – постоянно в Париже. С. их сам не видит больше – все сам ведет. Мне ничего ты не посылай! У меня все, все есть! Духи… их так у меня много! Когда ты приедешь, то все открою, все для тебя, с тобой попробую! А до тебя берегу!
4 ч. дня Ванечка, все, все о тебе! Здоров ты? Скучаешь? Не томись, дружок! Как твои «Пути»? Ванёк, если бы нам Божий мир вместе увидеть? Палестину! И если бы… родную Землю! Ах, Ванечка, я так нестоюща, мелка, – а ты меня возносишь! Поверь мне, – я знаю себя! Ванечек, никого я особенно не очаровываю! Про клинику напишу тебе, – старшая сестра меня ненавидит верно! Я – «скандалисткой» могу быть! Знаешь как было? Когда 26-го марта, после исследования ничего опять не нашли, то ассистент Капеллена (последний уехал) придя ко мне сказал: «мы должны сделать еще одно исследование крови на витамины, а Вы обещайте, что ничего до этого не будете ни есть, ни пить, – это очень важно. Мы хотим наконец найти причину». 27-го никто, однако, не был за кровью. 28-го тоже. 29-го – воскресенье – является опять ассистент и говорит, что завтра будут брать кровь, т. е. 30-го, и снова просит ни есть, ни пить. Я вечером 29-го в 5 ч. в последний раз чай получила и ждала на другой день, как манны небесной исследования, чтобы наконец что-нибудь знать. В 10 ч. утра никто не пришел (обычный час для лаборатории), в 11 ч. тоже, в 12 ч. я спрашиваю придут ли уж? – «Конечно!!!!» (отвечала старшая сестра). Около 1 ч. я (будучи уверена для себя, что меня забыли) опять спрашиваю. Опять самоуверенное: «ах придут, не волнуйтесь!» В 1 ч., в 2 ч. – никого. Наконец я говорю моей милой сестре: «позвоните в лабораторию, – они верно забыли, а я пить хочу!» И вот тут-то и выяснилось, что старшая сестра перепутала все: она должна была известить доктора в лаборатории о желании Капеллы, а она думала, что сам ассистент придет. Моя-то сестричка знала, но не смела ей противоречить, но потом-то все-таки осторожно сказала, что та ошибается; а вначале та просто заявляла: «все в порядке!» И вот в 2 ч. мне несут обед!! Я справляюсь: «что же сегодня не придут?» – «Придут, но Вы можете кушать!» Я отказываюсь. И вот летит вся в красных пятнах старшая сестра: «что тут за самовластие? Вы можете есть!» Я очень спокойно ей возражаю, что если сегодня придут, то лучше потерплю, т. к. я обещала доктору – «Совсем этого не надо, (мне было нельзя долго так без еды и питья – для почки – яд долго без питья, у меня же еще кровоизлияние было! потому и бесилась, что сама напутала) и доктор знает!» – «Для меня авторитет здесь только д-ра ф. Капеллен и его заместителя» – говорю. Та взбесилась. «Это самовластие». – «Нет, говорю, но я хочу точного исследования, мне надоело ничего о себе не знать и мучиться 2 года». – «Ах, доктор может высчитать сколько витаминов Вы съедите в обеде». Это абсурд, т. к. нельзя высчитать. Кишечник по-разному воспринимает, в зависимости от его состояния. Мы, желая точно узнать то или иное содержание крови при искусственном «обременении», давали искомое не через рот, а в мускулы, не надеясь на кишечник. Я работала до предельности точно. Ненавижу «кое-каканья» в работе. Сама себя отдавала для других, а тут так «валяют». Ну она на меня накинулась, что я ничего не понимаю, а спорю. Тут я сказала: «я сама 10 лет почти работала и знаю, что значит точно работать и именно работала для проф. Rost’a292 о значении „натощак“. Прочтите его работу и увидите». Вылетела пулей и сказала, что «глупо так упрямиться». В 4 ч. пришел доктор. Все пациентки и из соседних комнат мне аплодировали, что не дала себя одурачить. А перед тем, часа в 3 приходила старшая сестра в комнату за чем-то и «мило» улыбаясь мне прошипела: «M-me состязается с Ганди?!293» Остроумно, но не уместно пилить больного. У меня буквально язык присох от жажды. Но, подумай, если бы я в 2 ч. поела, а в 4 ч. взяли бы кровь!.. Какая досада! Не думаю, чтобы она меня любила!
[На полях: ] Ну, мой милый, родной Ванюша, кончаю, но так хочется еще и еще говорить с тобой! Посылаю тебе свое «малеванье». Не суди очень строго. И не слишком тяжело разочаровывайся в моих «талантах». Ибо я сама-то давно примирилась. Я же бросила не зря рисованье! Целую. Оля
Напиши как проводил Пасху!
Хочу верить, что дойдет этот «портрет»294. Только ради тебя его сделала!
138
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
30. IV.42 6 вечера
Олюшечка, милая, ты все еще не получила моего заказного письма 14 апр.?! Твоя открытка, 22-го апр., в отчаяние привела меня. Что, что ты еще навыдумала?! Не слышишь моего сердца?! Господи, что ты говоришь… «мне кажется, что я тебе наскучила!!!» Нет, ты просто и-щешь, чем бы еще тревожиться. Ты вся метешься, метельная… мало тебе страданий?! Но я в отчаянии, ты опять ни словом о твоем здоровье, – ну, зачем так томишь! Ты _в_с_я_ – тревога, вся во власти твоего болезненного воображения, и я понимаю это, – сам такой же, почти такой же. Милая, голубка… Олюночка… поверь же твоему Ване: ты, только ты у меня в сердце, и нет минуты в днях, когда бы не думал, не тосковал по тебе. Нет, я никем не увлекался, и _н_е_ _м_о_г_у. Что же это – за пошляка меня считаешь! Чушь какая! И не в мою пору «увлекаться». Поверь, – не крыловский же я петух295, нашедший жемчужное зерно! Милая моя жемчужина, поверь. Вчитайся же в мои письма! И что ты, откуда вывела, что я «с зимы» _т_а_к_о_й, что ты чувствуешь какую-то «отчужденность» во мне?! Ты все окрашиваешь мрачным тоном дурного самочувствия, – следствие твоей болезни. Голубка моя, я до боли… понимаешь, до острой боли тебя люблю! – этого передать нельзя. Нет, писание писем не кажется мне обузой, но бывают полосы дней, когда – в отчаянии – чувствуешь себя опустошенным: тогда и в письмах не находишь облегчения, исхода. Пасхальная неделя такая выдалась. Я болел твоими терзаниями, места не находил, не знал, где ты, как ты… и ждал, ждал… в оторопи, как бы в анабиозе. И не мог быть на людях. Только раза два откликнулся на зовы – поехать позавтракать, и тоска шла со мной неотвязно. Бывали минуты отчаяния, когда я думал, что тебя уже нет на свете! – Ольгуночка, разве я не писал, как с тобой христосовался? Заутреня Светлая была при дневном свете, и все было как-то – для меня! – не _с_в_е_т_л_о. И воспоминания детства, когда все было так необычайно… и о мальчике вспомнилось… и об Оле… – и я _з_н_а-л, что не найду сил поехать в Сен-Женевьев послезавтра. Бывало, я на первый день ездил. А тут, после ночной тревоги под 2-й день, перебило сон, проспал. И это мне было неприятно. И вот, похолодало, были дожди, и я оттянул поездку до Радуницы. Помни же, беспокой-ка, бесценная моя девочка, что никто, никто не стоит между нами! – этого быть _н_е_ _м_о_ж_е_т. Знаешь, не обижай меня. Как же ты меня мало знаешь!! Ты для меня – священна, совершенна. И если бы это было возможно теперь, – еще сильнее любить тебя! – да, я сильней бы тебя любил. Но я так люблю, что больше нельзя любить. Мне жутко читать твои слова о «свободе мужчины»… – я этого не понимаю. Для меня свобода – верность чувству, хранение его, бережение… благоговение перед той, кто стала _в_с_е_м. И твое про «Елену» – «не запрещала» – меня жалит. Никого у меня после усопшей не было для «свободы», и _н_е_ будет, не может быть. Поняла? Я писал тебе в апреле: 3, 4, 7,14, 16, 17, 20 два, 23, 24, 29296. Когда я в оторопи, когда жду «важного», – а в данном случае о тебе, как ты, лучше ли… – я не могу быть самим собой, я как бы в оцепенении, и не могу ни думать, не писать, ни… на людях быть. Это болезненная черта, знаю. Все ночи я спал с перебоями, вставал разбитый, противен самому себе был. Я замирал… и потому не находил воли тебе писать. Признай же за мной эту неприглядную правду, – я сам томлюсь ею. Олюшка, дайся мне, я тебя, кажется, зацеловал бы всю, всю… бедная моя мученица, выдумщица… – и так мне понятно это твое. Но это же мешает выздороветь! Ну, что мне делать с тобой? Ужас и великая радость – иметь такое огненное воображение. Я тоже его имею. Да, да. _Т_а_к_о_е_ же. Но я старше тебя намного, и держу себя. Оля со мной мучилась. Я почти на все смотрел вывернутыми глазами, как бы – желая? – ожидая всегда «самого худшего»! Вот и ты, глупенькая моя… И это тебе болезненное удовлетворение – найти колющее, жалящее – ив моем, таком к тебе светлом, таком неизмеримом чувстве любви! Я бы много написал тебе, что во мне бьется жарко (к тебе!)… но я не могу в письме… и это только мешало бы тебе окрепнуть. _К_а_к_ сильно я люблю, как я воображаю… как я ласкаю тебя, Олёк. Это – безумие было бы – писать… это можно только шептать, даже глаз боясь… Но это – близко страсти… а я еще и по-иному чувствую тебя… о, как же свято! как чисто, вдохновенно! – тут даже и коснуться тебя мне страшно было бы. Не пойму, почему мое от 14-го, заказное! – ты и 22 не получила! У Светлой Утрени я с тобой был… и с тобой первой поликовался в сердце… и шептал – звал… – где ты, Олюша… дома ли, в больнице ли… – но ты во мне, со мной, твоя душа, твой духовный образ… – со мной. Пришел домой, в одинокую мою квартиру. Один. Это была полоса «налетов»297, и все – по домам. Заутреня началась в 8 вечера – по солнцу – в 6! – кончилась – около 9. В девять – я был дома. Досидел до часу. Читал Евангелие, смотрел на тебя, перецеловал «пасхалики» твои нежные, всю комнату наполнившие гиацинты… и твоего «мотылечка» сколько целовал, последнего. Теперь он висит, усыхающий, под лампадкой, рядом с шишечкой валаамской, – писал тебе. Мечтал: если бы ты была со мной! Я всю тебя опрыскал бы ландышем, сиренью, фиалкой… – и пил бы твое дыхание. Да, пытка это – так чувствовать – и не видеть даже! Не упрекай меня, что будто «мысленно даже не похристосовался». Неправда это. Оля, я очень истомился. С января – да и раньше! – все терзанья, – правда, я виноват… открытка та! – но я же тогда еще послал вдогон – «не придавай значения!» И потом твои «метанья», попытка «определить себя», твоя болезнь… и как же тебя истерзали в клинике! И вот – итог всего – итог логический! – эти твои укоризны… но не смотри вывернутыми глазами, – _м_н_е_ _в_е_р_ь! Самым священным заверяю тебя, моим дорогим, утраченным… – смею ли здесь покривить душой?! – заверяю: ты _в_с_е_ для меня, пой-ми! ты – священна для меня. Наконец, я _у_с_т_а_л_ уверять! Зачем делаешь мне больно?! И каждая слезинка твоя горькая, – мне страдание, каждое тревожное движение сердца твоего – боль мне.








