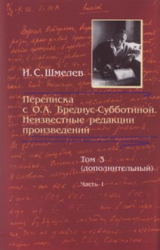
Текст книги "Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Том 3 (дополнительный). Часть 1"
Автор книги: Иван Шмелев
Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина
Жанры:
Эпистолярная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
У меня +14, 15. Вчера весь день писал тебе. Твое сегодняшнее письмо все сбило, не шлю.
Твой безоглядный, как и ты моя – всегда т а же, моя чистая! Всегда верил и всегда буду верить.
99
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
3. II.42, 3–30 дня
Ольгуля, безумная Ольгуна, ты – необычайна! Я измучен, – и я же не могу не сознавать, что ты совершенно исключительное «чудо жизни», «чудо человеческой сложности», всего потрясающе-неожиданного, изумительного, непобедимо-влекущего, что мог дать _з_е_м_л_е_ – и… Небу..? – Всемогущий Художник – Бог! Ты страдаешь, ты истекаешь в страданьях, – на 0,999… ты их _т_в_о_р_и_ш_ь_ _с_а_м_а_ сложностью исключительной нервной твоей природы, – так же вот ты могла бы _т_в_о_р_и_т_ь_ и – будешь! – в твоем искусстве! – ты открываешь головокружительные _п_р_о_в_а_л_ы, зияющие жутью пропасти и обрывы нечеловеческой психики… ты, вообще, _н_е_в_с_т_р_е_ч_а_е_м_а_ больше, – и ра-ньше! – в земной-обыденной жизни… – м. б. на каких-то иных планетах и есть усложненные существа, как продукт совершенно иных психо-физических законов, – я предельно-остро мучаюсь с тобой вместе… и – прости, Олюша! – я отступаю перед таким… сверх-человеческим и неопределимым… и не могу не сознаться, что ты покоряешь чарами этого твоего страдания, покоряешь неведомой мне силой страсти-муки, заставляешь плакать, жалеть, безумствовать от бессилия помочь, и простирать к тебе любящие руки в страстной мольбе-молитве за тебя, за эту неземную драгоценность, за это божье счастье, неземное счастье любить _т_а_к_у_ю, ангело-ребенка… за эту изумительную красоту души, которая вот-вот растает, разлетится в блеске, пропадет, как сон, и страшный, и прекрасный. Оля, Оля, прекрасная моя, Олюша, девочка-чудеска… – ну, утихни, сдержи себя, не расточайся так! Ведь все ты вы-думала, себе наворожила, нанизала как-то, чтобы страдать, чтобы заставить и другого испивать страданье, – и без умысла все это, из любви своей все это! – ведь _т_а_к_о_г_о_ сам изобретатель «подпольщины душевной», Достоевский сам не показал нам! – утихни, Господь с тобой, крещу тебя, как взбунтовавшуюся-разыгравшуюся в ночи детку… – детки, знаешь, если вдруг разыграются… – о-чень уж разыграются! – плачут ночью, мечутся с подушки… а утром – заболела! Родная девочка моя, утихни… _в_с_е_ я понимаю, _ч_т_о_ в тебе, и как-же больно мне!.. ведь _з_н_а_ю, _к_а_к_ это все напрасно, как – _н_и_ _з_а_ _ч_т_о! – сгораешь, только. Пойми, безуми-ца! Нет такой веры крепкой в человека на свете, – так лишь могу определить _с_в_о_е_ к тебе! – какой живу я. Понимаешь? Вера моя в тебя, в твою божественность, твою душевную и телесную Чистоту, в твою Нетленность, – в твою способность охранять честь-святость имени, какое носишь (родного-родового – _п_а_п_и_н_а!) – не голландского! так достойно носишь, Ольга… – эта Вера моя в твое чудесное _п_р_и_з_в_а_н_и_е_ быть примером человеческой духовной мощи, красоты душевной, чистоты, нетленной в искушеньях, – верь, Оля, эта Вера – безмерна, непоколебима, эта Вера изумлена, – вот что нашел сказать тебе, бесценная моя, непостижимая! Каждое мое слово, Оля, я чувствую, не может все же выразить всей полноты, какую ощущаю самым тончайшим щупальцем душевным… понимаешь? Тобой клянусь, самым священным для меня в сей жизни! собой клянусь, пусть покарает меня Бог, если я сказал неправду! Ну, что же, утихомиришься? поверишь? Дай же глазки, губки… – нежно-свято коснусь их поцелуем, девочка моя святая. Так люблю тебя… ну, плакать хочется, нет слова – передать всю силу чувства… счастья, что так люблю тебя! что и ты, я верю, я смею верить… и ты так любишь, правда? Ну, умирись же, моя страдалица, невольная, повинная богатству своему – к страданью. Но не могу передать тебе и силы своего тобой страданья, всей муки, всех томлений… только сердце знает, что с ним творилось и творится. Ну, довольно… испили оба… да, два сапога-пара. Ну, до чего же мы похоже с тобой переживаем! поражаюсь, как чутки и… как – сознательно? _н_е-чутки?! – понимаешь? О, ты, умка, все с пол-слова понимаешь. Но как ты смеешь говорить – «ничего не знаю», «не училась»… «куда нам с к. р. в суконный ряд»? Оля, умоляю… перепиши мне, _г_д_е, _к_а_к_ я писал тебе о «полуобразованности»? Это ты _в_ы_в_е_л_а_ сама, выдумщица, чтобы _ч_е_м_ еще меня примучить, приязвить… при всей твоей любви. Этого я _н_е_ _м_о_г_ сказать, это опрокидывает во мне все мое к тебе, это я не мог и боковинкой мысли думать: я всегда писал тебе: _к_а_к_ ты поразительно много знаешь! Ольга, безумная, истязателына, сумасбродка… слушай: ты – я сердцем говорю! – _в_с_е_ знаешь. Да! В тебе такая сила восприятий, ты так наделена богатством, что начинаешь дебоширить, издеваться над собой, терзать себя, с этого богатства! да, – «бывает это», – повторяю твое словцо! Брось, не проси «на бедность»… сты-дно! – можешь швыряться всем твоим богатством, – и не убудет, как в Неупиваемой. Ты знаешь _б_о_л_ь_ш_е_ всех ученых, всех мудрецов… ибо ты сердцем знаешь, _ч_е_м-т_о_ _т_а_к_о_е_ знаешь, что все «дипломы» – рваная бумага. Ты – _о_г_р_о_м_н_а! Думаешь – на ветер говорю, тебе понравиться? смиренье показать и заслужить улыбку? Нет, это всё со мной, тобой дано, Всемилостивейше, моя Царица! Не смей же каплюжничать, «себя жалеть» и пи-кать… – так дети начинают пикать-скрипеть, чтобы пожалели их «бо-бо»… не смей же, хоть и ребенок ты, при всей огромности. О, милая, ну как же я не знаю… как сказать, как передать, что чувствую… и как люблю… Ну, слушай… вот как тебя люблю… Вот ты… я смотрю, я начинаю задыхаться, мне трудно, в груди сжимает сладко-сладко, тают ноги, все… я коснулся твоей руки, держу… чуть подымаю, выше, выше… слышу, как ландышами… сиренью, всем весенним, всем твоим чудесным… тельцем… кровкой, всей твоей любовью нежной… нежной, как первые листочки клейкие, листочки золотистые на тополях… ты помнишь, духовые тополя у нас? – чудо-детство… даже сам Достоевский, такой скупой – и неумелый на «пейзаж»? – упоминает в «Карамазовых»203 —? – целую… тихо, чуть сильней к губам, сильнее, крепко-крепко… тебя вбираю, взглядом, сердцем, всем во мне, безгрешно-грешным… склоняюсь, умоляю… позволь мне… у локотка, вот тут, у ямочки, где дети прячут заплаканные глазки… ты прятала? там еще остались слезы… детство, маленькая Оля, детка, та – далекая! – помнишь… мечта о кукле-детке..? Ты позволишь… я _с_л_ы_ш_у_ эти слезы-детство… вижу тебя, дале-кую, тогдашнюю, на Волге, – и Волгу слышу, Волгой пахнешь, ее привольем, снегом талым ее полей, ночными звездами, чешуйчатым их блеском в ней… глубиной стихии… – все в тебе, все слышу… обнимаю, вдыхаю от тебя… целую всю, всю-всю целую… все в тебе родное… трепетное, святое, чистое, и… все цветы полей в тебе целую и вбираю страстно… – и безуханные – весенний воздух в них, и только, – и тонкий аромат подснежника, и горечь молодой полынки, и – будто слабой розы – бубенцов шуршащих… и розовую кашку, и любИсток-зОрю… – душисто-тонкий! – и ирис безуханный, нежно-голубой, и… вот он, ландыш… это дышишь ты, и незабудки, – хлебцем пахнут? Ты, Оля, помнишь теплую просвирку? – как тонко-тонко дышит теплотцой..? – вот это… от локотка так… – с детства сохранила? – чистая моя, малютка… О-ля, десятилетка, семилетка, пятилетка… Оля… ее целую, вижу, вызываю, создаю… Выше, выше… у плеча… оно покато… бы-ло… исхудала ты… ну – будет… слышу, сиренью дышит шейка… а это… как это..? там, у церкви часто, густо-густо… летом, в июне… пчелы любят в венчиках возиться… ну, шиповник! Розовые губки – как шиповник. Можно? Чуть, нежно, будто струйкой полевой пахнуло – поцелуем. И дальше… можно? Можно. Дальше… томно-сладко, ландыш? В затишьи любит, в затени… и губы ищут щечки, чуть у шеи, чуть… где кольчики волос, за ушком… Тепло и тихо… земляникой пахнет… – можно? Можно… Дремотно, сладко… вечереет день, склонилось солнце… Густой и теплый аромат лугов, ночных, скопилось за день жаром, охладевшим… Ми-лая, ночнушка… ты!? Как кружишь голову, томишь дыханьем, завлекаешь страстью… любка моя любимая… фиалочка ночная… вот ты где!.. Ну, дайся, нежная… Ну… умоляю… бледная какая, в крестиках телесных, страстных… вот ты где..! Бывало, как искал, заветную, зеленовато-бледно-золотистую такую… чуть дурманит… и манит-манит… пить дыханье, пить пьяное томленье… можно..? Нет? Нет, мо-жно..! Любка..! наша орхидея-тайна-греза..! мо-жно… до задыханья, до сладостного вскрика-счастья… Вот, моя Олюша… _с_о_н_ мой вешний, в твоих цветах приволжских, в запахах твоих лугов, твоих раздолий, – в твоем стыдливом, целомудренном, любовном _м_о_ж_н_о. Ну, _в_с_е_ прошло? забыто? Ты Ваню, тобою выдуманного, немножко любишь, да? Я – мно-жко, о-чень множко! Ну, поцелуй же. Веришь мне? Я? Как в Господа, – прости мне Боже! – в тебя я верю, в мою Олю! Ну, слушай – вот что было с твоим-моим пером.
Помнишь? 20 окт. «дубина» мне прислал, чуть не погубил «тебя». На следующий день машинка возревновала и сломалась. Чинилась долго, воротилась, застучала. Теперь перо возревновало и… раззявилось… Отвез чинить. 4 раза приходил: все чинят… странно. Потеряли? Наконец-то… нашли. Не починили: не выдержит «вашего нажима, густого штриха». Решили мы – я очень люблю твой, тонкий, – полюбил, Олечек! – переделать чуть – «на тонкий». И сегодня я добыл твое перо! Тонкий штрих!! твой!! Вот, смотри, как[129]: Как я тебя люблю, Ольгунка! Та-ак люблю, так люблю… вот так, до… писка! Скорей ответь мне, ради Бога! – как ты теперь? Опять себя вернула мне всей прежней? Да? Крепко? Как я жду встречи, и – нерасставанья! Вместе! Хочу с тобой молиться, – и любить, любить тебя. И будем писать вместе.
[На полях: ] Всю, всю, до… последней точки! – целую. Твой, верный, весь, Ваня
Я весь в вихре от тебя!
Прости за кляксу! Набирал в перо.
Поцелуй в зеркало себя (за меня!), а в натуре – Сережу и маму, но не говори, что я просил. Мне понравилось «парень». О-чень. А я сам иногда люблю всякую чепуху. Раздолье, разгул и – чертовщину. Да всю тебя понимаю! и – о, как! ценю!
100
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
5. II.42
Мой дорогой, любимый мой!
Спешу открыткой сказать тебе скорее, что все время с тобой, много думаю, пишу тебе. Написала почти уже большое письмо, но не смогла кончить, так как [в] этот момент (когда я писала) привели маму – она разбилась, упав с лестницы. Разбилась ужасно. Сейчас она лежит, стонет, все болит. М. б. сломана рука. Работники ее нашли, а сама она и не знает, как упала. Помнит только, что лестница стала скользить, т. к. на концах был снег. Стрясла все внутри и голову. Была и есть в сознании. Я ничего не слышала, а сидела и писала. Доктора-то тут даже не достать хорошего. А. тоже сегодня внезапно заболел. Думаю или прострел, или м. б. плеврит, судя по болям. Так что я кружусь между 2-х больных. Оба не могут пошевелиться от боли. Из каждой комнаты стоны. И помочь не могу. Холод адский всюду, мыши… Переселила А. в гостиную, там можно топить печку. Сама же я сплю в комнате с —2–3 °C. Ничего.
Ваня! Ты не волнуйся, что долго не будет письма, я постараюсь его сегодня ночью, если можно будет, докончить. Я вся с тобой, друг мой, люблю тебя, мое солнышко! Оля, твоя всегда!
101
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
5. II.42 второе
Милый мой, родной, любимый Ваня!
Не высказать все в одном письме. Пишу второе204. Ванечка, я конечно, тебя всего «поняла». И то, что мне не дали ни Алеша, ни Марина, дал ты, мой неоцененный, всю полноту своей души и сердца! Хоть и далеко ты, но как живой в творениях своих выступаешь, вся твоя Душа! Я все нашла! Я сразу тебя почувствовала, всего! Ты же знаешь, что любя, это так просто! Я не писала тебе об этом, т. к. страдала, томилась духом. Ванечка, спасибо за маленькие фото205 в письмах. Я получила их. О. А. очаровательна! Мила! Прелестна! Почему себя отрезал? И скорбного тебя206 я получила. Ванечка, можно их не посылать обратно тебе? Хоть пока?
Милушка мой, получил ты фуфайку, которую я тебе связала сама? Как сидит она? Не смутился, что «мала мол»? Нет, родной, она должна быть не растянутой, только тогда и греть будет. Должна всего «охватить» крепко, а не висеть. Я это опытом на С. знаю. Она вся растянется на теле, как чулок, и тогда будет сидеть крепко, тепло. Слушай, какая с ней была история: я с трудом достать могла шерсти, собственно для рукоделия, очень толстой и, раскрутив ее, связала фуфайку. Но цвет был «дикий», я не смутилась, думая ее окрасить. «Оказия» же должна была уехать. Я всё же вязала, думая, что м. б. еще кто поедет. И вдруг слышу, что «оказия» задерживается до первых чисел февраля. Гоню, вяжу, несу в красильню, умоляю, обещаю тройную плату за «срочность». Обещают, что 29-го янв. утром готово будет. Я расчитала, что успею сшить тогда отдельные части и отвезти «оказии». Сделала в отделении красильни заведующей подарок, прося ее звонить в красильню и напоминать. Обещала. Уже с 23-го я сама звонить стала. И вдруг заносы снега. Все встало. 25-го никто, ничего не знает. 28-го тоже. Я хотела туда сама ехать, на фабрику, но это у немецкой границы почти что, а сообщения никакого от нас. Автобус не ходил до Утрехта. Я в отчаянии. Звоню, что если не красили, то пусть пришлют не крашеную, – пошлю, думаю, уж и такую. А ты пишешь, что – 7°. Я в отчаянии. 29-го не прислали, 30-го тоже, 31-го звоню, – тоже. Наконец, 31-го вечером, я чуть не плачу, с мамой говорю, что какая обида. И вот, слушай, уже в 1/2 11 вечера (здесь не принято после 9 ч. вечера звонить, да еще в субботу), я решила звонить в отделение, на авось, не живут ли случайно кто при магазине, хотя глупо было, т. к. на другой день воскресенье – закрыто все, а в понедельник рано утром уже уезжала «оказия». Да и кроме того сообщение с Утрехтом таково, что мне бы и невозможно было успеть. Воскресенье – последний день, но так как воскресенье, то все пропадало. Я все-таки, по наитию, рискнула и позвонила… Слышу подходят (берут трубку). Извиняюсь ужасно… ко мне очень милы; надоумило меня что-то подарочек-то им сделать (тоже совсем не принято!). Спрашиваю: «ничего для меня нет?», и уже не надеюсь. И вдруг: «да! сейчас вечером принесли пакет „exprès“, и я хотела звонить Вам, но уже так поздно и Вы сказали, что 29-го последний срок, ну хоть оставили еще до 30-го, а потом я уж не думала, что имеет смысл». Я стала ее просить, нельзя ли завтра, в воскресенье взять пакет и у нее же сшить. Можно. Хотя, здесь наши фарисеи _н_и_ч_е_г_о_ не делают в воскресенье, даже грехом считают ездить на поезде. Условились, что в 11 ч. я буду. Я расчитала, что с автобусом в 10 ч. от нас. И, о, ужас! за ночь масса снегу! Но автобус пошел! Я получила, стала тотчас же шить, 1/2 часа до поезда было. Прихожу на вокзал и через 3 мин. поезд в Гаагу. В вагоне узнаю, что было накануне крушение (сошел с рельс поезд) и это (мой-то!) первый поезд пошел. Я свободно бы поспела съездить в Гаагу и вернуться в Утрехт до последнего автобуса (1/2 6 ч. вечера), но тут вижу не успеть. Мы стояли через каждый шаг. Приехали в Гаагу только в 1/2 3, а мой обратный поезд идет 3–12! И если на него не попаду, то и вовсе в Schalkwijk не попасть. Я уже в поезде начала дошивать фуфайку, но не кончила и стала соображать что делать. Но была уже и то счастлива, что она у меня уже в Гааге, а сама то я уж доберусь! Как только приехала, так побежала к одной русской даме и стала молить ее докончить. Обещала. Бедняга лежала простуженная с невралгией лица. Но мне было все равно. Только бы ты получил. Но не знаю как она выглядит? Тебе ничего, нравится? Или нет? Скажи прямо. Она совсем настоящая шерстяная, и это главное. Я знаю, что ты носишь пуловеры, – на фото в Ужгороде! Потому и решилась. А то некоторые не любят. Получил ее? Получил и о папе моем? Да, время летит… скоро масленица… я к тебе на нее тоже немножко хотела прийти… Ах, да, еще…. от 1/2 3 до 3–12 я успела съездить к «оказии», возвратиться на вокзал и захватить поезд. Была дома как следует! Разве не чудо? Прямо удивительно! У Сережи 3 месяца эта же красильня держала вещи, правда не «срочно». С. мне взял всю надежду: «нет, Олечка, отложи великие упования!» И вот! Это воля моя сделала! Теперь опять автобусы не ходят. Да, Ваня, о С. хотела тебе давно сказать. Думается мне, что ты предполагаешь его зависимость от Б[редиусов]?! Нет! Никому из них он не обязан. Совершенно случайно, м. б. только чуть-чуть благодаря мне, к нему хорошо относящийся наш сосед по Бюннику, порекомендовал его своему со-директору. Очень скоро они С. полюбили и поставили его наряду с собой, а теперь даже и отделение ему передали. Субсидировали его целиком, без единой расписки, переводя тысячи на Сережино «конто»[130]. И когда С. благодарил за доверие, то сказали: «да, его Вы имеете на все 100 %!». Сережка всецело сам пробился. И очень рад этому!
6. II.42 Тороплюсь кончать, т. к. ты, верно, заждался, Ванечек, дорогой, как больно мне, что ты не такой меня представляешь, какая я есмь, – легкой какой-то. Ты думаешь, что я могу «перепархивать» от одного к другому, «придерживая одного про запас»… Горько. Я писала тебе, что сумею ответ дать Богу за то, что, будучи женой А., тебя полюбила и хочу уйти. Да, я смогу дать ответ, т. к. никто не знает какой этот мой брак… И не надо никому знать. А «перепархивать»? О, если бы ты знал, как трудно я живу, во всем, как совсем не «легко». И вот теперь, непонятно и странно: – мне морально гораздо труднее уйти от А., оттого что от этого ухода зависит мое счастье[131]. Я до мучительнейшей боли душевной страдаю этим. Я очень сильно «человек долга», и мне было бы просто невозможно нарушить этот долг, если бы я чувствовала, что именно долг нарушаю (Никакая любовь, самая сильная, святая, чистая, не смогла бы извинить мне моего «преступления» долга. Если бы я совестью знала, что _п_р_е_с_т_у_п_а_ю. Или… если бы я не осталась на посту, то… я бы очень страдала. М. б. до смерти! Я же дам ответ! Я не преступаю.). Я тебе уже сказала, что если бы мне приходилось ломать семью ради другого, то это значило бы для меня ужас. Не знаю, что бы я пережила. Я не позволила бы себе «открыться», даже тебе, – подумай, даже тебе (!), которого люблю так, что нельзя сильнее, глубже, чище, прекрасней; я задавила бы все в себе м. б. умерла бы даже, м. б. не знаю что бы сделала, но осталась бы на посту. Ты для меня единственный в целом мире, я знаю, что полюбила бы тебя (и встретив, и по книгам) все равно, даже в самом счастливом браке. Я же не от скуки тебя полюбила, но потому что ты – Душа моя, Жизнь моя, Свет мой! Ты тот, которому я все бы сказать могла, все открыть. Ванечка, не ищи никогда в моих словах скрытых смыслов, я так перед тобой открыта. Дай мне возможность тебе смочь все говорить. Не забивай меня моим же, – это меня очень мучает, лишает самого заветного – возможности быть с тобой открытой. Я уверена, что мы были бы очень счастливы, если бы до конца поверили друг другу в искренности. Я сказала, что есть пункты, о которых надо только говорить. Но я уверена, что мы во всем сошлись бы, в главном. Иначе быть не может. И не привходящему же, постороннему, забить между нами клин?! Ванечка, я только 2 пасхальные свечки сожгла на елке, только твое желание исполняя. А 3 еще целы. Я тебя крепко обнимаю и благодарю за все! Конечно, я была ужасно тронута, и тем было все еще больнее. Вань, ландыши чудесны. Очень, очень было все красиво, в корзиночке с красивой зеленью: очень нежно-зеленой и совсем темно-зеленой-красной. В тон этим последним были на дужке корзиночки банты. Они все еще стоят. Я даю им засохнуть, чтобы весной высадить в сад. Бегония растет, – уже 3 листочка, я ее очень холю. Как рано в этом году Пасха! Ваня, я так люблю «Покаяния отверзи ми»207. Но не могла слышать. Давай в грядущем посте особенно чисто и тепло молиться Богу. Давай беречь покой Души каждого из нас. Не надо писать о наших «романах». Это была моя ошибка, моя «повесть». Я могла тебе устно все рассказать. Я себя нещадно сама бью совестью и бывало так, что на исповеди меня священник оправдывает, а я все свое, так что наоборот получалось: не он меня наставлял, пробирал, а я его заставляла. И в «повести» я тебе описывала вещи, кажущиеся всякому гораздо серьезнее, чем они были, просто потому, что о них говорится. Но я все же себя очень порицаю за многое. Но, Ваня, грязи не ищи!
Из писем священника (о. Диодор) ты смог бы также увидать, что N. не «преступник». О. Диодор имел дело с теми типами, которые N. оклеветали. Я сама даже уже это забыла, но перечитывая письма и это нашла. О. Диодор пишет: «не смущайтесь того, что наговорил про Вас N. – никто ведь ему все равно не поверит, зная Вас, нельзя этому верить!» Ванечка, я бы так хотела твоего покоя!
Как подхватило меня твое… о… лыжной прогулке208. Как чудесно! Ваня, я так хочу, хоть немножечко похожего! Тебя! Хоть раз тебя увидеть! Хоть раз! Я так часто смотрю на твой большой портрет. Любуюсь, говорю с тобой, хочу повернуть тебя совсем к себе, чтобы смотрел на меня, в меня! Он дивный! Портрет твой! Как я люблю тебя, Ваня! Поймешь ли ты все, что я тебе тут писала? Не обидишься ли, не скажешь ли «мало любишь меня, если можешь писать, что „морально трудно уйти“?» Но пойми, пойми, Ваня! Пойми меня, мою любовь к тебе! Пойми, что вот несмотря на мою такую «трудную» совесть, я все же писала тебе, что убежала бы к тебе! А это ты за «легкость» счел?[132] Нет, Ванечка, о, если бы ты все, все во мне видел, все знал!! Ванечка, я цветочков в пакетике не получила, но я их сердцем взяла. Я прилагаю к этому письму карту Д. М.209, т. к. то письмо очень длинное. «Подарок» – просфора, которую я ему на Рождество (без письма) послала. Я знала от его друзей, что он горюет без Литургии, в лесной глуши в санатории для больных волчанкой. И послала. Это было после того, как я ему о чувствах говорить запретила. А этой просфорой я хотела показать, что остаюсь только его сестрой по Храму, по Церкви. Он это оценил. От других знаю. И верно понял. Покончим только, ради Бога, со всем этим! «Они» не стоят этого! Столько было муки эти недели! Ванечка, я в следующем письме постараюсь тебе об Оле 10-летке и еще более младшей написать. Хорошо? Ваня, ты получил мою надпись на фото тебе? В письме послала. Голубчик, пришли мне автографы для книг. Я все жду, не отдаю переплетать, – боюсь откажутся, не будет материала. С моей визитной карточкой на Новый год ничего не понимаю. Я её дала барышне в цветочном магазине, чтобы прикололи к цветам (сирени) на Новый год. А ты ее получил уже 25-го XII? в письме к тебе. Что за фокус? м. б. цензор положил? Ну, целую тебя, мое солнышко! Будь здоров! Твоя всегда, Оля. Будем молиться, чтобы увидеться! О, если бы! Не вижу пока путей! Но верю!
Нарочно не дописываю, чтобы для цензора с прилагаемой картой не превысить 2-х листов! Только бы дошло, и ты поверил мне!
В день рождения Сережечки я думала о тебе!
Ответь на все в этих письмах![133]
102
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
7. II.42, 11 ч. вечера
8 утро 11 ч.
Милая Ольгуша, наконец-то – к продолжению твоего «Куликова поля». Прерывать не стану. Читай все вместе, иначе ослабишь восприятие[134].
Докончу в следующем письме, Олюшечка. Но до чего эта Оля – _т_ы!210 Теперь я это так ясно _в_и_ж_у! Этот рассказ – был – предтеча нашей встречи. Был закончен к февр. 39-го за 4 мес. до твоего письма. Целую. Твой Ваня
[На полях: ] 4-ое письмо с «Куликовым Полем».
Сегодня еду в Meudon – получить твои «ручки». Мо-ро-оз!.. И везу посылку. Но… возьмет ли?!!
103
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
8. II.42. 11–40 утра
Продолжаю, милая Оля, «Куликово поле»[135].
Вот, дорогая Олюша, отныне этот рассказ – Т_в_о_й. М. б. это одно из более углубленных, внутренних, моих произведений. Это – предтеча нашей встречи. Разве это не ты?! В_с_я_ – ты. Так и была, в янв. – февр. 39 г. – _н_а_й_д_е_н_а_ О_л_я. Да, так тогда и была названа. Прими сердцем от твоего Вани, – я плакал иногда, когда, ночью, писал. 4 дня нет писем от тебя, эти дни – пустые. Но я их наполняю. Я все _ж_и_в_у_ тобой, «Путями». Завтра я их продолжаю. Все во мне бьется. Целую, светлая моя, Олёля моя! Твой Ваня
[На полях: ] 5-ое письмо с рассказом «Куликово поле».
Последнее твое письмо было – от 28.I.
Оля, помни: только _э_т_у_ посланную тебе редакцию «Куликова поля» я признаю – подлинной.
104
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
8. II.42
Милый Ваня!
Мучительно до чего это наше: ты тревожишься моей тревогой, а я изнемогаю твоей тревогой!.. И так без конца!
Положим же конец этому!
Ничего не хочу касаться, – скажу только, что я ничего не «нагромоздила», но все ты мне сам дал. И назвал меня подлинно мало образованной, сказав, что «обвалы» эти я «природным умом» заполняю. Но все это пусть сгинет! Я не могу больше!
Я просто боюсь твоих писем, и теперь, если даже и будут приходить волнующие меня, то просто выжду, пока получишь ты это мое.
Я им ставлю точку на все плохое, что было за этот месяц.
Прости мне, Ваня, что не пишу много, я так устала. Я вся «сожглась» тревогой. Места живого нет! Мне отдохнуть хочется. Скоро пост. Как хочется тишины и мира!
У тебя теплей ли? Я измучилась о тебе в холоде!
У меня в столовой тепло, +10°, у мамы очень тепло, теперь для больного А. (не серьезно, слава Богу, не плеврит, как думали сначала, прострел, уже встал сегодня, а то был чистый лазарет у нас!) топлю салон, – тоже +14–15°. А в спальне – 4–5°.
В моей комнате – холодильня! Ужас!
Я все же от ужаса мышиного нигде не могу спать, кроме спальни, – там их нет. Вчера вылилась бутылка с кипятком в постель… кошмар. Сегодня утром попало что-то в трубу камина в салоне… крыса? Нет… сова! Маленькая, чудная, дуся! Хотела тебе сегодня написать об Оле-глупышке, малютке, но не могу. Устала, Ваня. А ничего не делала! Мама уже поправляется тоже, – только ушибами отделалась. С. приехал опять к нам вчера – привез твое от 2.II. Мне больно, что ты за меня волнуешься.
В посте хотелось бы помолиться.
Да, то сам дьявол «шутил» нашим миром! Я очень устала от всего этого! М. б. ты получишь это письмо к прощеному воскресенью, – тогда _п_р_о_с_т_и_ меня за все… невольное, «вольного» не бывало! Господи, как хочется тишины и покоя! Я устала от моей жизни «урывками». Нет текучей плавности дня! Жду лета. Хоть уходить будет можно! Я не верю в визу в Париж – не дают женщинам ни за что! Надо смириться, верно, и себя не мучить. Получил ли ты мою посылочку? Прости, Ваня, что пишу карандашом, запропастилось стило. Сегодня я чуть-чуть рисовала. И то уж устала. Иногда мне хочется лежать с закрытыми глазами, не говорить ни звука и не вставать. Но и этого нельзя – всюду надо быть самой, в каждой мелочи! И этот холод! +10° – тоже ведь мало! Я люблю теплей! Но… многим еще хуже! Я должна быть довольной, как и ты писал. И это верно. Пришли, если хочешь, автографы к книгам. Я их должна отнести в переплет. Кстати: никогда я бы на «изрез» тебя не могла бы отдать. Я же писала.
Ну, Ваня, будь здоров, Богом храним, за меня покоен! Идем в пост! Твоя Оля
[На полях: ] Я очень, очень хочу обрести покой, помоги мне в этом! Будем беречь друг друга. И никогда плохого в другом не искать, – тогда все будет хорошо.
Больше веры друг другу! Веры в основном! И не «трепыхаться», – ничего мы сами не можем все равно. Я прошу Бога помочь мне смириться, дать хоть немного мира душе!
105
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
9. II.42, 8–30 утра
Милый Ольгунчик, свет мой немеркнущий! Что ты со мной сотворила! Я так одарен тобой, такой вознесен, мои золотые ручки! Вчера я был в Медоне и получил все. Приехал – и тут же совлек с себя свой свитер, надел твою дивную «теплушку» – что за мастерица, как влитой я, все обтянуто, грудь – как у хорошего спортсмена, – правда, у меня грудь высокая! – и я почувствовал себя – в уюте твоего сердца. Я весь в тебе; всю ночь я как будто бредил тобой. Итак: я вчера надел твою грелочку – что за толщина! – только что делать с мохрами, у ворота? – воротник отложил, затянул «цепочкой» до шеи, и стал пить чай с твоим чудесным маслом, и читать о папочке! Ах, какое у него лицо было, глаза какие! Он – _С_в_е_т. И я узнаю в нем тебя, смутно ты видишься мне в его _л_и_к_е. Моя чудеска, моя прекраска, Оля… – целую тебя бессчетно. Я рад, что о. Дионисий принял коробок для тебя. Я виноват перед ним: он хороший, милый, скромный, а я, идиот, прошлый раз рассерчал – в письмах тебе, – ну, его к черту! – ну, не идиот неистовый?! – и все из-за того, что «вообразил», что тот из кичливости ко мне не побывает, а я для него кулебяку заказал! А он болел гриппом, и мама его бережет. И, идиот, ни за что, ни про что его отца пристегнул, а капитан Лукин211 и работал-то в жидовской газете в тисках, как я узнал, его там карнали. Семья их – удивительно хлебосольная, меня приняли как родного, закормили, папиросами даже русскими наделили. Капитана не было, он в Италии. Милая, прости мне мое неистовство! Я все еще – огненный, бешеный, кипучий… но смиряюсь. Раньше каким я бы-ыл! Ну, порох… от кипучей работы страстного воображения. Так все во мне. Ты меня знаешь – и простишь. Обидев кого, я готов на коленях молить о прощении. Не вмени мне греха моего. Олюньчик, Ольгуша… как нежно вчера в 11 ч. вечера я призывал тебя, называл именами нежнейшими… и молил – услышь! Сегодня я должен кончить переписку «Куликова поля» – для тебя. Я кое-что правлю, и рассказ стал полней, лучше. Это – ты все. Он – _т_в_о_й_ отныне. Спешу отправить книгу о. Дионисию. Еще одно поручение – для тебя! – и поеду в центр по делу. Ольгунка, неужто из моего посыла ничего не придется тебе по вкусу?! Я буду в отчаянии. Хоть сухие бананы пососи! хоть чернослив! хоть шоколад! Хоть бретонские крэпы! хоть «дрикотин» с «сюрпризом»! Воображаю, что сталось с этим сюрпризом… промаслился, пожалуй! Духами душись во-всю. Ешь клюквенный кисель. Если нет картофельной муки, сама сделай, из картофеля, потри на терке и отмучь в воде, крахмал осядет, высохнет, и будет «фекюль»[136] первый сорт. Видишь, я все умею. Я бы такой тебе кисель сварил! И морс сделал бы… – ты должна любить клюкву, ты – клюквенная, вся! северяночка моя, рыбка моя. Как я ценю тебя, люблю, чту, лелею в сердце, несу всегда, всегда. Целую от темечка до пяточек, и глазок твой, каким к маме привязана была, – и его целую. Ты его знаешь, глазок этот? Ну, ты знаешь, детка… «спящий» всегда «глазок». Он у тебя недалеко от сердечка… отмеряй – всего пядь с малым. Так вот я его особенно целую – и в нем – всю тебя! Олёля моя, бесценная девочка… как я хочу увидеть тебя! обнять, прижаться к тебе тоскующими глазами, согреться твоей теплотцой, нежностью твоей. Оля моя, радость светлая. До _с_в_и_д_а_н_ь_я! До скорого свиданья! Ручки твои целую, золотые. Я исцеловал «теплушку» твою, я так счастлив. И такая она крутая, такая теплая, и так мне нравится эта «марина», это наше Черное море! Сейчас я опять в ней, и мне так тепло, от тебя! У, радость-детка, как же я жду тебя, как ласкаю в мыслях, в сердце… – единственная, чудесная, неповторимая!








