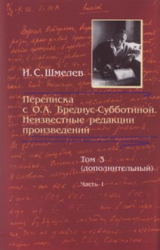
Текст книги "Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Том 3 (дополнительный). Часть 1"
Автор книги: Иван Шмелев
Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина
Жанры:
Эпистолярная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 59 страниц)
14. VIII 4 ч. дня Вчера днем болей почти не было. К ночи – снова, очень острые, старые мои знакомые. Вертелся часа два, потом принял седормид… – не принимал недели две. Скоро заснул и спал часов 8. Болей нет. Ем охотно, но давит мысль, что начинается отныне страда моя… Нервы? Днем, вернее – до 2 ч. дня без болей, потом легкие приступы. Завтракал хорошо. Ну смотри, какая моя диета: утром чашка кофе с молоком, яйцо всмятку, масло, сухари белые. В 2 с половиной – завтрак: картофельное пюре на молоке, масло, молочный кисель, легкие блинчики с сахаром, полчашки чаю. Сейчас иду к доктору, – инъекция ларистина, 3-ья. Кажется теряю в весе, – а ем хорошо. Слабости не чувствую. На приглашение поехать на 3 дня к м-м Будо – не отзовусь, не тянет, тяжело быть на людях больным. Часами лежу – без дум. Но ты всегда со мной – ты как бы органически присуща мне, – _в_с_е_г_д_а_ со мной, в подсознании, когда и не думаю… Бумага на исходе, трудно достать. Достал вот куцую.
Не грусти, что я такой стал, – это сколько повторялось! М. б. и теперь разрешится благополучно. Попробую новое леченье, – укрепить надо «гран симпатик», дать ему питание хлёрюр-магнэзией. Проверю дней десять. Вернется караимочка, позвонит одному очень большому специалисту-французу:448 а то он нового пациента заставит ждать с месяц, у него такая запись. А по ее просьбе примет скоро. Что-то скажет..? Я боюсь рентгенизации, этой «сметаны» ужасной, – бария? – в 34-м он мне так закупорил внутренности, что я чуть не погиб. Прости, что пишу о недугах, но это потому я, что чувствую, как ты тревожишься. Хочу _в_с_е_ _э_т_о_ забыть. И не могу. Одно знаю точно: за этот год я переутомил нервную систему до предельности. Оттого мне и работать охоты нет… – вдруг захочу писать, уже беру рукописи-наброски… – и вдруг – отвращение: _н_е_ _м_о_г_у..! _н_е_ хочу… – будто уже _н_е_ нужно все это… Это – упадочное, это уже – полная неврастения. Не могу и молиться. Только о тебе, моей светлой, моей Олюночке… думаю, думаю, грущу, – и слезы, слезы… – глотаю их, бессильный, и так все темно, и так все горько… Ах, милая, Олюночка… Возьму себя в руки, преодолею. Милая, не забывай Ваню. Только ты у меня – свет мой. Целую. Твой Ванёк
Олёк, голубочка моя, здорова ли? Ради Бога, прими antigrippal, если схватишь грипп – может опять кровотечение…
Не было воли ускорить письмо, послать.
186
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
14. VIII.42
Милый Ванечка,
Я ничего не могу больше с собой поделать и, после того, как перервала кучу писем к тебе, боясь тебя тревожить, все же вижу, что не могу ни молчать, ни ломать комедию, – и я пишу тебе все так, как есть… Я не могу больше выносить этих страданий. И я не знаю, что такое случилось. Почему ты так суров ко мне. Ах, я не стану перечислять всего того, чем ты хотел мне сделать больно (и сделал!!), – я устала, я измучилась. Я молчать об этой боли хотела, т. к. меня страшит сознание твоей болезни (м. б.(?)). Но я, судя по самой себе, знаю, что молчание еще мучительней. И я не могла писать «как ни в чем не бывало». Да, я измучилась так, что… заболела. Правда не почкой, но все же очень неприятно. Был жар, разбитость, боли в левой стороне груди. Теперь жара нет, но я не сплю и сегодня было опять то же состояние, что и тогда, после Рождества… головокружение чуть не до обморока. Я знаю, что это нервы. Я хочу себя сдержать, им не поддаться, но я не могу. Все силы мои меня оставили. Сегодня ночью я не спала и думала, думала… И вдруг мне очень ясно представилось, что все твое ко мне ушло. Помню, как ты мне 2 раза в день писал, как мы угадывали на лету друг друга мысли. А теперь… эти твои недели молчания, и в результате 1 страничка… упреков…
У меня нет сил больше на оправдания, да я и не знаю в чем. Но ты просто спроси себя, за что меня казнишь?! Ах, я не упрекаю тебя. И меньше всего хочу докучать тебе! У меня, например, было ночью такое чувство, что мои письма и вообще вся переписка со мной тебе надоели. И я не могла тебе писать с утра. Но я так страдаю, что не могу и так оставить. Но пойми, что у меня появилось чувство такого стыда за письма, какое появляется должно быть у женщины, когда она чувствует, что она ему уже надоедает. И все же я пишу, во имя _д_р_у_ж_б_ы, которую ты, верю, не отнял еще у меня?!
Я не могу писать. Мне технически это трудно. Умоляю тебя беречься и стараться быть здоровым.
Молюсь когда Богу, то поминаю твою караимочку, дающую тебе радость и заботящуюся о тебе. Я-то так бессильна хоть что-нибудь тебе сделать.
Мое состояние неописуемо. Только не думай, что я обижена. Я только предельно несчастна! Ах, а ты… то, что составляет муку жизни моей, поставил мне в «зигзаги», убил меня этим! Но не корю. Я хотела бы только знать, отчего все это у тебя? Я страдаю тобой…
Но если тебе это ненужно уже, тягостно, стеснительно, то я не упомяну об этом, как и вообще умолкну, как бы это мне ни было тяжело. Ваня, милый, далекий мой, далекий-тогдашний мой бесценный Иван Сергеевич! Сколько счастья, сколько песни было тогда у меня в душе! А теперь я не могу читать твоих писем старых… Как они разнятся от теперешних!
Суббота, 15-ое, утро
Сейчас я получила (идя на почту с письмом от вчера) твою открытку. Я ничего не могу больше. Я вся убита ею. И болезнь твоя и все другое. Господи, помоги мне, – я не могу слов найти! Ты же ушел от меня! Не говори «нет»! Я сердцем это знаю. Господи, если бы уж написал ты это «обвинительное письмо» мне, я бы хоть знала… Теперь же я в недоумении страдаю. Но я не хочу, я не могу тебе писать о своем сердце. Это смешно: когда отвергнутые все еще об утраченном хлопочут.
Не говори словами: «я твой». Ты же фактически – ушел. Я неделями томлюсь, простаивая у окошек, высматривая почты… и вот… открытка. Ты болен. Но это не только болезнь… Я же знаю. Я тоже тогда больная, только и стремилась быть с тобой, хоть в письмах. Эта бездушная открытка только отхлестала меня за мои муки.
Прочти мои письма (если они не противны тебе – я это, вот именем отца клянусь! – говорю убежденно) – и ты увидишь, как давно я уже жалуюсь, что ты на них не отвечаешь… У нас давно нет обмена мысли. Ты давно уже отбываешь _п_о_в_и_н_н_о_с_т_ь_ писать мне. Прочти мое – и ты увидишь… Ах, впрочем, зачем же убеждать тебя? Ты это знаешь! Ты знаешь, лучше меня причину, отчего ты раздражился (надоела?), отчего эти пропуски в 9–10 дней, отчего эти короткие открытки…
У меня все, все, все – вдруг ушло. Ты не захотел мне даже оставить дружбы. И я спрашиваю себя, что это было? Каприз твой? Мечта писателя? Как я тебя предостерегала.
Ванечка, (ох, прости, что еще смею назвать тебя так) – я так страдаю. Но я не молю тебя вернуться, – я знаю, что я только смешна тебе тогда буду. А это было бы страшно мне. Я только в последний раз открою тебе свое сердце: и просто потому, что я молчать не в силах.
М. б. лучше было бы молчать? Я не могу. Я так одинока.
Как трудно вдруг стало мне с тобой делиться. И м. б. и не надо? Как назвать мне тебя в последний раз? И неужели ты хочешь, чтобы в _п_о_с_л_е_д_н_и_й??
Мой дорогой, бесценный, всем существом моим любимый Иван Сергеевич, далекий, тот, прежний… его я не боюсь оскорбить фривольностью…
За мою искренность, за всю пламенную открытость моего сердца… он пожалеет меня, – не насмеется над слезами. Я верю, что во имя того Святого, что будет жить вечно, что не может уйти из жизни в хаос – останется хоть капля ко мне уважения. Я ничего не жду больше. Я опьянилась на 1 год какой-то мечтой… я забыла, что я – ничтожество, что я никогда и никому не была нужна. Удел мой? Не знаю… Дожить как-то данную мне жизнь. Я вернулась к своей тоске прежней, к тому сознанию, что я _н_и_к_о_м_у_ не нужна. Я ничего не исполню в жизни. И завидую каждой простой бабе, знающей свое какое-то назначение. Ни единой души теперь нет в мире, кто бы меня услышал, _п_о_н_я_л. Я не хочу разжалобить. И сама не знаю, зачем пишу так. Это фрагменты тоски огромной, душащей меня сейчас. М. б. я пожалею завтра о письме этом… Мне больно было бы, если бы письмо это счесть было можно за «зигзаги». Я клянусь всем, всем Святым, что это не так. Я не брошусь, конечно, под поезд, как Анна Каренина, но разве смерть – приходит только со смертью тела? И разве утрате только смертью? Я не вижу никакого смысла жизни моей. Но я меньше всего хочу _о_б_я_з_ы_в_а_т_ь_ себя жалеть из сострадания. Если ушло чувство – то значит ушло. Его нельзя вернуть насильно. Боже, как глупо письмо мое. И как мне больно, что теперь это все увидится _т_р_е_з_в_ы_м_и_ _г_л_а_з_а_м_и. М. б. безвкусный рассказ тоже был тому виною? Как у Тоника ошибка Серафимы?449 У меня тоже бывают ошибки. Я часто мучаюсь этим. Я же уже за границей начала писать через «ѣ», и… недостаточно твердо. Я все перебираю в мыслях все, что могло поставить меня в смешном свете. После рассказа ты резко изменился. Я _н_е_ _в_и_н_ю_ тебя, поверь, но я просто страдаю. И знай, что я оставленная не побегу за уходящим. Я никогда не могу этого. Я умолкну. Ты не узнаешь, _к_а_к_ я пережила. Прости мне все, чем я невольно тебя мучила. Никогда этого не хотела. Прочти мое самое первое письмо. В _н_е_м_ вся живая _п_р_а_в_д_а_ и _п_о_н_ы_н_е. Больше я ничего сказать не могу. Да благословит Бог всех, кто тебя нежно любит и милую старушку Анну Васильевну.
[На полях: ] Не уверяй в любви словами, когда ты по 10 дней меня не вспоминаешь! Или ты болен?? Господи, ужас! Мне страшно думать о твоей болезни, но если болен, то умоли, хоть 2 слова писать Серова! Не мучай неизвестностью. Я сама сгораю.
Я не знаю, что с нами всеми будет. Жизнь так сложна. Но знай, что я все та же, неизменная Оля, с тем же сердцем, полным слез и любви, и молитвы. И за что ты меня отвергаешь, я не знаю. И очень страдаю. Не сплю ночи, боясь за твое здоровье, мучаясь твоей мукой.
Я хочу за тебя молиться… Пишу, а вдруг стало стыдно, что так «растопилась», а м. б. ты уже не любишь… и тогда… как это больно…
Я опять начинаю худеть… Мне все так тягостно… Ну, Христос с тобой! Будь же здоров. Благословляю тебя, моя радость, и как всегда любящая Оля
Я пишу сейчас, не читая, твоих последних писем, я обращаю сердце к моему чудесному сну, к моему Ивану Сергеевичу, глубоко меня понимавшему _т_о_г_д_а, так осветившему жизнь. Но я верю, что он все еще есть, что хоть дружба еще да осталась и мне!
[На полях: ] Я все сделаю для спокойствия твоего. Будь только здоров! Я всю себя пожертвую, если надо. Не дам себе и пикнуть.
Я перечла вчерашнее письмо – мне стыдно за него. Как докучаю еще там. Но все же посылаю. Я клянусь тебе Богом, что все, что я пишу тебе – правда!
Будь здоров Ваня! Прими еще этот крик моего переполненного сердца. Ты можешь взять в нем все, что хочешь, или – ничего не взять. Твоя воля! Ольга С.
187
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
15. VIII. [1942] 1 ч. дня
Милый ангел,
Дорогой мой Ваня, сердечко мое, радость моя, солнышко! Я в тоске, в безумном горе утраты тебя писала тебе сегодня. Я измучилась, Ванюшечка. Неужели ты меня покинул? Но я перечитываю-изучаю каждый штришочек твоей этой открытки. И одно слово дает мне силы писать тебе снова. Ванюшечка мой родной, ты пишешь: «твое письмо без ласки»… Значит ты, м. б., хотел бы ласки? Моей ласки? Еще хотел бы? Или ты просто это упомянул, как факт? Но я хватаюсь за первое… Тебе еще не противно, не приторно, когда я говорю тебе это, все снова и снова, что люблю тебя. Мне ужасно подумать, что тебе меня не надо больше. Но все равно – ты благороден, ты не посмеешься надо мной… и я еще раз тебе откроюсь…
Милое мое, родное сердце, как я томлюсь тоской по тебе… Почему ты хмур? Ты болен? Как я страдаю за тебя. Как хочу тебе облегчить, как я горюю бессилием своим.
Милый, я у постели твоей тебя оберегаю от всякого дуновения ветерка, от всякого шума. Я дыхание затаив, ловлю каждый вздох твой. Как хочу помочь тебе! Я рукой тебя тихонько желудочек глажу… Хочешь, право, поставь компресс. Помогает! Ванюшечка, успокойся без брома. Помолись Пречистой с верой, и покойно ляг, уверен, что _п_о_с_е_т_и_т_ тебя Ее святая милость!
И Серафим Саровский! Вспомни! Милая «Арина Родионовна» будет у тебя чаще, – как я рада. Как бы я хотела ее увидеть, сделать ей какую-нибудь радость. Я кланяюсь ей сердечно. Милый Ванечка, я хочу забыть себя, свои чувства, страдания, все забыть для тебя. Ты со мной не считайся. Ну, презирать станешь?.. Ужасно это… Но ты же – гений. Для гения можно лежать в пыли! Ванечка, ты не бойся сказать мне правду. Я же, безумная, залетела к солнцу… Опалила крылья?? Сожгла сердце! Ванечка, я все равно тебя любить буду… Пусть молча!
Если тебе мои противны письма, то не томись необходимостью отвечать мне. Не буду мучить тебя своими страданиями. Я все перетерплю сама. Я не доросла до тебя, я понимаю. А я, безумная, мерила свое по тебе. Я не смела так. Ты же – гений! Ты знай, Ванюша, что все мое сердце поет тебе чудеснейшую песню и ею только и живет. Я нужна ли тебе она, – это я не знаю. Я не буду тебе омрачать жизнь упреками, просить, молить принуждаться к письмам. Ты знаешь, что люблю тебя, так глубоко, как никогда на свете. Что я погибну без твоего тепла, без твоего ответа, – я не скажу тебе. Но м. б. ты поймешь? Но если еще не все ушло, то услышь меня!
Увидь сердце мое, увидь, узнай! Узнай, хоть раз! Как оно любит, как страдает… как хочет жертвовать собой. Милое сокровище мое, ну, что же, знай это, знай, что я не смогу уйти от тебя. Я не буду докучать тебе. Не буду писать, но я буду по-прежнему жить тобой!.. Я буду писать все думы свои к тебе в дневник. Я воображу тебя снова любящим, я обману себя… иначе жить так одиноко. Разве есть хоть одна минута в днях и нОчах, когда я не думаю о тебе?
И если я тихонько тебя люблю, то разве тебя это оскорбляет, даже если ты меня не любишь больше??! Но почему ты разлюбил меня? Иль нет? Скажи же!
[На полях: ] Ванечка, если бы ты не изменился ко мне, то никакая болезнь, никакое ограничение местом, не играли бы роли, – ты и одним словом сказать бы смог все! Я из одного намека у тебя угадывала всю твою любовь ко мне. Что с тобой??
Обнимаю сердцем, я верю, что ты меня не осудишь. О.
Обратись к другому врачу.
Я молюсь о тебе, Ванечка, будь здоров! Конечно, «какая уж там поездка». Не мучай себя этим вопросом. Старайся поправиться. Тем более, что я никогда не верила в нашу эту встречу. Не знаю почему, – но мне казалось, что мы «играем мечтой» только. Да и опасно теперь пускаться в путь. О поездке я больше не думаю. Будь только здоров! Целую тебя очень тепло и нежно в мыслях, – если хочешь, то прими…
Д-р Шахбагов советует операцию мне. Считает, что это «единственный путь к излечению».
В последний раз еще «клянчу»: ответь мне только хоть на это поскорее! Я не могу не знать!
Всю жизнь буду любить тебя!!!! М_и_л_ы_й!
188
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
19. VIII.42
Милый мой Ванечка, солнышко ты мое, глупышечка, родной мой… Ванечка – больненький? Или получше? Сегодня я причащалась. Удивлен ты? У меня была такая тоска, гнетущая, зловещая какая-то, будто. И еще: кажется с 25-го авг. будут сокращены поезда, и ездить будет можно только по разрешению. Нет надежды и в будни, значит, попадать в церковь. Мы хотели уехать на Успение, но побоялись отложить. У меня все время было желание приобщиться Св. Тайн. Ну, я очень рада, что удалось сегодня. У меня не было подготовки, это было экспромтом, но на душе стало все же тише. И когда я вернулась домой, то нашла твое письмо. Ты – мой?! Снова! Ванечка, не надо же мучить ни себя, ни другого! Я все эти дни полужила. Я ясно (откуда же это, если это неправда?? Знаю, что неправда.) почувствовала, что утратила тебя. Я не могла тебе писать, потому что стыдилась писать «ты» и «Ваня», а своим «Вы» пугалась все разрушить и для себя, и главное, огорчить тебя! И я не знала с чего приступиться к тебе! Такой ты был «колючий».
Ну, весь колючий! Ванюшка, не говори, что это – болезнь! Ты же и заболел то от какого-то своего раздражения. Я же тебя тоже знаю. Ты и больной можешь быть вся ласка. Я же – сердца твоего не находила. Это был ужас мне. И давно, Ваня. Собственно сразу после чтения, с перебоями. А как же я томлюсь тогда! Я осунулась даже. Но не худею, Ваня, как думала было.
Я быстро меняюсь в лице. Сегодня мне тихо было, и я так счастлива, что могу тебе радостно писать. Я молю Господа, чтобы это письмо еще дошло до тебя. Ванечка, пиши мне хоть 2 слова о себе, чтобы я знала о здоровье.
Нет, какая уж теперь поездка, и кроме-то болезни? Ванечек мой, голубчик, ты снова Олин? Миленький мой глупка, дусенька, чего же ты «куксился» все на меня? Ну, не хочу винить, никаких твоих «извинений» не хочу, – хочу только, чтобы ты меня понял. Как же было мне не увянуть? Ты всем, всем меня казнил. А эти письма аккуратно через 8 дней. И даже 9 дней! А эта открытка, убившая меня! А это «зигзаги» о самом святом во мне. И даже зубы! И даже и цветок свой обидел!
Ну, не буду. Вижу, что что-то Ванюшу мучило. А это: «удобную, легкую жизнь мог бы себе устроить»? Ванечка, – если «легко» и «удобно», – то значит не неприятно… а где же тогда Оля? Это не ревность… Это больше. Ты понял? И фуксия меня убила… Эта «голость», – я ее не люблю. Мое письмо 4-го как-то все это иначе чувствовало. Но не буду. Меня это очень убило, а теперь только Ванюшу жалко, что ему тяжело невыносимо было, коли такое написалось. Но отчего же? Моим письмом от 4-го дала я тебе «думы»? Показалась тебе Оля очень «срывной»? Я могла бы нечто такое понять, но ты не думай так. Для меня _т_о, – очень «прикладное». Почти что отвлеченное нечто. А я истинно – _ж_и_в_у_ – другим. Поверь мне!
Ах, как все это больно мне от тебя было! Как я твое все читать не могла. А письма прошлые!.. Какой утраченный рай! Но не утратила!! Нет!! Ванюша милый, родной мой, тихий… Ванечка, не болей… Я молюсь о тебе! Молись, Ванечка, тихо! Уйди в себя, не трепыхайся! Голубчик милый… Ванюша ласковый мой, дорогой мой… И опять вот слов не хватает, как тогда… когда «Иван Сергеевич», – но _с_к_о_л_ь_к_о_ я в эти 2 слова вкладывала сердце… и все не хватало, не хватало слов! Как мне больно, что ты пишешь: «за этот год я предельно истрепал нервы»… Неужели я тому виной?! И ужасно, что от этого и охоты писать нету! Как успокоить мне тебя? О, как бы я хотела к тебе приехать. Но я боюсь, что ты этого как-то не хочешь. Т. е. подсознательно «не хочешь», – сердцем то хочешь, – знаю я!
М. б. боишься за мое здоровье, и т. п. Теперь это невозможно, но м. б. зимой, если жива останусь… Наш друг берлинский умолял меня сегодня не обуславливать этим «если», а я не могу, всякое думается. В какое мы живем время! Я все эти дни думала, что никому я не нужна, живу балластом. Сегодня, после причащения, мне было легче, но когда мы после церкви часок еще с ним виделись, то опять вырвалось у меня это «если». И, знаешь, его простое: «О. А., не мучайте себя и других таким щемящим, больным „если“, в жизни так мало остается ценных, дорогих друзей…» – это меня подбодрило. Я сказала все же: «ах, ну да, ценных, а кому и чему я ценна?» – «Бросьте, – мне тягостно вдуматься в Ваше… „если“» (* Ты не предполагай ничего иного об этом друге. Он просто, хорошо и тепло ко мне относится, как друг моих родителей. Никакой «примеси». Почему-то на днях восхищенно сказал: «Вы удивительно даровиты!» А почему? Я ему никогда ни строчки не писала и не показывала картинок.). А я подумала: он так страдает болями, а я о себе… Пересилила. Но у меня все это время была такая именно тоска. Я думала, что я тебе не нужна. Понимаешь. Не брани меня за то, что «выдумываю», – я не выдумываю. Я не хочу тебе всяких доводов приводить, Ванюша, но, поверь, – ты мне достаточно дал поводов так думать… Довольно. Я так хочу пригреть тебя, обласкать, всего обнять, как мама детку. Убаюкать… А тебе бы поставила компресс на желудок – это так успокаивает… Попробуй! Попроси караимочку поскорей позвонить специалисту. Ванёк, не пугайся рентгена. Тебе могут дать ведь и жидкую «кашу». Как мила караимочка. Я рада, что у тебя есть светлый луч. Я безумно боюсь возможности нашего разделения событиями450. Тогда я с благодарностью думаю о Елизавете Семеновне. Нет, я не ревную, Ванечка. Я же не глупая. Ванюша, постарайся же утишать себя! Роднуся, ты переутомился чтением! Да! Да! Лежи больше. Кушай! Аппетит каков? Знаешь наш болящий здесь, – иной раз дико нарушает диету (ел горчицу и «с отчаяния» выпил коктай[217] (!!!!) и —…ничего! А до этого, когда страдал душой – все были боли. Мы много говорили, и мама и я старались его подбодрить. В результате он нам все свое горе поведал и когда «выговорился», то стало легче. Теперь смеется снова, – он очень раскатисто-открыто смеется. Будто прежний. Посылаю его к Шахбагову. А пока что подкармливаем его, когда приезжает на праздники. Он очень интересный, многосторонний человек, кончил Петроградский университет, экономист, но доктора получил в Германском университете. Он немец. Массу читал. На тебя (твои книги) накинулся у меня в комнате. По-моему, что-то догадывается, т. к. сегодня, когда я рассказала поистине удивительный сон… такой мистически-прекрасный, то он меня спросил вдруг: «О. А., Вы переписываетесь с И. С. Ш.? (я ему когда-то сказала, что большинство книг ты мне сам прислал, т. к. он хотел достать тоже и спрашивал, где) – Послушайте, напишите ему… Это же должно быть интересно художнику!» Я смяла. Ну, что я разболталась! Ванюша, спасибо тебе, что о рассказе кое-что заметил. Одно только: я не «золоченый» орех сказала о дороге, а «залитой». Это —, знаешь, – такие конфеты? Мне и по сию пору это сходство видится. Ты не разобрал видно мой почерк. Посмотри там! По форме, конечно, – нет, но именно и по цвету и по «корочке». Ледок – поверхность ореха, гладкая, а внутри именно такое, как бывает у весенней дороги! Но… может неудачно??! А мне всегда так хотелось, чтобы кто-нибудь это сравнение дал! Я не описывала действительно лиц, боясь загромоздить подробностями. Но я попыталась. «Василия» я иначе и не вижу как «приземленным»: то на корточках перед «Оленькой», у которой он «каприз отымает», то «бухающимся» в ноги с прощением за пьянство, а то и… самое пьянство… Часто, очень «наземное» его положение. Его лицо: простое, дурковатое, невыразительное, красноватое, русый, «в скобку», с развальцем ходил. Плотник. Жена его – святая. О ней массу сказать бы можно. Чудная женщина, ценность при «пустышке» из… жалости и долга! Как это часто бывает в жизни!
Ах, одно словечко о цветочке. Ванюша, он – прелесть! Каждый день – новость! Открывается, и все сюрпризом. Это – не то, что тебе «мозолило глаза по базарам», не может быть то, т. к. это очень хрупкое, дорогое растение. Из рода крина, мама говорит. Ну, мне все равно – я его всегда хотела. Пойми ты это! Это мое желание было! Чего ты надумал только! —
Я начала о «лике». Подумай! Но выходит очень «издалёка». Можно? И странно: начала в день бабушкиного рожденья… бабушка там должна быть добрым духом всего моего перерождения. Не зная, начала. Мама потом сказала. Почему, Ванёк, то, что в «прошлогоднем письме» твоем, – стало теперь твоей «болью»? Я знаю о чем ты, но почему? Старайся себя и этим не мучить. Лучше всего, Ваня, просто жди, наблюдай. Ничего не говори о больном. Мы ничего изменить не можем. Все – Божие. Я очень страдаю, тоже, но м. б. иначе. Не знаю, как у тебя точно. Если бы увиделись, я бы тебе все объяснила, а так – лучше и не касаться. Ты понял бы меня. Не сомневаюсь в этом. Ты бы оценил мое. Я тоже надземно на все смотрю, и все же… но довольно.
[На полях: ] Я так страдала, что послала сегодня Серову письмо. В отчаянии писала, думала, что ты меня не хочешь, боялась тебе самому писать. Его молила. Прости, что друга твоего беспокоила. Ну, не вели ему трудиться мне отвечать, если ему трудно. Целую тебя, радость моя. Будь покоен, тих, мирен. Молись, Ванёк. Ты поправишься очень скоро, если утишишь себя.
Оля твоя
Я ночи не спала – мучалась, с 24-го июля. Не о личном. Ужасно, это наше расстояние.
Как мне послать тебе бумаги? У меня есть еще.
Не прислали все-таки мне выписанные журналы с твоим и И. A.! 451 Не найти.
Христос с тобой!
Молись, Ванёк. Молиться вместе давай! Не надо этой «дрожи», – я ее знаю. Не будет и госпиталя. Но, Ванёк, если в хорошей клинике, то м. б. тебе покойней было бы для болей? Почему ты клиники боишься? Я же тоже была! Режим тебе, друг мой, нужен! Подумай!
Ваня, читал ли ты «Mein Kampf»? Гитлера?452 Обязательно прочти – это же важнейшая книга. Это необходимо знать.
Пиши лучше на меня и заказные письма. Арнольд все равно их видит, и это «для Оли». – Он читает по-русски. У нас здесь каждый может получать заказные – лишь бы расписка!
189
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
20. VIII.42 3–30
Только что твои письма, 14 и 14–15 авг.
Ольгунка, безумица, что ты с собой опять выделываешь?! Бедная моя детка, я плакать хочу, от боли за тебя, от жалости, от бессильной любви к тебе, от счастья, что ты моя-любимка, от твоего ослепления, – ведь сжигаешь себя дикими мыслями… хоть для меня-то пожалей себя, выкинь из переполненного – да, да! – сердца эти колючки, тобой же втиснутые! Или ты это от избытка моей – безумной! – любви к тебе?.. Знаешь… «мышь сыта – так и мука горька»! Ты, прямо, бешеная какая-то… такой и самому Достоевскому не снилось. Да что ты наворачиваешь пугал?! Я только руками развожу, не могу ничего понять… – какая-то одержимость..? Ольга, дрянная девчонка, если бы я сейчас был с тобой, я тебя, кажется, всю бы… не знаю, что бы с тобой я сделал… искусал бы, искромсал бы… – чего ты хочешь, дотерзать меня так, что я снова оторопею от пугающего сознания, что болен, что не закончу заветного, что не свижусь с тобой..? Я хочу, до метанья хочу тебя увидеть, быть с тобой, сердце свое вынуть и тебе дать – на, смотри, _ч_т_о_ там… _к_т_о_ там! Как в зеркале увидишь, и – только тогда поверишь, наконец, безумица, девчонка моя ненаглядная… что ты со мной делаешь, _з_а_ _ч_т_о?! Я два месяца был болен, терял себя, отчаивался, гнал мысли, и отдавался им… – ужас брал – _в_с_е_ рушится, и тебя не встречу, и все мое в хаосе, не завершено… – ну, раз я такой «мнитка», как одна глупая девчонка, которая дороже мне всего на свете, без которой мне _с_в_е_т_у_ нет, жизни нет… о, ми-лая… да как же тебе еще-то говорить? Слушай, глупе-нок, «сытая»… – твои письма, особенно от 4–5 авг. – в болях-то моих! – меня приканчивали… ты там такое наворотила… – ты что мне сказала?! – «подарки мне в тягость»! Ты что, с ума сошла… после всего? _в_с_е_г_о? Да ты поставь, безумица, себя на мое место… я бы тебе так писал! Все твое, все… – свет и радость и счастье мне… я целую, я безумствую от твоего… а ты про мое – «в тягость»! Не посылать? лишишь меня? Это твое безумство кричит, не сердце. Ты себя жжешь, – Господи, на глазах сгорает, и я бессилен..! «Ненужно и неуместно» – что-то я о Швейцарии писал? Да ты в своем уме? – как из ушата… да что ты… окстись! Конец этого письма – лекция о труде, отшвыриваешь мое все, что возносило меня, – ведь я часы считал, когда получишь… а ты свела – «добивается благодарения!» Ты очумела? Я швейцару духи оставил, ты о них не поминала, я затревожился, – дошли ли… а ты – «ну спасибо, еще раз!» Окстись, бешеная девчонка… у, как люблю тебя, себя не помню… Слушай. Завтра я подаю прошение. Опущу руки лишь тогда, когда стукнусь об стену лбом. Твой Ванёк будет с тобой, только бы дали разрешение. О, как я удесятерю свою жизнь, как ослепительно опалю ее, как всю душу тебе отдам, безумная-любимая! Глаза твои выпью своими, в себя вберу, в сердце волью, пусть сгорит… – люблю тебя… какое еще слово найти, чтобы сказать тебе, _к_а_к…?! Или ты только _д_е_л_у_ поверишь..? да? то-лько…?! Хорошо. От тебя зависит… Я страстно хочу тебя видеть… все забыть с тобой, в тебе, _т_о_б_о_ю_ ото всего закрыться… Ольга, Ольгунка, ласточка… – я все тот же, больше… глубже, нежней, крепче… о, как крепко! – Я здоров, в час добрый сказать. _В_с_е_ прошло. Снова мои бока становятся гладкими, есть хочется… – тебя бы съел, да жалко… очень уж ты ре-дкостная… глу-пая… – воображаю, какая же ты, когда…!? _В_с_е_ плавишь… – воображаю… ах, ты пожар-стихия! И как ты такая уродилась, счего..? Вулканы, что ли, столкнулись… и – выкинули такой цветок стихийный, огненный, – но помни, ты же не «купина»… – ведь ты сгораешь, бедная… меня-то хоть пожалей… я только тобой дышу, весь в тебе, все-гда!!! Ведь это болезнь меня в оторопь… я коченею… и все же, я через силу – «нервное спадание» было предельно! – писал тебе. Не могу я гореть годами безнаказанно. У меня же еще есть жизнь, внутренняя моя работа над сырьем, ждущим света! – пой-ми же, ведь ты же меня любишь, мое любишь… и знаешь ему цену! Ведь для него-то ты хоть часть меня уделишь, жадная?! не все же для себя… для тебя у меня особая сила есть, – увидишь меня, упьемся с тобой песнями сердца… если твое не остынет скоро, не утомится… – _в_с_е_ поймем друг в друге и _в_с_е, все возьмем друг у друга… Олёнок мой, я здоров, мой «барометр» – хочу писать! – вот самое верное. Но пока тебя не поцелую… не исцелую… не выпью, сколько силы хватит – не приступлю вплотную. Если же мне вплотную вложиться, тогда – _в_с_е_ на время захлопнется, я стану бессилен… знаю! Жду тебя, жду безумицы моей, и уже нет сил терпеть… – только бы увидеть, услышать, как стучит сердце твое. Во мне стучит… – оль-оль-оль… олька-олькушка… глупка-безумка… ты его так собой настучала, так налила собой… – вся кровь горит тобой… и я – безумец. Помни: Шахбагов твой слишком самоуверен, указывая на операцию. Где бесспорность данных? «Из одной и той же почки» – не довод. Почка почему-то ослабела, потеряла способность сопротивляться чему-то анормальному для нее. Ты тифом болела? Почка могла чем-то от тифа повредиться. И каждая инфекция – повторение, почка очень реагирует на инфекцию. Но главное: вот эту-то ослабленную еще мытарили, инструментами раздражали, лекарствами… – чего же тут не понять! Я читал, что, как последствие – от осмотров, от раздражений… и сколько через это – неверных диагнозов! И Серов подтвердил. Ни-ни, не соглашайся на операцию, – все испробуй, – вылечишься! Надо же на сто процентов быть уверенной, что операция – единственное. Так какой-то твой доктор правильно сказал. Так и мой говорит. Надо прежде всего укрепить «главный регулятор» и главный оплот против болезней, – «центральную нервную систему». Она у тебя не защищает тебя! Разве я не вижу, как ты вся разболталась! Да, вся. И не щадишь себя. Ведь новое заболевание твое – «жар»… писала ты… – может опять влиять! Застрахуй себя от гриппа! молю! Приказываю тебе! Ты помни: ты не только себе принадлежишь, ты – моя, ты мне себя подарила-отдала, всю себя… помни! И я требую, как права, – обереги же себя, хоть из жалости ко мне, Олюночка! Я не слова пишу, когда говорю – люблю… – я сердце свое тебе отдал, оно твое… так побереги же его, если оно тебе хоть чуть дорого. Оля, во имя того, что мы с тобой создадим в творчестве… побереги себя, меня… Я повторяю: твой рассказ очень хорош, и погрешности какие – я лично укажу тебе. Но для меня – несомненна твоя сила. Знаток по зерну определит урожайность, добротность, качество. Я _з_н_а_ю, _ч_т_о_ ты можешь, – клянусь тебе всем святым… – в этом лгать никто и ничто меня не может заставить. Ты мнительна, ты _р_о_б_к_а, при всем твоем бешеном характере, при всей твоей «гордыне». И все это не недостатки твои, я _з_а_ _в_с_е_ тебя люблю, всю тебя цельную Ольгунку. У кого нет «червоточинки»? Я тебя-румянку, яблочко мое… сладкая моя, вот именно с «червоточинкой» и люблю… тем и сладка-остро, пряна… душистая моя… страстная, горючая-жгучая… обжигающая… – _л_ю_б_л_ю!








