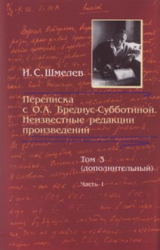
Текст книги "Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Том 3 (дополнительный). Часть 1"
Автор книги: Иван Шмелев
Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина
Жанры:
Эпистолярная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Всего не написал, продолжу завтра. Твоя «грелочка» – чудесна! Целую глаза, пальчики, бедная моя, трудница моя! А узнав, как ты металась… чтобы дать мне скорей «теплушечку» твою… – о, теперь она еще священней, ми-лая..! Буду счастлив, если ты порадуешься клюкве! и – всему, что я так радостно искал, чем бы тебя порадовать, дитя мое. Посылаю тебе «зимнего», пусть «парижанина из… Москвы». Не отвернись, плохо вышло, мелко очень… Пришлю Олю – _и_н_у_ю, _с_в_я_т_у_ю. На днях уменьшат ее «посмертный лик»231. Тяжело, но я пошлю. Ты ее любишь, чтишь. Никому не показывал, никому не дал, – только Ивику – его «теть-Олю». – Олиську. Целую. Господь с тобой. Твой Ваня
С приложением фото-паспорт.
109
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
15. II.42 10 ч. 30 вечера
Светлая моя Олюша, так пусто, так мне одиноко. Письма твои тревожны, мучительны. Больно мне было писать тебе, что написал, но надо было все сказать, чтобы ты все во мне знала и не искала бы «новой стороны» во мне. Спрашиваешь: где ты, прежний мой? Вот, все тот же я, и все больше люблю тебя, хоть ты и томишь меня. Когда-то писала ты – «тебя я не стану мучить, не буду с тобой, как с другими… я буду очень бережна, чутка…» И вот, стоило мне только высказать смуту свою, как ты все собой закрыла, только свою боль слышишь… Где мое Рождество? – спрашивала ты с болью. Где – мое? где моя светлая, нежная, чуткая Оля, где моя чистая девочка?! – плакало в моем сердце? И – за что?! Ты поняла смуту своих и извинила им, а мне моей тревоги, моей о тебе ревности, – не прощаешь?! Я опять в пустоте, в тоске, как до июня 39 г., я хочу все опустошить в себе, я не могу молиться, я подавлен. Сникли мои надежды, ушла бодрость, и на распутье я. Вчера ушел из церкви, как пропели любимое мое – «Ныне отпущаеши…» Боль не отпускает меня. Я не найду мысли, воли написать для тебя автографы. Ты словно отходишь от меня. Ни ласки, ни нежного словечка в твоих последних письмах. И это новое, – о, какое холодное, – «друг мой»!.. И – м. б. случайно это? – на твоих конвертах – твое О. Bredius… без родового, дорогого мне! Или ты _д_р_у_г_о_е_ решила, не _н_а_ш_е, что должна была решить? Решила, что ты – О. Bredius… – и конец? Зачем это? Чтобы еще больнее было мне? Оля, оставь гордыню. Или не видишь, как ты _в_с_е, _в_с_е_ – _с_о_б_о_й_ закрыла?! Оля, верни кротость, светлость свою, тихость-нежность, будь же светлой, чудесной, как ты открывалась мне! Это – не от папочки, такое. В каждом письме боль твоя, тобой надуманная, чтобы растравлять сердце, – все повторяешь – «необразованная»! Зачем возводишь на меня, что я будто бы тебя «пригвоздил»? Это стало твоей навязчивой идеей. Это – больное.
А сколько света мне виделось! – и ушел свет. Я не побуждаю тебя – решать главное, я примирился с мыслью, что ты _н_е_ можешь решить, нет воли у тебя, ты сама себя покинула, ты устала, больна, – ты вся растратилась на – чаще всего – призрачные муки. Ты _и_х_ _и_щ_е_ш_ь, чтобы «всю горечь испить». Мало ее было?! Вдумайся же, спокойно, во все, что написал тебе вчера. Какая радость – терзать друг друга? Тогда уж лучше забыть друг друга. К чему это томление – надуманным, несбыточным счастьем? Я теряю веру в него. Я теряю волю – жить, работать. Когда-то, после второго удара в сердце, после смерти Оли… – я ждал конца. Я все разметал и кинулся в монастырь на Карпатской Руси, – около него окончить дни, когда меня, в июле 37 г. вернули к жизни после тяжелой болезни. Но и монастырь не мог утолить тоски, закрыть пустоты. Или я что-то предчувствовал?.. И снова – проклятый Париж, и снова черная пустота, и снова гнетущая боль одинокости. И мой крик. И ты – отозвалась мне, _с_в_е_т_ мой, вечерний! Зачем _о_т_о_з_в_а_л_а_с_ь_ ты? – чтобы поманить далеким отсветом… несбыточного счастья?! Зачем?!.. Теперь еще больней, еще ужасней сознание грозящего одиночества, _н_о_в_о_й, страшно болезненной, невыносимой _у_т_р_а_т_ы… – _т_р_е_т_и_й_ _у_д_а_ р?! Но его я не выдержу, я знаю, – у меня нет сил выдержать. Я не могу молиться. Я не хочу жить – без тебя не хочу, не могу, не стану. Я _в_с_е, кажется, дал, что было во мне сил. Я счастлив, что отдал тебе светлое мое, м. б. лучшее из просветлений духа… – мое «Куликово поле», связал душевно себя с тобой. Помни своего найденного Ваню… – он плакал, когда писал. Не знал – для _к_о_г_о_ писал… И вот, узнал – для _к_о_г_о, и – отдал. Там тоже – Оля. Да, так и _я_в_и_л_о_с_ь, в янв. – февр. 39-го, за 4 мес. до _т_е_б_я. Переписывая для тебя теперь, я чуть пополнил _е_е, Олю…232 чуть усилил ее черты – _т_в_о_и_ – мне дорогие… – смирение, чистое сердце, благоговейный порыв-восторг, _в_е_р_у, что _в_с_е_ _ж_и_в_о_е, и _н_е_т_ _у_т_р_а_т… у Господа нет утрат, и у тех, кто во Имя Его живет и верит… И _в_о_т_ – болью слышу _о_т_в_е_т_ мне – _у_т_р_а_т_а! Неужели надо принять эту, _н_о_в_у_ю, когда _о_з_а_р_я_л_а_ _в_е_р_а?! Оля, ведь я прежний, люблю тебя, верю в тебя… – зачем же ты так? зачем не веришь мне?! Ищешь во мне, чего во мне нет, – ты же _в_с_е_ во мне знаешь! Оля, м. б. Он, Преподобный, кого я дерзнул дать в своем искусстве… м. б. Он помог мне найти эту – Олю – мечтаемую, искомую, взыскуемую?! Ведь это твой духовный образ выяснялся мне, – ненадуманный, – явившийся сердцу моему, нежный, чистый… – я плакал с ней тогда, в той комнате, склонившись к ногам Святого… я задыхался в рыданиях, в благостности… _т_о_г_д_а! И Он – _б_л_а_г_о_с_л_о_в_и_л_ меня? положил и мне свою десницу на усталую голову? и сказал – «пребуду с тобой… до _у_т_р_а». До утра – с тобой, _у_т_р_а_ дня «в_с_т_р_е_ч_и» _с_ _т_о_б_о_й, Оля моя! Не знаю. Я был счастлив. И вот, _п_р_и_з_р_а_к_ светлый… _о_т_х_о_д_и_т? гаснет?.. Не уходи, Оля. Не мучай. Нет, я не стану удерживать тебя. Делай, как хочешь. Мне стыдно, я не хочу, чтобы даже ты меня жалела. Милости мне не надо… Ушел Святой от меня, и опять пуст кров мой, и дни опять пустые, и ночи без сна.
Будем благостны друг к другу… – говоришь ты. Будем же Господа просить помочь нам! Будем искать друг в друге не темное, не острое-колющее, а доброе, _н_а_ш_е, от Света, чем живем _и_с_т_и_н_н_о_ _о_б_а, что, знаешь ты, всегда вело меня в моей нелегкой работе, в томленьях и сомнениях и – в восторге творческом! Я всегда искал _с_в_е_т_а_ в людях, я тянулся к нему и старался показать его в людях – людям. Зачем же в жизни быть _д_р_у_г_и_м, злым, темным?! Будем молить Его, светлого Пришельца, благовестника… – благословить и нас, дабы пребыли в мире. Ведь ради нее, ради _с_в_е_т_а_ в ней, в Оле, явился Он, ради ее _в_е_р_ы! – а не ради отрицающей гордыни _о_б_р_а_з_о_в_а_н_н_о_г_о. Будем же просить Его дать нам указание путей, дать Свет Креста нам! С этим Светом мы перенесем и разлуку… _и_м. б. _в_с_т_р_е_т_и_м_с_я, _т_а_м, Оля?.. Во-имя Его, Светлого благовестника, дозволившего мне дерзнуть – явить Его… давшего мне _с_и_л_ы_ _п_о_н_я_т_ь_ Его… – Оля, будем же жалеть друг друга! Этот _с_т_р_а_н_н_ы_й_ рассказ мой… – _к_а_к_ он томил меня! как пугал бессилие мое! – и _к_а_к_ же я трепетно преодолевал… и как я трепетно _с_л_ы_ш_а_л, что мне открывается и _д_а_е_т_с_я… – такие были осияния глубокой ночью, когда я вскакивал с постели и бежал к столу записать неразборчиво, дрожащей рукой _м_ы_с_л_и… _о_с_и_я_в_ш_и_е!.. – сколько было сладких и бурных мигов! – если бы я мог тебе, _с_а_м, прочесть этот _я_в_л_е_н_н_ы_й_ мне у ее могилки _с_о_н_ жизни! _п_р_а_в_д_у_ – Оля! – мы вместе плакали бы и стали бы так чудесно-светлы, мы слили бы в _о_д_н_о_ слезы наши, добрые, благостные..! Ах, Оля милая… я всю душу отдал бы, всю нежность… тебе отдал бы… и ты почувствовала бы мое сердце и мою чистую-чистую любовь к тебе! И плакала бы ты, и я снял бы светлым поцелуем эти святые слезы! Олюша, я не могу больше, я устал… Сейчас думаю о тебе. Ты, м. б. уже была в Гааге и получила мои ласковые малые памятки о тебе. Я хотел, чтобы родная девочка порадовалась малому _р_о_д_н_о_м_у, что только _т_а_м_ есть, было… что она в детстве знала… клюкву, чернослив, запахи поста… вязигу, странную такую… большего не мог найти… искал нашу пастилу, клюквенную, яблочную – нет, пряников, постного сахару… Да, забыл! Надо бы халвы тебе! Господи, за-был!.. Есть, ведь… Оля, как греет твоя «грелочка»! Как я люблю ее! я ее целую, глажу, ласкаю. Я прижимаю ее к лицу, глазам… и это будто ты, Оля моя… твои пальчики, твои токи света из глаз – в ней, твое дыханье в ней, твои вздохи… _т_в_о_и_ думы… Я вижу эти петельки… эти… Оля держала, тут – она, ее боль, ее губки, ее, быть может, слезы… и ее тревоги. Как она дорога мне! Я ее ни-кому не отдам, я ее не _о_с_т_а_в_л_ю_ _з_д_е_с_ь… она не пойдет старьевщикам… Оля, целую, светлая, о, как люблю, Оля моя! Твой Ваня
[На полях: ] Сегодня меня друзья насильно увезли в театр – утренний – в оперетку «La chauve-souris»[137]. Милая караимочка233 хотела развлечь мою тоску. Потянула к себе пить кофе. Пришел домой – мои юные пришли. Но я был все тот же, унылый.
Оля, прошу, немедленно сообщи о твоем здоровье и о здоровье мамы, или я срочно напишу Сереже. Что ты меня пытаешь?
110
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
Сретение Господне
15. II.42
Дорогой мой Ванюша, дружок!
Вчера, – и как светло мне от этого, – вдруг спала моя душевная обуза, давившая меня невыносимо. Не знаю, что это было. Ужасно только. Вчера твои письма. Утреннее (от 7-го II, т. е. 5, 6, 7 – ты писал его 3 дня, собирался к отцу Д[ионисию]) твое меня как-то «облегчило». Не ласка, не «извинения» твои, и уж конечно не твои «бичевания» себя самого (!), но просто твое состояние, настроение, какое-то скрытое _в_е_я_н_и_е_ спасло меня. Я вдруг «о_т_т_а_я_л_а». Ванюша, я прежде всего сама рада этому. Я очень страдала этой моей захолодалостью. Я и не думала тебя наказывать ею. Я же сама всего больше страдала.
Это было не оскорбленное мое самолюбие или еще что-то от оскорбленности. Я не знаю, честно, сама, что это было. Я покоя не находила, себя не находила. Не могла тебе писать. _В_ы_д_а_в_л_и_в_а_л_а. Ваня, у меня все всегда заметно: все мои чувства и переживания не умею скрывать, – т. е. стараюсь, но лицо (глаза) (* В клинике упрашивали согласиться сделать с моих глаз (остальное лицо закрыть) «Foto-Studie der Augen» [фотографическое исследование глаз, нем.] и доказать, что в лице главный «выразитель» – глаза. Конечно, не далась.) «выдают». И я не умею быть неискренней, если ласка не идет из сердца, то я не могу говорить ласковых слов. И так я мучилась, что ты их ждешь, а я, ну не могу, не могу. И хочу, поверь, но не могу! Это было. И я болела духом! Мира не было, молиться было трудно. Все было в смуте, не видела далей. _Н_е_ от обиды! Ты этому должен верить! Я знала, что мне трудно будет излить ее, но такого последствия (?) или такого «осложнения» я сама не ожидала. Со вчера мне легче. Ванюша, ты знаешь, что твои «хвалы» мне – не помогали. Твое «самобичевание» тоже, нисколько. Наоборот! Я уже не верила, что оттаять можно. И вдруг «повеяло» теплом. Спасибо, что ты моей души «сумел» коснуться. Душой же? Ты знаешь, я так была «задергана», что _н_и_ч_т_о, никакая «жалость» меня бы не вернули. Меня самой себе! Я знаю себя, как я могу быть «бесповоротна». И к себе! Я рада, что к сегодняшнему дню мне лучше. У меня все еще тоска, правда, но это уже – хроническое мое. Это не та «болезнь». Я хотела ехать сегодня в храм, к Д[ионисию], но автобус не ходит. М. б. как-нибудь в другой раз, скоро. Мне так не терпится. Сгораю узнать, как был твой визит у него? Его у тебя? Впечатление? Я же тебе писала о нашем «беспастырстве», еще тогда в 1-ом письме, далеком, но ты меня «пробрал» тогда, сказал, что есть светлые души. В Д[ионисии] я ценю то, что он _в_е_р_и_т, а то ведь много и таких, которые и этого не имеют. Он все же идеалист, хоть и «убогий». Я ему тебя очень «рекламировала» еще давно, тогда [в] 1939 г. Спросила: «читали?» «Да». «„Пути Небесные“ Вам нравятся?» «Да, что-то помню, нравилось». Я думала, что «кривит» святой отец. О «Путях Небесных» нельзя «что-то помнить», тем более, если они нравятся. Они берут всего! А м. б. и читал, но по монашеству стесняется чар Дари?! Ваня, я конечно все в «Путях Небесных» для себя нашла. Разве не писала? 10-го янв. ночью я проснулась и сказала: «там весь мой Ваня!» И взяла тебя всего в сердце, душу, в _г_л_а_з_а!
Я 8-го и 9-го была слишком оглушена. Пойми! Письма были ужасны. Хуже открытки. Я бы тебе все процитировала, но не хочу бередить, хотя и переболело. Там ты прямо сказал: «ты привлекала не женственностью, а теми особливо-женскими (не женственными) инстинктами, что пониже поясницы. Знаю эту манеру! Тьфу!» И об образовании тоже, совсем ясно. И о маме, много после и в этом особый был мне ужас, что так долго «возишься», что не оглушенность твоя только, но длительное обсуждение. Ты уже «каялся», когда в конце вдруг сказал: «у тебя от папы твоего светлая душа, а от мамы… физиология? Думаю, что не ошибаюсь. Ты была странно воспитана и не умела пользоваться предоставленной тебе свободой». Я никогда не выискивала, чем бы тебя еще уязвить, как ты это думаешь, – Боже, что бы я дала, чтобы преодолеть себя тогда и быть милой – Олей. Нет, я искала всюду следов мгновенной слепоты, ревности твоей, чтобы _о_п_р_а_в_д_а_т_ь_ и не находила. Ибо ты сам все это заранее уже оговорил! Понимаешь, почему было так больно? Но довольно! Вань, как жаль, что перо сломалось! Отчего? Неужели обман? Не золотое? Я его за золотое покупала. «Монблана» не было уже нигде, а это «Ватэрман» очень хвалили. У меня такое тоже. Я люблю, и пишу хорошо, только _т_у_п_ы_м_ пером, но тогда, когда себе покупала, не могла найти и взяла какое было. Это не мой почерк – тонкий. Я пишу тупей и круглей. И. А. восторгался им, – он, кажется, занимается этим. А тебе я гадко пишу, не умею тонко и всегда спешу «ухватить» мысли. Твой почерк тоже для пера тупого. Я люблю очень, как ты пишешь, имею в виду сейчас и внешне. Я тебя очень люблю! Всего! _О_ч_е_н_ь! Ну, поцелуй! Конечно «м_о_ж_н_о», – у шейки!.. за ушком? Тоже! Но только сегодня, а завтра – Пост! Будь пай! Не «волнуй» меня фиалкой-любкой!.. Я думаю, что знаю этот цветок под названием «фиалка», белая, восковая, душистая, но бывают такой же формы сиреневые, без запаха. Да? Эта?[138] Я плохо нарисовала, только вообще, конечно. Почти что натуральной величины, м. б. чуть меньше. Чудный аромат! Несказанный! Их в Костроме звали «фиалкой». Эта? Ваня, Ваня, какой ты… _г_л_у_п_ы_й! Да, да, _г_л_у_п_ы_й, мой умница! Чего ты такое выдумал? Мне нравятся голландские ковры и т. п. И этот «уют»? Дурашка! Разве мне нехорошо было бы _д_о_м_а? У нас, _т_а_м? Какая бы там ни была «бесковровая» (а м. б. и больше, «безводная», «бессветная», «безванная» жизнь!) жизнь? А ты – Россия! Все твое – богатство, жизнь, счастье! И чудесное! Я знаю!
Чего ты себя все принижаешь? Не смей! У меня никакой роскоши здесь _н_е_т! Я очень просто жила всегда девушкой и теперь я никакая не «важная дама», а та же Оля. Я все сама делаю, ты даже не подумаешь что. Я все умею. Только для тебя бы стала учиться готовить. Ты такой гурман! Я русской кухни мало знаю, такой обширной, твоей. Ах, ах, чего ты накрутил! Вязига, чернослив, бананы, бисквиты… Господи, Ваня, себе бы оставил! А «Ваню-Москвича» забыл? Не послал? Пошлешь? Пошли! Я не знаю, приехал ли Дионисий, – думаю, что получу от него письмо. Ах, Ванечек, говеть вместе! Чудно бы! Сегодня мне снились… _м_о_и_ _р_._._ы. Подумай! Я так безумно боялась и все молила доктора помочь. И начало уже испытала, были боли страшные, и проснулась. Болей наяву нигде не было. Я читала твое письмо о Дари и вот вообразила. Я безумно бы этого боялась. У меня захолаживает сердце порой от дум только. Я в клинике видала этот ужас. Я понимаю, «почему» только год счастья Дари. Ужасно, но _н_а_д_о… Верно! Ваня, _у_ж_а_с, я получила только 3-ье и 4-ое письмо с «Куликовым полем», а 1 и 2 нет! Пропало? Когда послал? Напиши! Я в ужасе! Ванечек, спасибо тебе, о, какое! Ваньчик, но это: «Оле, урожденной С.» – это не для всех? Это только наше? Я не хотела бы, чтобы все, толпа тоже, читали это – «Оля», твое – мне, чтобы для всех я прозвучала «Олей». Ты не обидишься? Я «для всех» недоступна, недостижима для них как «Оля». Но, впрочем, чего я расписалась, ты сам это знаешь. Я хочу быть только тебе Олей. Никто меня так, кроме мамы и С, не зовет. Оля! Ваньчик, я боюсь, что все же долго мы не увидимся. Не дают мне визу. Толкалась я всюду. Будем ждать! Но страшно, как «уходят дни и годы, и бегут века»234. И я… «ухожу». Я… будет поздно? Спроси Серова? Или не надо! Уйти с мечтой… о… Знаешь о ком! Вот это ужасно. Я моложе своих лет, мне говорил врач, что «такова и для этого по существу и не поздно, но торопитесь». Может быть поздно. Понимаешь? Сироту оставить без матери страшно. Но, впрочем, что я, об таком?! Мой ягненочек почти что умер вчера. Отходили. У него закрепилось (дали черничного отвара), но стало вздутие кишок. Стонал, страдал, прикончить его хотели. Случайно оставили до утра. Отдышался. Я ему соды дала чуть-чуть. Сегодня отчаянно есть просит. Осторожно даю. М. б. останется?! Цветик растет, но почему-то листочек один подгнил, думаю, черви. Я дрожу над ним. Мышей как-то меньше слышно-видно. Потеплело – убежали по хлевам. Я «боюсь» их до безумия. Рада, что и ты «не выносишь». Мама на стулья скачет от них. С. и она в восторге от твоей открытки брату. Я тоже, – ты – дуся. Ванечка, прости меня сегодня за все и скажи мне мыслью: «Бог простит!» Я твое все-все взяла в сердце. Елочка горела твоими свечками (хоть и в ссоре), ландышки сухие, но чудно пахнут – ждут весны… будто живые. Да они и живы! Ваньчик, пуловер впору? Я по С. мерки делала. Он должен быть узкий – только тогда и сядет по фигуре и греть будет. Напиши, и нравится ли цвет? Получил о его «истории»? Чудо!
[На полях: ] Я действительно, и по документам «О. Субботина, супруга A. Bredius’a». Это здешние законы. Когда умру, напишут: О. S[ubbotina] – замужем была за B[redius]. Это мне раньше очень правильным казалось – широта нравов, но оказалось, совсем иное.
О шефе когда-нибудь напишу. Разве я не посылала конца поездки? Никакого повода к ревности!
Обнимаю на «Прощеное» Воскресенье и целую! Твоя Оля.
Котишки – прелесть, начинают друг другом очень интересоваться, но «она» очень целомудренна и стыдлива! Право!
111
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
23. II.42 9 вечера
Ты, Оля моя, снова _м_о_я! Ты просветлела, моя Оля, моя жизнь, мое все, _в_с_е..! Как я был придавлен все эти недели! Я писал тебе, я скрывал _с_в_о_е, я мучился, Оля моя… я не понимал, что с тобой… ты _у_х_о_д_и_л_а, я это в подсознании _ч_у_я_л… и был бессилен уяснить себе. Я знал, что ты необычная, необычайная… но я не сознавал, что ты до такой степени _о_т_ч_у_ж_д_е_н_н_о_с_т_и_ могла сознать себя! Сегодняшнее твое письмо, «срочное», – благодарю, родная! – мне показало весь ужас, который грозил мне: только тут я понял, _к_а_к_ ты могла быть «бесповоротной»! Хорошо, что я _в_с_е_г_о_ _т_в_о_е_г_о_ не сознавал вполне: я себя убил бы, если бы я сознал весь ужас. _Ч_т_о_ бы мне оставалось тогда… после _с_ч_а_с_т_ь_я_ – быть тобой любимым, после твоей открытости мне, после _т_а_к_о_й_ – пусть из отдаленья! – близости твоей ко мне, такого твоего светлого доверия ко мне!? О, ласточка… я снова живу… Оля, ты знаешь… тогда… давно, в начале июня 39… когда я в отчаянии был, воззвал к _н_е_й… взять меня отсюда… ведь я _з_н_а_л, что живу последним усилием, что мне жить _н_е_л_ь_з_я… и я только не знал, _к_а_к_ я оборву дни, но сил жить уже не было. Я в слезах, беззвучно, кричал… – и ты отозвалась, ты меня удержала… потом ты меня крепко удержала, потом ты меня заставила поверить, что можно жить, что надо жить. Оля, вот теперь, когда я узнал, _к_а_к_ _т_ы_ можешь быть «бесповоротной», мне стало страшно: подошло ко мне вдруг, холодом, ужасом… _т_о, июньское чувство пустоты, бесцелья, смерти. Ты устранила… ты вернулась… и я страшусь – надолго ли? Ведь ты мне уже давно посылала «привет мира». А потом, последние твои письма – были – вынужденные, письма души опустошенной, безразличной ко мне… я это _с_л_ы_ш_а_л_ – и терзался. Письма мои были нежны, – но я не могу не быть нежным с тобой, даже и отвернувшейся от меня… – я, впрочем, старался объяснить эту холодность болезненным состоянием, сильной неврастенией, когда _в_с_е_ уже безразлично. Оля, не мучай меня больше, мне страшно… клянусь – мне страшно. Оля! Ну, ты вернулась, ты будешь прежней, ты мне все простила, – а я… я без вины виноват… т. е. бессознательно, лишь страстью виноват, а не сердцем, не злой волей. Мама твоя для меня – _т_в_о_я_ мамочка, твоя гордость, – и – позволь же, Оля! – _м_о_я_ гордость!! Я недостоин говорить так, но я говорю это через свое недостоинство, потому что это – _в_о_ _м_н_е_ – ощутимо живо. Я готов ей ноги целовать, т. е. земно поклониться! твоей маме, _з_а_ тебя, за ее чистоту, за мое окаянство. Это грех кощунства, – был! – это дьявол во мне изрыгал _з_л_о_е, – он подсказывал мне объяснения моего «пожара», моей растерянности перед ложно объясненной тобой… – и я стал беспутным в словах, в корчах своих душевных. Оля, я сегодня же получил и твое – давнее! – письмо, от 31.I, где ты дала блестящую – иначе не могу выразить! – картину-портрет твоей святой мамочки, твоей справедливой гордости и… моего изумления – это я вынес из чтения письма, – моего изумления самим собой, _к_а_к_ я мог не понять, кто твоя мама?! Ведь я же писал тебе, я же чтил ее, я любил ее уже, как твою маму… верь, Оля! Я перед тобой, как перед совестью своею говорю, я же не могу иначе… я не такой же дурной… я хоть и безумным бываю, ослепленным, но я не такой плохой… я могу каяться в безумстве, и я каюсь, и я раскаялся. Оля, ты – не хвалю же! – ты – сверх-умна! ты необычайно глубока, ты умно-страстна, ты – вся огонь палящий, в гневе… ты – прекрасна, Ольга! ты – нет слов сказать, – _к_т_о_ ты для меня, во мне… ты – неописуема! неохватна, – клянусь, ты… я бессилен был бы _в_с_ю_ _д_а_т_ь_ тебя, если бы и хотел страстно, – у меня, просто, нет сил _д_а_т_ь_ тебя… И знаешь, Оля… это абсурд говорить так, но надо же хоть тень чувства выразить сию минуту… – я тебя _б_о_л_ь_ш_е_ оценил теперь… – любить больше _н_е_л_ь_з_я! – после этого письма о маме… этого блеска ума и чувства… и богатства средств, слов, неповторяющихся! И ты можешь еще писать, что ты – «н_е_ можешь _п_и_с_а_т_ь!!?» Ты – _в_с_е_ можешь. Я не знаю, с кем тебя ровнять… я только в изумлении и в исступлении восторга могу шептать… – «какое чудо эта Ольга! свет какой, моя Ольга!» – и мне жутко, что ты… – сердцем моя?!! Я так порой ничтожен… так бессилен перед тобой… видишь, нет никакой во мне гордыни, только лишь могу молиться, в сокровенном смущении Бога благодарить за _д_а_р_ бесценный.
Оля, ты вернулась?! Ты не будешь больше застывать… отчуждаться мучительно? Ведь я же не так уж преступен?! Оля, вернись _в_с_я, я не могу вынести, я сгасну, я стаю… – не делай же меня еще несчастней, чем я был – скрытно – эти недели ужаса… обманывая себя– и _ч_у_я. Но… да будет Божья воля!
Олечек, светлая моя… ты сама выберешь «посвящение» тебе моего «Куликова поля». Теперь же… Вот, просто: «Ольге Александровне, урожденной Субботиной». Я не могу… _в_с_е_ наименование… _н_е_ могу! Это допустимо, ибо это – правда. Тут лишь опущение наименования, приобретенного _ю_р_и_д_и_ч_е_с_к_и. Я хочу связать _т_е_б_я, любимую, с моим творчеством, с моею душою.
Уверен, что начало – письмо 1 и 2 – «Куликова поля» ты получила. Если нет, – я снова перепишу, пошлю. Но читай все целиком: _в_с_е_ связано.
Да, это та самая «фиалка» – «любка» моя. «Восковка», из немногочисленного у нас семейства «орхидейных». Лиловые не пахнут, да. Запах – необычайный, «гвоздичный» в основе, но… – для меня – полон _т_а_й_н_ы_ и… неопределимой страсти… до мистического ощущения… – трогает «глубины». Так – с детства. Ты хорошо нарисовала, верно.
Мой Олечек, как тебя назвать, какою лаской обласкать – не знаю. Благодарю, что ты – Оля… – только для меня! Права ты, Оля – не для печати. И знаешь – это я в порыве чувства – _т_а_к… в корректуре для печати я изменил бы, _з_н_а_ю. Я это – только «для тебя». И первой моей заботой, как только наступит возможность издания… – «Куликово поле»! Я подберу к нему – _ч_т_о_ подобает, что достойно – _р_я_д_о_м. А лучше – издать только это одно, издать _м_о_л_и_т_в_е_н_н_о, очень _ч_и_с_т_ы_м_ томиком, малого формата, как издают стихи… – ибо этот «святой рассказ» – стоит особняком во всем моем, как и во всей русской литературе. Тут – святое дерзание, тут – моя молитва. Это моя _п_е_с_н_ь_ о… тебе, Оля моя! Я не знал тогда тебя, но я тебя нашел в этом «Поле», _у_в_и_д_е_л_ духовным оком, моя Светлая, Чистая моя, Святая… Я так и сделаю – склонюсь перед _с_в_е_т_о_м_ Твоим! Навсегда соединю себя с тобою, в _д_у_х_е. В рамке – в нежной зелени – издать бы, все странички, как бы – молитвенную книгу, церковную. – Я _в_с_е_ бы тебе отдал, из самого заветного, и я не возмерил бы всего, что ты дала мне… – свое сердце! Оля, поверь, это не словесный оборот, это подлинное мое чувство, _ж_и_в_о_е, – это Любовь к тебе, это мое родство с тобою, это Душа, _н_а_ш_а, _ц_е_л_ь_н_а_я, воссоединившаяся из частей в нас обоих. Верь мне, Оля! моя Олёль, моя вернувшаяся ныне… прости мне согрешения мои перед Тобою, чистая!
Олюша, девочка моя святая… льется сердце к тебе, такою нежностью… до замирания… как бы в молитве, самой чистой, горячей самой… возносящей! И – как это свято! – я думаю, я грежу… о желанном… неназываемом. Ольга… ты прочтешь, _ч_т_о_ написано в моих глазах, какая мольба к тебе… о – _ч_е_м?!!.. Как это свято для меня! Нет, Оля… _н_е_ поздно. Ты – не обычным меряй, не _з_а_к_о_н_о_м_ естества. Ты – _ч_у_д_о. Ты… чудесным меряй. Для закона – и то – 45 лет… круг замыкается: круг жизненных, творящих сил. Но и закон знает исключения, даже до 50 л. Ты – юная, пойми! Годы – так относительны! У тебя большой еще запас. Верь, моя чудесная, необычайная. Не тщетна вера эта. Для Господа возможно _в_с_е. Ждать, м. б. не так уж долго. Я верю. Я _х_о_ч_у_ – и _б_у_д_е_т, если соизволит Бог. Он видит _в_с_е. Душу нашу видит. Будем же молиться! Я весь – в трепете, как никогда.
Твоя фуфайка-грелочка… – чудесная! Я – как влитой. И так тепло! И так красиво. Все так любуются. Такой я бодрый в ней, как… мальчик. Так и говорят. Вчера была поэтесса235, принесла мне посвященные стихи, не была года 2. «Как вы помолодели!.. посвежели!..» Еще бы… На ночь я кладу грелочку на подушку, за голову, один рукав под подушку, другой – на «думочку», и – прижимаюсь щекой. Я слышу тебя, будто это твоя рука… со мной. Я дышу ею, я вбираю твои вздохи, твои _г_л_а_з_а… твое тепло. И так все ночи. Оля, нет минуты в днях, когда бы не было тебя во мне! Да, это правда: ты _в_с_е, во _в_с_е_м. Как жизнь. Ты – жизнь мне. – Не болей цветочком! Твои «мотыльки» цве-тут! Еще будет бутончик. 2 с половиной месяца! – Оля, письмо от 14 – опять «самооправдание». Я был все неспокоен, все объяснить пытался… – ну, прости! Кончим же _в_с_е. – О шефе ты не досказала, как посадила его «на задние лапки». Мне интересно. О «Даше» я все сказал. Получила? В_с_е, _в_с_е_ – _п_р_а_в_д_а, чистая. Знай же, я _н_и_к_а_к_о_й_ другой женщины _н_е_ знал, и не любил никакой другой, кроме Оли. Ты – _п_е_р_в_а_я, без нее. Так – _д_а_н_о. И я счастлив, что _т_а_к. Ты должна долго жить, должна жить в творчестве, твоем – моем. И – будешь. Я… жесток к Дари..? Но ты чувствуешь сама, что по заданию – так _н_а_д_о. Н_а_д_о_ – оправдание страдания и – счастья. Не в сроках дело – в силе чувства, переживаний, напряженности Счастья – вот. Время – условность. Нет, тут _н_е_ наказание _з_а_ грех. Тут – испытание, _з_а_в_о_е_в_а_н_и_е_ Высоты! Тут, наконец, мой творческий _о_п_ы_т… и надо его сделать ясным. Твоя любовь мне поможет. Благословись, приступаю. Завтра Благослови, Оля. Мысленно поцелуй меня, Ваню твоего, родного твоего, горемычного твоего. И – счастливого тобою. Перышко выправлено, оно – золотое. Как тебя ласкаю!! как целую нежно, всю, всю! Привил сегодня оспу, _н_а_д_о. Зима зверская, замучила. У меня сносно +9–10, когда добавляю радиатор электрический. Достали мне «мацы» – из белой муки, _г_о – р_ы! Как хрустит! Я хорошо питаюсь. Ты-то ешь! Будь радостна (* Знай, что тобой живет сердце и как бьется! Творит Тобой!).
24-го утро. Сегодня за «Пути». Целую. Твой Ванёк
Не рассерчала за «мышей»?236 а за «Прости»? Это Тоник балует.
112
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
23. II.42
Ваня мой родной, светлый мой, чудесный, прекрасный ангел! Ванюшечка – солнышко радостное, ласкунчик, нежный, дорогой мой! Неоцененное мое сокровище, счастье мое, единственный мой! Ванечка, не могу выразить тебе всю муку мою за тебя! Христа ради, – не для меня, – я недостойна тебя! Но Христа ради молю тебя: у т и ш ь с я! Успокойся! Верни покой и радость! Послушай друг мой единственный, Душа моя: представь, что мы с тобой в своем, далеком храме, никого народу, тихо, полу-темно и только батюшка еще в алтаре закрытом что-то вполголоса говорит с прислужником.
Одни мы перед Крестом… И я тебе вот перед этим Крестом говорю, Ванечек: успокойся, уверуй, не мучь себя!!
Я, слабая и грешная, только тобой и живу. Не думаю отходить от тебя. Откуда ты это взял? Нет, _т_а_к_а_я_ _я, что теперь у тебя, – я _н_а_в_е_к_и. Не возьму никогда ничего, из того, что дала. Не томи себя этими мыслями. Это нельзя! Но мне больно, что большего пока нету. И в этом я не вольна. Подумай! Ты сам это признаешь! Я не могу преодолеть расстояние… и многое другое, не мое. Разве я не хочу? Ну, успокойся!
Давай молиться вместе… Хорошо, спокойно… Ванюша, я пред Лицом Бога тебе говорю, что _н_и_к_о_г_д_а_ тебя _с_о_з_н_а_т_е_л_ь_н_о_ _н_е_ _м_у_ч_и_л_а. Ты верь мне, что эта проклятая моя «повесть» меня доконала. Я так старалась (не «громоздить») себя найти, и так страдала, что не могла.
Ненаглядный мой, я вижу, как ты склонился головкой, ты грустен… Ванюша, я на коленках перед тобой, я снизу заглядываю тебе в глаза… Ну, улыбнись, ну, хоть сквозь слезы! Я обниму тебя, тихо и благостно, поглажу, успокою. Тебе так нужно тепло и ласка… Дружок мой, милый!
Забудь, брось все! Помни только Олю светлую, твою, любящую. Ну, будем же детками Христовыми! Ну, будем!
Я писала тебе вчера много, подробно, объясняя все мое. Не посылаю. Не надо этого ничего, никаких длинных слов. Ты все поймешь сердцем! Ты поймешь, что Оля страдала, дико, безумно, не могла унять себя, именно из боязни утратить Ваню, писала убито, горько, потому что иначе не могла. Серии писем горьких Ваниных, вызвали потоки таких же Олиных… Но письма ползут и опаздывают… И получается нескончаемая мука…








