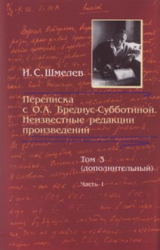
Текст книги "Переписка с О. А. Бредиус-Субботиной. Неизвестные редакции произведений. Том 3 (дополнительный). Часть 1"
Автор книги: Иван Шмелев
Соавторы: Ольга Бредиус-Субботина
Жанры:
Эпистолярная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 59 страниц)
Ольгуночка, мало я тебе ласковости пишу… но ты у меня _в_с_я_ в ласке. Вся – поешь во мне, девочка милая, как по тебе тоскую. Как рвусь к тебе… – хоть бы увидеть, – и шепнуть в глаза, в сердце твое – люблю, родная… нет ближе тебя, родней, неоценимей, Олюночка… – ну, подумай обо мне, ну, пожелай мне… дождаться тебя, – о, как сердце томится тобой! И все-то невеселое пишу тебе, больное, – вернуть бы весну, когда я был совсем здоров, ни малейшей боли… и сколько воли к работе, и сколько сил..! А сейчас опять боли, едва пишу… а вчера – весь день – ни намека. Конечно, язва это стонет, а я все, все стараюсь делать, чтобы не нарушать диеты. Все еще не получаю оригинала «Под горами». Берлин словно забыл меня. Да, там должно быть трудно друзьям. Приезжавший от них друг Чуругин520 – убит на восточном фронте. Милый мальчик был, я ему «Чашу» подарил. Оля-Олюнка, как я тоскую по Ней, моей родной… не могу больше… я _в_е_с_ь_ от Нея, вдохнуть бы раз родного воздуху… ткнуться бы в стог соломы и умереть.
15. IX Утро. Ночь спал. Болей нет. Еду в центр по делам. Целую тебя, светик.
Твой Ваня. Ах, хоть писать. Буду. Твой, твой В.
Как редко стала ты писать мне! Все «некогда»?..
203
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
16. IX.42. 12–1 ч. ночи
Ваня, Ванюша, Ванюшечка мой, глупка, милушка, родной мой, болезный мой!
Письмо твое от 10-го IX меня прямо сразило. Ты болен опять?! Господи, какой же это кошмар! Но я чую еще что-то, – ты подавлен, ты этой подавленностью и болен главным образом. Оттуда у тебя и язва снова. Дружок мой любимый, родная душенька, солнышко мое, не унывай же так! Ванёк, и чего же вдруг снова одинок так? Ну, скажи! Малюточка мой, деточка, голубчик. Ты массу навыдумывал еще: какая там моя «хладность»? Ну неужели тебе не стыдно все это писать? Как так: я «принуждать должна себя к письмам тебе»? Откуда это, что ты мне «духовная обуза»?? Опомнись! Ты же мой бред повторяешь. Если бы ты был обузой, так я бы так не страдала, не писала бы того, как писала, не искала бы утешения даже в исповеди и причащении, т. к. ничто не могло меня «у_т_и_ш_и_т_ь». Ну, веришь, Фома ты этакий????
Ванечек, нет, шутки в сторону: я убита твоей убитостью, подавленностью, одинокостью. Ванюша, откуда это? Ласкунчик мой, не надо так, нельзя, Боженьку обидишь! Не надо отчаиваться. Утиши себя молитвой, не трепли нервы. Пока ничего не делай. Ванечка, бывает у каждого человека время, когда даже _н_у_ж_н_о, чтобы все оставил, всякое попечение о себе самом и предоставил другим себя «баловать». Зачем-то это нужно. Ванечка, не будь же ложно-самолюбивым. Позволь Юле милой за тобой походить. Это же ей радость! Верю, что тебе это (ложно это, Ваня!) неприятно, верю, что все всегда сам и хочешь, и можешь. Но поверь и ты также, что и другим может хотеться для тебя сделать. Почему ты так ершишься? Юля милая, как я благодарна ей!
Если она тебе что-нибудь хочет устроить и может, то почему ты ее «гонишь»? Ну, будет! Как ты хочешь, так и делай, конечно. Но иногда хорошо действует на организм именно: полное неозабочение самому о себе. Ляг как на волны и дай себя нести… отдохни. Отдохни, Ванюша. Поезжай в санаторий куда-нибудь, тебе _у_х_о_д_ нужен. Ласка тебе нужна. Какое горе, что у караимочки больной – тебе, конечно, и этого очень не хватает. Ты вдруг почувствовал себя покинутым.
Да, горько это, что я далеко, что я бессильна. Горько мне это, Ванюша. И все же я ломаю голову, чтО бы устроить? Не говори только, мой милый, мой бедный изведшийся нервами Тоничка, что мне тягостен ты – больной!
Ваня, если тебя мысль о поездке тревожат, если тебе это трудно, то, дружок, не езди. Я покоя бы не нашла, зная, что ты больной в пути. Но, если ты действительно хочешь, то я все сделаю, чтобы к тебе приехать.
Если ты _э_т_о_г_о_ _х_о_ч_е_ш_ь! Тогда слушай:
попроси г-на Жеребкова попросить для меня визу, ввиду твоей болезни. Я поеду от Сережи. Я в свою очередь буду просить отсюда, но мне необходима поддержка с твоей стороны. Без нее я ничего не добьюсь. Вот, если ты хочешь, чтоб я приехала, то попроси Жеребкова, хотя бы прислать мне сюда выписку о том, что на тебя хлопотали визу по делу с С., но, что по болезни м. б. я могла бы по тому же делу заменить брата? Посоветуйся с ним, чтО можно. И не мучай себя глупыми снами – это же все отражение твоих мыслей, глупышка! Никакого «неудобства». Как посмотрела бы мама? Сережа? Я столько раз тебе писала об этом![234]
Какие все «внешние» твои смущенья! Я удивлена. И неужели ты моей души не знаешь? Не знаешь, чтО я в тебе люблю. Странно: мне снился тоже сон около 10-го же: я одна, совсем одна в целом мире. Я вижу небо, голубое в легких «барашках» и как же я счастлива, что столько света, простора и свободы… и… что я – одна. Мне весело это! А в жизни я боюсь – одна. И вот я роняю взгляд на землю и вижу огромный двор за каменной оградой, – смотрю я будто с птичьего полета. А во дворе что-то маленькое, в уголку, – колыбелька, а в ней ребенок. Мальчик. Я смотрю на небо, смотрю на мальчика, и мне невыразимо радостно. Чисто и уютно в душе. Я вижу какую-то особую гармонию в этом, что вот только и есть в мире, что то небо, простор и… дитя. Но… вдруг я вижу идет кто-то, – мне больно, что кто-то эту гармонию нарушает. Идет мужчина по двору, широкий, сутуловатый, в рубашке с подтяжками поверх ее (не выношу такого вида), меня коробит. Он подходит к люльке и вынимает детку. Это так грубо, так несогласованно, так все… не в «плане»! Я чуть не плачу, очарование ушло, я чувствую себя опять на нашей планете и… просыпаюсь. Странно? Но нет, это не «мой» был. – Не томи себя и такими снами… Хорошо? Этого не надо, Ванечек. Ты мучаешь себя напрасно! – Не проходит дня и минуты, когда бы я не была с тобой. Не одинок ты! Ну, дай головку твою. Я тебя успокою, поглажу, убаюкаю нежно, ты задремлешь, а я легонько, на цыпочках встану, завешу лампу и сяду в кресло, буду ночью сторожить сон твой. Ты будешь спать хорошо, крепко, а утром я открою тебе занавеску, пущу солнышко, и тебе оно не будет «резать глаза», а поцелует тебя нежно. Я сварю тебе вкусную кашку, что-нибудь придумаю моему Ване. Я заставлю остаться моего Тоньку отдыхать и днем, и буду ему читать, рассказывать, молча говорить сказку своего сердца… «Дядя Ваня» не будет плакать! Ванечка мой мне улыбается. Да, Ванёк? Да, мой милый? Олюша тебя успокоит, всего тебя лаской обогреет, душечку твою погладит.
Как больно мне, что ты весь год так горестно припомнил! «Где Вы „Пути Небесные“»? – Где? Да у тебя в сердце. И будут в мире! Конечно будут! Мы все осилим, Ваня. Ты предельно устал. А чтение тебя сорвало совершенно. Мне это сразу было видно. Подумаем, дуся, что бы сделать, чтобы стать здоровым, бодрым, сильным? Ванечек, устрой же отдых! М. б. и можно? Ну, если мне приехать и взять в оборот тебя?
Я не хочу никуда ходить, ездить, – это все тебя вредно пока. Мы отдохнем оба. Мирно, тихо, в твоем уюте. Я уже люблю его, твой уют. Серов жестокий – не ответил мне! На это раз я обижена. Нет, не подходящее это слово – не обижена, а очень неприятно поражена, встревожена, что он так халатен.
Ванёк, не смущайся, что будто у тебя трудоспособность теперь страдает. И. А. одно время не мог работать от болей и чего только не передумал. Все были нервы. 2 года болел. Ванюша, пойди с Даринькой в монастырь помолиться. Уйди в тишину эту. Пока, только пока, не давай себя мучить никаким вопросам. И «два письма» пока оставь. Тебя все это тревожит. Отдохни пока, чтобы быть свежим, чтобы вдвое смог потом дать. Ты измаялся, и так нельзя дальше. Не надумывай, что мои письма «случайны, хладны»… Ванёк – вздор это. Ты же, солнышко, это знаешь! Я была внешне задергана, но только внешне и очень этим тяготилась. Я вся – прежняя. И ничуть не увяло, ни капельки из моего чувства. Даже странно: все то же. Если я хорошо одеваюсь, что-нибудь покупаю, то будто для тебя! Я мало писала еще и оттого, что чуточку была нездорова – выглядывала ночью в грозу и шторм в… одной сорочке из окошка, свешивалась вся, ну, охватило, горло чуть-чуть болело, насморк и спина. В 3 дня прошло. Я совершенно теперь здорова. Лечу зубы. Не буду больше рвать ни единого. Хорошего нашла дантиста. Он сказал, чтоб я «из головы выбросила совет рвать зубы», все нашел хорошими… Да, я толстушка стала. Не любишь кругленьких? Ну, скажи же! Скажешь? Но что же мне делать? Я хочу быть здоровой! А ты, Ванюша, роднусенька, постарайся же не худеть! У тебя должно быть сильное сгорание, высокое потребление кислорода, так называемый высокий обмен веществ. Не делали с тобой этого исследования? Важно бы! М. б. щитовидная железа шалит? Спроси Серова. Сходи к кому-нибудь другому. Где же доктор Елизаветы Семеновны? Пойди, если меня жалеешь, Ваня. Я же извожусь твоей болью. Умоляю тебя! Все будет хорошо, мы все увидим. Надышишься ты и _с_в_о_и_м_ воздухом, _н_а_ш_и_м. Верь, только! Верь крепко, верь! Молись, чтобы тебе тихо было, и все пройдет. Все пройдет, Ванюша! Не утомляй себя сборами, поездкой, если это тебе хоть сколько-нибудь трудно. Я все сделаю, чтобы быть у тебя, если тебе скорбно, что не увидимся, если хочешь, чтоб я приехала. И знай всегда, твердо знай, Ваня, что я тебя люблю _н_а_в_е_ч_н_о. Никакие глупости у меня ничего не изменят. К чему ты пишешь о них? Ты для меня прекраснейший из всех, ты – единственный. И ты это знаешь! Что мне годы? Ваня, Ваня, как мало ты меня знаешь, и все-таки знаешь же! Я в тебе нашла то, чего всю жизнь искала, чего не надеялась никогда найти. Но нашла… нашла вот! И какой же шелухой бредовой ты на меня швыряешь, когда «боишься встречи»! Поверь, и кончим об этом! Ванюша, а если бы ты был здоровым, приехал бы, то я бы тебя хорошо устроила. Мечтала также я взять «дачу», в лесу, чудное место. После 3-го окт. будут свободны дачи, я узнавала. Недалеко от Arnhem’a. Вот бы дивно! Хотел бы? Совсем в лесу! Дубовый лес. Золотой в октябре! Но как ты хочешь. В Arnhem’e есть прекрасный Hôtel, там тебе хорошо было бы тоже. Близко от С.
[На полях: ] Ну, целую тебя, благословляю, молюсь с _т_о_б_о_й_ и за тебя. Будь здоров, тих, покоен – это уже половина дела! Обнимаю тебя, глажу нежно, осторожно. Хочу, чтобы ты заснул. Оля твоя тоже тихая, ласковая, ручная, без колючек. Люблю. Оля
Не огорчай меня запретом посылать цветы. Ты мстишь мне за чулки?
Ванёк, на всякий случай (вдруг нежданно получишь визу, будешь здоров, поедешь) если бы не успел меня известить письмом, дам С. телефон. Позвони ему с вокзала, а если это было бы время его службы, то прямо поезжай к нему на De Welsh, 10. Извозчики стоят у вокзала. С. близко. По-французски говорят почти все. Но м. б. позволили бы в Париже тебе протелеграфировать С.?
17. IX.42 Прошу: назови мне какого-нибудь хорошего специалиста-уролога в Париже. Мне это _н_а_д_о, срочно. Пишу еще сегодня-завтра.
Если можно, Ванюша, пришли «Парижский вестник» с «Чертовым балаганом». Пришли, солнышко!
204
О. Л. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
18. IX.42[235]
Ах, Ванечка, какое скорбное твое письмо, и как все новую и новую скорбь я открываю в нем, читая его ежедневно. Я страдаю, мой милый Ванечка, я мучаюсь своим бессильем – разуверить тебя в твоем мраке! Мне горько, как ты при мне «одинок»… Что же сказать мне?! Ах, Ванечка, голубочек мой, родное сердечко… «Обуза»… Ваня, Ваня, за что казнишь ты меня?? Ванечек, как нестерпимо больно, что год этот только «обобрал» тебя! Боже мой, какая же мне это кара! За что? Ванечка, Какая я несчастная, какая-то проклятая, будто… прикоснусь к цветам – они увянут. Отчего же вместо радости тебе дала я горе?! Господи, помоги нам! Я так хочу благостности, тишины, любви и веры! Ванечка, отбрось все неверное и больное. Помни, что я всей душой моей, бессмертной и свободной открыта тебе, предана тебе навечно. И горестно нам может быть лишь оттого, что мы в разлуке, что мы не видимся, но не тО, что рисуешь себе ты. И тогда, мой Ваня, не будет этого томящего «о_д_и_н». Ты не один!.. Пойми это. И умоляю, Иван мой родной, не рань, не рви мое сердце этим «не хочу жить»… Понимаешь ли ты, чтО это мне? Ты знаешь, что твоя душа единая мне, ее я смутно искала, всю жизнь искала, я чудом нашла ее, и я живу ею, как путник в пустыне, прильнет жадными губами к источнику, так и я пью живую твою воду, ею только жива душа моя. Ты пишешь о годах и т. п., а не чувствуешь будто, что ты, _т_ы_ дал мне истинное веяние юности, дал мне любовь к жизни. Через тебя я научилась любить червячка-березовичка и с ним всю тварь земную.
Нет, Ванечек, не «доживаю», а «живу»!
Ивушка мой несравненный, молю тебя, _о_б_о_д_р_и_с_ь!
Ради любви моей! Я молю тебя… Нежно, ласково прошу тебя. Послушайся, Ванечка. Будь мой тихий, милый, ровный… отдохни! Все будет хорошо. _В_е_р_ь! Верь, Ванюша. И милость Господню не отринь ропотом. Как трудно нам в несчастье, в испытанье видеть Руку Всевышнего, но потом как часто видим мы Ее, благословляя Премудрость. Так у меня всю жизнь, и ни разу не случилось ничего абсурдного. И потому я и теперь, когда мне тяжело, молюсь, прося указать мне смысл и _э_т_о_г_о_ Промысла. Для чего-то все это нужно. Да, м. б. для сплошного страдания _з_д_е_с_ь, но ведь этим «здесь» ничто не исчерпывается. Но, обо мне – в сторону…
Ты, Ванёк, не ропщи, что «столько темного, скорбного» было в жизни… А сколько света?! И опять скажу тебе, как давно… но только не прикрыто: Ванечка, ты _б_ы_л_ счастлив, а подумай: есть такие, которые не знают даже, что такое счастье. Подумай… И все же я счастлива… Я тобой счастлива, мой светик. Я вся трепет к тебе, вся любовь и ласка. Ничто ни потускнело, не угасло, – все так же чудно, как и год тому назад. К твоему дню рожденья, – я чувствую так, будто это мой праздник, – я все устрою так, что будто у тебя в гостях буду. Я буду весела, нарядна, интересна… Я все время с тобой. Неужели ты не ощущаешь меня? Я _т_а_а_к_ дружна с тобой! Душой, сердцем, каждой думкой, каждой жилкой я с тобой дружна…
Не подумай, что я это слово употребляю случайно, или в обычном, холодноватом смысле, – нет, я разумею его в самом чудном смысле, в самом близком. Я дружна, согласованна с тобой так тесно и так прекрасно, что и не выразить. Это – любовь-дружба, это – выше любви, т. к. это и святое, возвышенное, это большее дружбы, т. к. это несгораемый светильник любви, не опаляющий, не дымящий, не сжигающий, но горящий вечно пламень. Я не могу выразить, но ты все это знаешь!
Ты вечный для меня, прекрасный, единственный… Ты знаешь это, Иван!.. Ты знаешь. Не мучай же себя! Мне кажется, что тебе больно мое участвование в окружающей меня жизни хутора… Мне кажется так. Но… Ваня… как это все неверно. Разве что-нибудь может встать между нами? Между тем великим, чему и имени-то нет?? Любовь моя к тебе, какая-то необычайная, сгладила для меня страх смерти даже. Я впервые теперь, однажды, подумала сердцем: какое счастье, что после смерти я буду с Ваней неразлучно. Я поймала себя на этой неожиданной мысли.
Но я хочу жить. И ты _х_о_ч_е_ш_ь_ жить! И мы должны быть здоровы и бодры. И будем! Поберегись для меня! Ну, неужели бы ты так стал мучить Ольгу Александровну (1-ую)? Ну, будь, хоть на денек, со мной как с ней… Прошу, Ванечка! Ты же жалел ее?! Пожалей меня! Побереги себя. Помолись… Господь так добр! Ванюша, у нас с тобой много дела… Мы должны быть сильны! И мы увидим все, чего так просит душа. Ванечка, у меня такое дивное к тебе чувство… мне так хочется все тебе сказать! Мне хочется приехать к тебе. Можно? Не трудно это для тебя? Или ты очень будешь волноваться? Я м. б. смогу устроить визу. Не знаю, но попытаюсь. Я не могу больше так оставаться в неизвестности о тебе. Мне ничего не надо: ни театров, ни Лувра, ни-чего, ни-чего… только ты, Ваня! Пойми же! Никогда не «наскучивает», только мучает о твоей болезни. Дурашка! Ну, как ты ко мне? Так же и я к тебе! Мне ничего не надо. Я дни и ночи ходила бы за тобой. Пойми, что все это внешнее, чему ты так часто моими устами придаешь вес – для меня в действительности не играет _н_и_к_а_к_о_й_ роли! Какой же ты меня себе рисуешь? Самой обычной барынькой?! Иногда твои рассуждения о, так называемом, моем «возможном разочаровании» – меня чрезвычайно удивляют и порой даже смешат. Брось! Я знаю, что то, что я люблю в тебе – неизменно, и что в нем я _н_и_к_о_г_д_а_ не разочаруюсь. А огни?? Ты их во мне испугался, принял за очень «зыбкую»? Да? Это _т_а_а_к_ второ-третье-десяти-степенно! Я не такая, Ванёк. Годами не бывало этих «огней». Как трудно объяснить себя другому, самой себе!.. М. б. поймешь все-таки? – Да, мне очень хочется писать. Но сейчас я в тревоге за тебя. Не могу. Суета повседневности? Изводит. А нисколько не полонит меня. Жизнь требует и «консервов» и т. п., но повторяю: никак не могут все эти «интересы» встать между нами, хотя бы только в смысле «случайности» моих писем. Дурашка! Я всегда и всюду думаю только о тебе! Постоянно! А ты? Жаль, что не могу достать фотографических пленок, а то бы снялась для тебя. Ну, мальчик мой глупый (только в своей мнительности глупка), успокойся. Ну, вот я вся с тобой, улягся, будь тих, будь нежен, а я посижу с тобой, поглажу тебя. Усни. Не будет болей. Не плачь, милушка… родной мой! Ах, ты и не плакал бы, если бы я могла быть у тебя, погладить, приласкать… Как нежно утешила бы я тебя, мое сердечко! Миленький, родной мой, близкий в дале-ке, мой Ванечка! Успокойся. Роднуша. Целую тебя нежно, как мама, как сестренка, как дочурка, как самое любящее и близкое тебе, родное сердце. Ванечка, ты еще и в боли душевной на меня за что-то… Иначе не запретил бы цветы… За что, Ванёк? Излей же все! Выскажись, не копи в себе. Ну, скажи все! Выплачь все! Я все пойму. Я все выслушаю. Ах, ты мой милый ребенок! Чудесное, прелестное дитя! Прости мне, что так к тебе обращаюсь, – но часто чувствую я тебя именно таким. Не только юным, но прямо по-ребячески юным. Тоник, Тоник! Ванечек, пойдем же вместе в церковь, ну, хоть в это воскресенье – твое рожденье! Пойдем… как тогда… помнишь? «Свете тихий»? А вдруг чудо? И я приехать смогла бы?? Назови мне какого-нибудь известного врача в Париже, – лучше уролога. Прошу, и срочно.
Ну, Ванечка, моя милая больная детка, птенчик мой, да хранит тебя Господь, будь здоров, – ангел мой, благословляю тебя, нежно глажу по головке. Закрываю поцелуем глазки и тихонько гашу лампу. А ты – спи! Спи хорошо, тихо, оздоровляюще. Ольгуна тоже идет в постельку. Уже очень поздно. Олюна
205
О. А. Бредиус-Субботина – И. С. Шмелеву
21. IX.42
Милый Ванюшенька!
Сейчас письмо твое от 15-го. Пишу тебе против своего решения пока не писать (объясню почему), – т. к. всю ночь думала о лечении тебя, а в твоем письме нашла вопросы касательно этого же, и вот скорее пишу, хотя собственно не должна м. б. писать, т. к. – больна. Не пугайся, не почкой: вчера вдруг стало мне нехорошо, пропал аппетит, до отвращения к еде, и я решила, что пойду постараюсь заснуть и все пройдет, – я плохо спала ночь. А все эти дни была у меня давящая тоска, объясняемая мной, впрочем, твоей болезнью. Но когда я легла, то не могла заснуть от холодных ног, – надела шерстяные чулки, – не помогло. Взяла грелку. Ноги уж горят, а мне все холодно. Когда хотела в 1/2 5-го встать к чаю, то показалось, что to.[236] Смеряла – 38,0°. Это для меня очень много. Нормально у меня 36,0°. За 1 час дошла почти до 39,0°. Безумный пот и все лезет ввысь! Я вся мокрая лежала. Всю ночь металась. Сунула было градусник, – за 3 минуты он нагрелся до 38,7°, испугалась, бросила. Почти не спала. О тебе думала. Сережу вчера просила отправить тебе письмо, и адрес он же писал, чтобы мне не касаться бумаги, – мало ли что, м. б. заражу еще чем?! Ты это письмо сожги! Слышишь! Потому и решила не писать, что заразы боюсь для тебя. Да… всю ночь думала о тебе и вспомнила еще одно: от кислотности с тошнотой м. б. хорошо тебе делать следующее – белок сырого яйца взбить и с водой (немного, ну 1/2 стакана) три раза в день, хоть, принимать. Это – органическая щелочь и не вызывает обратной реакции. Хороши против кислотности вообще всякие органические слизи. Но какие? Мы это слышали в клинике, но я не знаю что именно. М. б. овсяная слизь? Haferschleim[237]. Если есть геркулес у тебя, то кушай. Рисовый отвар? Крепит, кажется? Да и нет риса. У нас есть тут перловая крупа, но не крупой, а тоже давленная, вроде геркулеса. Хорошо. Ведь все эти бисмуты, магнезии, соды – все они глушат кислотность только на самое короткое время, на время их соприкосновения, что ли. Но зато после, через 1/4–1/2 часа наступает реакция, часто превышающая кислотность после «провокации» алкоголем или кофе. Это я сама, на опытах видела. Это – правда, Ваня. Хорошие врачи уже давно этого избегают. Попробуй белок, сырой, сбей его, чтобы лучше смешать с кипяченой холодной водой.
Знаешь, как человеческий организм сложен? – Я работала для одного профессора, нашедшего, что очень часто заболевания происходят от _н_е_п_р_и_я_т_и_я_ _о_р_г_а_н_и_з_м_о_м_ той или иной пищи. Например был один молодой человек, страдающий поносами, что-то до 15 раз в день. Ужас. Все ему давали – поможет на время, а потом опять. И вот мы пробовали: я исследовала его кровь (число белых кровяных шариков) до еды и после, причем давали каждый день новую пищу. Обычно, нормально, что после еды повышается количество «Leuco-cyten», a после той пищи, которую «душа не принимает» они понижаются. Мы установили, что у больного хорошо усваивается все, кроме белого хлеба и пива, но пиво даже лучше хлеба, и именно молочного белого хлеба… У другого, с язвой желудка, после кровоизлияния, когда сидел он только на молоке, были тоже какие-то страдания, не помню точно что, – оказалось, что он не переносил кипяченого молока, но прекрасно сырое. Одного больного с астмой мы исцелили, отняв у него белый хлеб с солью. У некоторых организм сам определяет, чувством отвращения от того или иного, но это редко. Чаще бывает, что больной не чувствует ничего, или даже (!) любит то, что вредно. Огромная интереснейшая проблема открылась еще только в зачатке в этом направлении. Меня это очень интересовало, но оборвалось с моим уходом из клиники. Работал ли кто после меня – не знаю. Профессор этот – специалист по совсем другой отрасли. Это было «между прочим», «пользуясь случаем наличием хорошей лаборатории». У меня иной день до 10 пациентов бывало таких. И, знаешь, проявления могут быть самые разные, от пузырей на коже, до астмы. Относительно Vagus и Sympaticus… ну, ты же знаешь. Я – «vagus betont», т. е. подчеркнута, выявлена, обозначена vagus’om, от betonen – подчеркивать. Betonung – ударение, но в смысле подчеркнутости, акцента. Большинство людей с «Habitue astenicus»[238] – vagus betont. Или – думаю, что от limphaticus. Ну, Ванечка, ты все сам знаешь. Относительно курения… Говорят, что сразу все отнять у курящей – тоже нельзя. Постепенно. 1–2 папиросы немного! Главное: покой. Тебя чтение надорвало. Погоди, не кушай ревень, очень уж он оскоминный. Думаю, что в нем много железа, не оно ли вредит. Петрушку и сельдерей не бери. Какая досада, что ничего тебе послать нельзя! Оливы-то м. б. и можно? Но не знаю. Ванюша, я не касаюсь твоих мест письма на близкие душе вопросы. Невозможно. Я бы хотела говорить, а не писать. В письме очень трудно. Относительно «голландских крестьян» ты очевидно многое не знаешь. Я это дело хорошо знаю, очень хорошо. У них нашим нечему учиться. Да и все это не так, как тебе представляется. Капитал? Какой капитал? Его же и дух простыл. Разве ты не знаешь? Ну, довольно. Отрывочно говорить не стоит. Я устала. Мне все же неможется. Утром сегодня было 36,0°, сейчас около 1 ч. дня, еще не меряла. Что-то непонятное, молниеносное. Я сразу ослабла. Ну, ничего не ела. А сегодня Рождество Богородицы, – мама хотела ехать в церковь, а я вот помеха.
И… осень, осень… Ванюша, ты сожги это письмо. А то я волноваться буду. Сегодня же приняла антигриппал. Мне чуть тошно стало после него. Но допринимаю, как сказано. Доволен?
Странно, что за несколько дней до болезни я уже сказала: «не заболеть бы… такая тоска». Я все время вздыхала, даже ночью. Но думала, что это по тебе.
Я писала тебе, что, если ты так извелся с желудком, то лучше не езди, Ванечек. И просила указать тебя мне какого-нибудь хорошего врача для меня в Париже. Ну, например, знакомого Елизаветы Семеновны? Только бы мне не расхвораться.
Я думаю, что этим вчерашним и ограничится. Во всяком случае страшного ничего, видимо, нет, иначе не упало бы сегодня до 36,0°. Сережа и Арнольд меня вчера «утешали» не тиф ли. Есть случаи тут. Но видимо не похоже. Но сожги же письмо! Не береги, – много их у тебя. Ванечка, попытайся, достань яиц, они могут долго пролежать, на холоде в сухости. Или в «Wasserglas»[239] (как по-русски?). М-me Будо верно их сможет тебе доставить? В имении-то таком шикарном куры есть? Поторопись, а то они отстанут нести уж. Если яйца переносишь, так это чудесно. Ну, Ванёк, я кончаю. Устала все-таки. Молюсь за тебя и очень нежно с тобой в мыслях. Почти что вижу тебя и твои комнатки, почти что у тебя. Ну, Господь с тобой! Будь же здоров! Попробуй с белком. Белладонна – хорошо. Она «подсушивает» язву. При вздутиях обязательно ставь компресс. Послушайся же! Очень помогает.
Сперва теплую мокрую тряпку, на нее клеенку, на клеенку шерстяное что-нибудь. Увидишь. Или просто шерстяным, сухим, обвяжи живот. Грелка слишком резка, а это лучше. И… режим…
[На полях: ] Напомни, чтобы я тебе написала о том, что С. сказала ясновидящая521, о папе. Это – потрясающе!! Исключительно. Она угадала всю суть нашей жизни! И обо мне сказала, правда, мало.
Ну, целую тебя и крещу. Оля
Не пойму, что это за припадок какой болезни. Неужели отзвуки мук о тебе? Я все это время очень, чрезмерно тосковала.
22. IX Я встала. Не волнуйся. Хорошо ем опять. Хочу писать. За болезнь целый новый рассказ родился, вернее откристаллизовался. Попробую. Но это совсем иной. Из иной жизни. Но необходимый _н_а_ш_е_м_у. Его жадно проглотят, даже если и не очень талантливо напишу.
22. IX Битва на Куликовом поле! Да?
206
И. С. Шмелев – О. А. Бредиус-Субботиной
9/22.IX.42 5 ч. 30 вечера
Дорогая Ольгуночка, вчера от тебя – чудесные розы, ярко-живые, ярко-алые… – ослепили меня! Ночью проснулся – в тревоге! – остались в комнате, тут, в большой, рядом с моим «заломом», где сплю. Было должно быть 4 ч. ночи. Встал, вынес в ванную, налил воды в ванну, обрызгал, открыл окно. Они дышали, яркие, _т_в_о_и, Ольгуночкины розы! Я поцеловал их – тебя, сердце твое, поцеловал, та-а-ак прильнул к нему!.. – И – слезы!.. – тебя все нет… когда же увидимся?.. Увидимся ли..? Господь знает. В цветах – душа твоя пришла ко мне, моя голубка, моя тихая, нежная гуленька… Олюночка, Оля моя..! И словом неопределимо – _к_т_о_ ты для меня… – ты все вместила – для меня в себе… _в_с_е, _в_с_е… – и это все – еще не _В_С_Е… ты в себе хранишь будущие мечты, возможности, то, чего не умею назвать… – источник жизни моей – ты, Оля, Олюночка…
Ах, как красиво-ярки они, твои розы! Их – 14 розочек. Вчера были бутоны, сегодня _к_-_а_-_а_к_ раскрываются! О, милая, ты в них пришла ко мне. Целую, пальчики целую, реснички – все, все – целую… Смотрю в глаза – целую… Оля, дорогое мое, солнце мое… – и светишь, и греешь мне, и чудесно озарен тобой – до!.. _н_е_м_о_г_о_ счастья! Благодарю, за все, что ты дала мне – чувством, мыслью, словом, движеньем сердца, – всею тобою!
А сегодня твое письмо! – от 16–17.IX. Дивное. Светлое. Все – нежность, забота, ласка. Песня тихая, баюкающая. Плачу от ласки, – так ослабли нервы. Эти дни 18–19 опять то же – тошноты, (в ночь на 19-ое – непроизвольно – одна кислая жидкость). 20 по сегодня – лучше. Вчера ночью (на 22-ое) захотел есть. Совсем бросил курить с 20-го. Серов совсем отупел, говорит: «Вы меня с толку сбили». Сделаю ему замечание, что не отвечает тебе. Знаменитого уролога не знаю, у-знаю. Если это в связи со моим состоянием… я никогда не имел дел с ними. Серов, должно быть знает. Проверю. Лечусь я пока так: утром принимаю caolin +1 ложка твоего Bisma-Rex. И перед первой едой 15–20 капель успокоительная смесь: valériane, belladonne, codéine, menthol, еще что-то. (Эти капли 3 р. в день) вечером перед сном, но 3–4 ч. спустя после вечерней пищи – опять caolin. Сегодня еще не было болей, с ночи. И тошнотность меньше, почти нет. Серов определил так: «Вы себя измотали „переживаниями“. Сильная нервная растрата. В частности, затронутое давно у Вас, (ulcère duodeni) сказывается, внутренности, ввиду подавленности (или возбудимости) нервных центров, не управляются, а предоставлены влияниям – подавленности и возбудимости. Но если настаиваете на concilium с французским врачом – охотно, пусть Rentgen, пусть и анализы»… Ждем, когда Mr. Antoine приедет из Fontainebleau (имение там его). Я могу, детка, ходить завтракать к Елизавете Семеновне, но не хочу, – очень я дичаю, когда болею, – раз, и – боюсь нарушить диету. Очень я исхудал, но это – мое свойство, быстро терять – и – кажется – быстро набирать. Ем в пол-аппетита. Ну, м. б. все обойдется. Вот тошнотность с чего – не понимаю? Помню был перерыв в 24 дня, с 27 июля (когда вернулся из имения), и хорошо чувствовал себя, а потом пошли, с промежутками, боли и проч… Ну, скучно. У меня, конечно, всякие мысли… ты понимаешь, – и это меня _в_с_е_г_д_а_ давит. В 34 году были тошноты и vomissements…[240] – около 10 дней. Ныне я применяю почти то же лечение (по совету в 34 г. – professeur Brûlé).
Олюночка, ласточка, светик мой, единственная, _в_е_ч_н_а_я_ моя… – как я счастлив твоим письмом сегодня! Оно излечит меня, оно осветило меня! Девочка родная, сколько силы в тебе, этой чудесной силы любящей души, женщины! Святой, чистой, – недостижимой! О, чистота святая! Тебе кланяюсь земно, Святая моя! Родная из родных. Золотое, блистающее сияньем любви сердце – живой, бьющийся родник Жизни! Оля, люблю чисто, нежно, кротко, покорно… безоглядно, _в_е_ч_н_о. Ты не думай, я за столом пишу, не лежа. А не на машинке – так захотел, _б_л_и_ж_е_ дать себя тебе – почувствовать, твоего Ваню, Ванюрку, То-ника… Ничего, Олёк, Бог даст – все будет хорошо. Серов говорит: «Смотрю на Ваши глаза… – ни-чего: глаз _б_о_д_р_ы_й_. Значит – будете здоровы».
7-ой час! Спешу отнести на почту. Олюночка, день моего рождения – 21 сент. ст. ст. – розы твои осветили мне и мое Рождество, и праздник Рождества Богородицы. О, как целую тебя! Все, что пишешь постараюсь сделать. Оля… О-ля! Если бы я не смог приехать… ты, ты, ты… смоги! Не смею думать, если это выше сил твоих… ты должна беречь себя, Ольгуноч-ка… – не смею думать… это выше моих надежд… но можешь ли ты сомневаться? Гляди мое сердце!!! Но я боюсь за тебя, за твою жизнь… О-ля!!! Пусть никогда не свидимся, лишь бы ты была, жила, говорила, была здоровенька. Ваня весь твой, с тобой, в _к_н_и_г_а_х, в твоем сердце. И ты _в_с_я_ – во мне. Господи, дай мне увидеть Олю!








