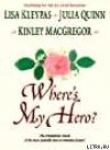Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 52 страниц)
Удивительное предсказание из чрева
Проклятие Бельфлёров – утверждали порой – связано с их азартом.
Истинный Бельфлёр, как замечали (впрочем, не всегда справедливо) некоторые злопыхатели, не в силах удержаться от пари, причем невзирая на обстоятельства и возможные последствия.
К примеру, однажды, ранним утром, после торжества в честь свадьбы Рауля, мужчины устроили соревнования по гребле на каноэ в южной части Лейк-Нуар, через Старый пруд и все Серебряное озеро. Протяженность ночной гонки составила более сорока миль, их ждали три сложных перехода, свыше шести миль по бурному течению, да еще условие вернуться тем же путем до рассвета. Гребцам победившего каноэ предстояло разделить между собой тысячу долларов и все шампанское, имевшееся в замке. И они вышли на воду – Ноэль Бельфлёр и Итан Бернсайд, Юэн Бельфлёр и Клод Фёр, Гидеон Бельфлёр и Николас Фёр, Гарри Рено и Флойд Дженсен. Была середина июля, однако по воде полз пробирающий до костей холодный туман. Стремнин и кувшинок в Старом пруду оказалось куда больше, чем все предполагали. А течение, соединяющее пруд с Серебряным озером, было таким стремительным, что два каноэ – Юэна и Гарри – перевернулись.
Итак, они вышли на воду, без ведома женщин. Сквозь туман, вдоль почти непроходимых тропинок, заросших калиной, поворачивая каноэ так, что те едва не сталкивались, подшучивая друг над дружкой с хмельным добродушием. А если по возвращении у мужчин и болели руки-ноги, если и подламывались колени и сами они едва не падали от усталости (победили Юэн и Клод, опередив остальных на четверть мили, следующим пришло каноэ Ноэля, затем – Гидеона, а последними – Гарри и Флойда), то, разумеется, никто из них в этом не признавался. Они бахвалились еще много лет, вспоминая безрассудную ночную регату, хотя о бедном Рауле старались не упоминать. Воспоминания о регате превратились в семейную историю об «одной летней ночи, когда Юэн и Клод, обогнав остальных, прошли на каноэ до Серебряного озера и обратно».
В другой раз, тоже давно, мужчины, разбившись на две партии, отправились к двум отдаленным прудам у Маунт-Чаттарой, где паслись огромные стада оленей (совсем ручных, как овцы, так что на каноэ можно было подойти почти вплотную даже к самой пугливой самке), и ровно в полдень 31 июля (капитаны обеих партий заранее сверили часы, чтобы никому не вздумалось «ускорить» наступление полудня) начали охоту. Участники отвели себе лишь полчаса: много оленины им не требовалось, да и тяжело было бы тащить из такой дали и лодки, и корзины с дичью. Победителем считалась партия, участники которой настреляют больше оленей – им и доставался порядочный денежный куш. (Если в вылазке принимали участие охотники из состоятельных семейств – друзья Рафаэля или, позже, Ноэля – Бельфлёры, естественно, повышали ставки; если же это были в основном местные землевладельцы, Бельфлёрам приходилось из великодушия усмирять свои аппетиты. Как-то раз много лет назад, когда дед Гидеона Иеремия был семнадцатилетним юношей, победителям досталось десять тысяч долларов – их разделили между собой шестеро, в числе которых был и Рафаэль, придумавший это развлечение, хотя, как говорили, ни к оленям, ни к охоте, ни к спорту как таковому он интереса не питал… Количество подстреленных оленей тоже бывало разным: по одним свидетельствам, их было восемнадцать, в других утверждалось, что сорок. Но поскольку никто не позаботился привезти головы животных, установить число с точностью не получилось.)
А когда самому Гидеону было пятнадцать, им с Николасом, Юэном и Раулем разрешили вместе с отцами поехать в Кинкардайн на скачки, а после скачек повели в таверну. Там старшие Бельфлёры побились об заклад с трактирщиком и несколькими завсегдатаями, что определят как марку каждого напитка (их будут подавать в одинаковых стаканах), так и его градус. Они убедили поучаствовать нескольких местных – задача была определить сорт, выдержку и даже (в этом особенно преуспел усердно практиковавшийся Ноэль) место происхождения. Ноэль Бельфлёр, сначала понюхав первый из поданных ему стаканов, отхлебнул из него, спокойно поставил на стойку и объявил:
– Сорок пять градусов. Шестьдесят пять с половиной процентов ржаного виски пятилетней выдержки, двадцать пять процентов бурбона шестилетней выдержки, остальное – добрый солод, скорее всего, из округа Хенникатт, штат Кентукки. Да, это Хенникатт – никаких сомнений, только там бочонки делают из сердцевины клена, – тут, разумеется, остальные мужчины пожалели о своем согласии, но было поздно.
А бывали случаи, и нередко, когда во время игры в покер, длящейся всю ночь, своих обладателей меняли существенные суммы. В замке Бельфлёров; в «Серных источниках» – гостинице, ставшей на какое-то время самой популярной водолечебницей в горах, куда плантаторы с юга приезжали целыми семьями; на беспорядочно разросшемся деревянном постоялом дворе «Иннисфейл-лодж», пока тот не сгорел дотла («Разумеется, он был застрахован на порядочную сумму», – простодушно рассуждали местные, впрочем, ни в чем не виня владельцев – Бельфлёров); в домах и на привалах. Покер, бильярд, гонки по льду на буерах, полеты на планерах (правда, им скоро положили конец, после несчастного случая, унесшего жизни двух молодых людей, в том числе, троюродного брата Ноэля). Деньги стремительно переходили из рук в руки. А порой и лошади, реже земля. Если женщины и знали об этих затеях (а они это отрицали – причем некоторые, например Корнелия и Делла, особенно рьяно), то почти не высказывались. Ибо что они могли поделать?.. Бельфлёры были богаты и азартны, они прославились среди местных своим безрассудством, обходительностью и умением проигрывать (что случалось с завидной редкостью, потому что им поразительно везло) – так как же остановить эти игрища?.. В конце концов, они тратили собственное состояние.
Разумеется, скачки проходили куда более публично. Из ставок тоже не делалось секрета. Бельфлёры скакали на своих лошадях и знали почти каждого, кто имел отношение к скачкам. Их проводили на ярмарочной площади в Похатасси, или на ипподроме в Дерби – в другом конце штата, в Порт-Орискани, где условия были самыми жесткими, и это становилось настоящим событием местного масштаба; если бы владелец лошади отказался делать ставки, поступок этот сочли бы в высшей степени экстравагантным. Женщины семьи Бельфлёров, разумеется, это занятие не одобряли, но и не слишком возмущались. Порой и они позволяли себе увлечься: ставки на лошадей – не пустое развлечение, не то что эти пари: кому удастся пройтись по ломкому апрельскому льду Лейк-Нуар, или кто кого поборет в грязной прибрежной таверне, или собьет выстрелом стакан с головы дурачка-полового. Ставки на скачках символизировали гордость владельца своей лошадью и своим искусством наездника. Гордость своим родом и своим именем.
Гидеона потрясло предложение жены.
– Но почему сейчас? – спросил он.
Лея задумчиво, прикрыв глаза, смотрела на него. Она сидела в квадрате солнечного света, неподалеку от солнечных часов в самом центре сада. Ослепительная красота покинула ее – стояла середина июля, и ребенок был уже на подходе, – от усталости вокруг глаз залегли темные тени, кожа утратила свое волшебное сияние, и она больше была не в состоянии с прежней грациозностью носить в утробе столь крупного ребенка. Гарнет Хект как раз помогала ей соорудить сложную прическу, подобную той, которую Лея носила в невестах – она позаимствовала ее у Вайолет, жены Рафаэля Бельфлёра, увидев любительский, но очаровательный портрет прекрасной англичанки: сзади волосы собраны в тяжелый, низко уложенный пучок, две широкие пряди стянуты бархатной лентой, концы которой свободно падают на спину, макушку оплетает тонкая косичка, а на высокий умный, чуть тронутый морщинками лоб падает густая волнистая челка. На плечи Лея накинула белую вязаную шаль, а платье на ней было из грубой материи-букле зеленовато-охряного цвета – прежде Гидеон его не видел. Из-за случившейся между ними несколько дней назад размолвки – Гидеону не понравилась резкость, с которой она ответила на, казалось бы, невинный вопрос его матери о здоровье Бромвела – он смотрел на жену, прищурившись, чуть присогнув ноги в коленях и самоуверенно упершись руками в бедра.
– Потому что… – медленно проговорила Лея, – потому что…
Ее потемневшие впалые глаза делали уставшее лицо немного похожим на маску смерти, но в последние недели беременности близнецами она выглядела почти так же, поэтому Гидеон приказал себе не тревожиться. Сейчас он упрямо стиснул зубы и всем своим видом демонстрировал непоколебимость. Во время ссоры он не сломался, не разразился слезами бессильной ярости, желая одновременно накинуться на жену с кулаками и прижать ее к сердцу – нет, уступать он не намерен. Ее сегодняшняя манера, медленный и вкрадчивый голос, нравились ему больше, чем ее обычный, тревожный и резкий, хотя он посчитал, что со стороны Леи было невероятно бестактным прислать испуганную бедняжку Гарнет (словно состоявшую из локтей, тощих ног и всклокоченных волос; стоило ей лишь взглянуть на Гидеона, как ее милое личико искажалось волнением, и Лея прямо в присутствии Гарнет глумливо заявляла, что девушка влюблена в него, как кошка), чтобы та отвела его в сад поговорить с Леей, точно она особа королевских кровей, а он – один из ее подданных. Лея сидела, откинувшись на подушку, на одной из сооруженных еще Рафаэлем гранитных скамей неподалеку от солнечных часов, заржавевших и бесполезных (в отсутствие тени они теряли всякий смысл), положив обе руки на свой раздутый живот, который, казалось, непрестанно шевелится; сидела, неловко вытянув опухшие ноги, обутые в вышитые тапочки, собственноручно сшитые для нее Корнелией. Она сидела обездвиженная, величественная, огромная, и смотрела на мужа, чуть запрокинув голову, чтобы солнце не било в глаза. Выглядело это так, словно она смотрела на него издалека. Месячный котенок в черно-белую полоску, больше похожий на пушистый мячик, с большими ушами и задранным кверху хвостом, играл каймой ее юбки и уже порвал ткань, но Лея этого не замечала.
Гидеон ждал. Колени у него дрожали, слабо, едва заметно. Несколько дней назад с ним едва не случился срыв, он так хотел прижаться к ней, рыдая, требуя – требуя, чтобы она вернулась к нему такой, какой была прежде – его неистовой непорочной невестой, чья душа, как и податливое, упругое, живое тело, сплеталось с ним, и он должен был покорять ее снова и снова, и она плакала от любви к нему, к нему… А сейчас… Сейчас же эта женщина так прекрасно, так высокомерно беременна – зачем же он ей? На что ей муж? Другие лишь отвлекают ее от непрестанных раздумий, от ее одержимости собственным телом, его импульсами и ощущениями. Несколько месяцев назад она, с озадаченным видом подбирая слова, призналась Гидеону, что сейчас настоящая реальность для нее воплотилась в сгустках чувств – вкусах, цветах, даже запахах, робких импульсах и предчувствиях. Она объясняла это тем, что ребенок у нее под сердцем спит и видит сны. («Наш сын, – говорила Лея, – наш сын видит сны, которые накрывают и меня подобно тому, как подводное течение в озере утягивает тебя вниз, даже когда поверхность воды кажется спокойной…»)
– Потому что, – сказала Лея, и кожа вокруг глаз у нее покрылась сеточкой морщин. – Я считаю это необходимым.
Она позвала его к себе, зная – не могла не знать, – что они с Хайрамом тем утром должны ехать в Нью-Йорк; позвала, чтобы посоветовать ему сделать несколько ставок от имени разных игроков на себя и своего жеребца на скачках, которые состоятся в Похатасси в следующее воскресенье.
– Необходимым?
– Я не могу объяснить.
Они уже много месяцев не занимались любовью. Гидеон вспоминал об этом с мрачной грустью, впрочем, мудрее всего было вообще не вспоминать. Она отлучила его от постели из-за излишней тревожности и мнительности (доктор Дженсен, напротив, заверил Гидеона, что секс, во всяком случае, осторожный, никоим образом не вредит ребенку в утробе, по крайней мере, до последнего месяца или двух. Однако разговор этот состоялся еще до того, как плод разросся до таких размеров). Даже будучи взрослым и уже отцом, Гидеон не мог определиться, каким образом мужчине следует вести себя с женщиной, не желающей заниматься с ним любовью и постоянно отвергающей его: он полагал, что женщина, даже женщина простая и скромная, обладает всеми преимуществами, обладает властью. Ни в чем эта власть заключается, ни как завладевает мужчиной, сказать он не мог, однако о ее зловещей силе знал наверняка.
– Прежде ты моими лошадьми не интересовалась, – сухо бросил Гидеон, – ты же прямо как твоя несносная мать – порицаешь всякого рода азартные игры. А сейчас ты словно даешь мне разрешение…
Лея взглянула на котенка, который принялся царапать ей лодыжку. С усилием, тихо кряхтя, она нагнулась и ухватила котенка за шкирку. Потеряв опору, крошечное существо начало отбиваться и мяукать. Гидеон посмотрел на котенка и перевел взгляд на жену, зачарованный видом ее рыжих, блестящих на солнце волос, сраженный чувством, которое не в силах был осмыслить. Он любил ее, он был беспомощен перед фактом своей любви к ней, однако это новое чувство, казалось, способно было поглотить даже любовь. Как и его предки по мужской линии, как добрую сотню лет назад сам Жан-Пьер, Гидеон сейчас смотрел в лицо столь откровенно чужое, столь далекое от всех его мечтаний, что смирился со своей судьбой.
– Ты не любишь меня, – прошептал он.
Лея не слышала его. Приподняв котенка дюймов на двенадцать над землей, она разжала пальцы, и котенок полетел на землю, приземлился и тотчас же перевернулся, показав свой белый животик, кругленький и пушистый. Котенок отчаянно махал лапами, но попадал лишь по воздуху, потому что руку Лея успела отдернуть.
– …еще до моего рождения, – говорила Лея. – Твоя ветвь семьи. И больше всего – твой отец. Даже не отрицай.
Она говорила о смерти собственного отца, настигшую его много лет назад под Рождество. Он погиб – это был несчастный случай, – съехав на санях с одного из предательских холмов к северу от Норочьего ручья. Гидеон нетерпеливо взмахнул рукой. Это происшествие они обсуждали множество раз и пришли к выводу – причем Гидеон его не навязывал, – что мать Леи всё выдумала: все сговорились против ее мужа, сани нарочно опрокинули – и вот Стентон Пим летит прямо на дерево и умирает на месте.
– …в ту ночь. Даже не отрицай. И выигрыш по ставкам разделили, – продолжала Лея. – Прямо на похоронах.
– Очень сомневаюсь, – ответил Гидеон. Лицо у него пылало.
– Спроси мою мать. Спроси свою собственную.
– Все это не имеет ко мне никакого отношения, – сказал Гидеон, – мне тогда было три или четыре года.
– В тот вечер на эти гонки поставили кучу денег, а может, не только на гонки, – не уступала Лея, – и выигрыш поделили на похоронах моего отца.
– Ты так уверенно говоришь, но ведь наверняка не знаешь, – нехотя проговорил Гидеон, – ты пересказываешь небылицы твоей матери…
– В вашей семье все мужчины были игроками, это у вас в крови, это ваша судьба. И поэтому… Поэтому вчера вечером я решила, что скачка в Похатасси может стать важной вехой для нас, для нашей жизни.
– Вон оно что! – воскликнул Гидеон, но насмешка в его голосе была едва заметна и Лея не уловила ее. – Вчера вечером ты решила?
– Который час? – Лея нахмурилась и повернулась к солнечным часам, но увидела лишь бледно-серую нечеткую тень. – Я часы не надела… Вы с Хайрамом сегодня уезжаете, так ведь?
– Почему ты вдруг вспомнила об этом, спустя только лет? – спросил Гидеон. Он стоял в нескольких ярдах от Леи – подходить ближе он не желал и намеренно держался на расстоянии. Он слишком хорошо представлял себе аромат ее блестящих рыжих волос и потаенную сладость ее тела. – Ты же вечно возражала, – пробормотал он, – когда мы только поженились, ты просила меня не участвовать в скачках… Боялась, что я покалечусь.
– Я говорила с Хайрамом, – сказала Лея, – тебе пора.
Гидеон не слышал. Он проговорил, по-прежнему тихо:
– Ты боялась, что я покалечусь.
Взгляд у Леи изменился. Секунду она помолчала. – О, но ведь ты не покалечился! За все эти годы…
И до того, как мы поженились… Гонки по льду, ныряние, плавание, ночные регаты на каноэ, рестлинг, бокс, все эти опасные занятия. Дурацкие занятия… То, к чему склонны юноши… Ты не покалечился, – чуть слышно сказала она, – и ничего подобного с тобой не случится.
– И я думал, вы с Деллой против ставок. Принципиально против. Разве это не грех и не мошенничество?
– В грех я не верю, – коротко бросила Лея.
– Я думал, ты ненавидишь непорядочность и обман.
– Я ненавижу вранье. Подлость, и зашоренность, и эгоизм. А игры – они не особо отличаются от обычных финансовых вложений – дядя Хайрам мне это объяснил. По-моему, раньше я до конца не понимала.
– А сейчас понимаешь.
– Я… я… я понимаю много чего, – медленно сказала она.
Полоса света ширилась и становилась ярче.
Гидеон искоса наблюдал за Леей. Что-то в ее словах тревожило его, но что именно, понять не получалось. Сам ее вид, ее вкрадчивый, но властный голос зачаровывали его.
– Много чего? – переспросил он.
– Его сны. Его планы на нас, – прошептала она.
– Что?..
Лея обхватила живот располневшими руками и качнулась вперед.
– Тебе пора, поезжай. Иначе на поезд опоздаешь, – сказала она, – иди, поцелуй меня на прощание, ты так давно не целовал меня…
Ее настроение переменилось за секунду. И Гидеон растаял. Он подошел к ней, опустился на колено, обхватил ее руками, хоть и грубовато, и прижался губами к ее губам, сперва робко, а затем жадно, чувствуя ее крепкие объятия. Ох, как чудесно было целовать ее! Просто целовать! Ее пухлые губы обжигали его, ее жалящий язык одурманивал, тяжесть ее тела, сильное кольцо рук – от всего этого он едва не потерял равновесие и не повалился ей на колени. Она могла втянуть его в себя, поглотить его, и он навечно сомкнул бы глаза, покоряясь блаженству.
«В конце концов, – думал Гидеон, – я же отец. Ведь это я – отец».
Лошади
Гнедой мерин без клички, неказистый и не блещущий статью, зато послушный и не норовистый, с короткой, тупой мордой, с белым носком на левой передней ноге – его выиграли в карты у английских офицеров меньше чем за три недели до январского мятежа при Голден-Хилл[9]9
Мятеж (битва) при Голден-Хилл – столкновение британских войск с вооруженными колонистами (Сыновьями свободы) в Нью-Йорке в 1770 году.
[Закрыть]– именно на нем восседал двадцатишестилетний Жан-Пьер Бельфлёр в своей черной бархатной треуголке и дорогих новеньких кожаных сапогах, когда впервые увидел ее, Сару Энн Четэм. Ей, отмеченной какой-то тревожной красотой, тогда было всего одиннадцать или двенадцать – с мелкими чертами лица, курносенькая и веснушчатая, со светло-золотистыми волосами и осанкой одновременно детской и царственной… Еще до того, как девочка засмеялась и указала на него (его лошадь, напуганная приближающимся дилижансом, встала на дыбы и жалобно заржала, а Жан-Пьер закричал на нее по-французски), до того, как обнажила в улыбке свои полудетские зубы и вырвалась от полной краснолицей англичанки (няньки? гувернантки? – для родственницы она была чересчур уродлива), даже до того, как Жан-Пьер, свалившийся в застывший бурый конский навоз, успел как следует разглядеть ее, он влюбился… Всю оставшуюся жизнь он будет вспоминать не только внезапный холод, навоз и всепоглощающую оторопь от постыдного падения, не только восторженный крик прекрасной отроковицы перед тем, как служанка утащила ее прочь (потому что девочка смотрела на Жан-Пьера так, словно эту выходку он нарочно совершил, чтобы повеселить ее – ее и никого больше), но и непривычную, необъяснимую радость – радость, порожденную полной уверенностью, чувством, что теперь судьба его предрешена, сама жизнь его предрешена, она лежит перед ним, пускай невидимая, но уже реальная и ждет его признания. Он влюбился. Растянувшийся посреди улицы, под градом насмешек и зубоскальства (все остальные тоже хохотали, а то, что он француз, лишь раззадоривало зевак), в разодранной щегольской одежде – он влюбился. Все то, что он мальчиком слышал и читал о Новом Свете – что здесь живут индейцы, чьи тела имеют классические пропорции, и даже зимой ходят обнаженные, что леса здесь изумительной красоты, а реки изобилуют лососем и форелью (чтобы поймать рыбу, достаточно опустить в воду сачок), что в горах обитают неведомые, невообразимые чудовища, некоторые ростом до пятнадцати футов, и время от времени совершают набеги на поселения, утаскивая даже взрослых мужчин, что земля в некоторых районах полна алмазов, и рубинов, и сапфиров, и огромных кусков нефрита, что тут такие богатые серебряные и золотые месторождения, каких нет больше нигде в мире, что за полгода можно сколотить состояние и ни о чем не жалеть – все эти чудеса меркли рядом с курносой избалованной девочкой, которой он в те времена даже не знал, младшей дочерью представителя нью-йоркского торгового дома, чиновника на королевской службе – не пройдет и года, как тот перевезет семью домой, в Англию, навсегда оставив Жан-Пьера безутешным.
(Разумеется, были и другие лошади. Без счету. Даже альбинос, почти такого же высокого класса, как впоследствии знаменитый Юпитер Гидеона, с такой же розоватой шерстью и белыми копытами, пятнадцать ладоней и два дюйма в холке, тридцать два дюйма от подпруги до земли – ослепительно белый жеребец, глядя на которого сложно было поверить своим глазам; даже пара андалузцев их в одну ненастную ночь уведет у Жан-Пьера собственный сын, негодяй Харлан. В период процветания, ставшего для Жан-Пьера залогом злополучного членства в вашингтонском Конгрессе, он взялся писать довольно сумбурные мемуары, посвященные лошадям. Назывались они «Искусство верховой езды», и хотя завершены не были, но печатались частями в маленькой газетке на севере штата, которой Жан-Пьер владел в начале 1800-х. Были и другие лошади, множество лошадей, как и женщин – их тоже было много, но со всем отчаянием любви Жан-Пьер будет вспоминать лишь безымянного гнедого мерина, свою первую лошадь в Новом Свете, первый из бесчисленных трофеев!)
Среди «благонравных» лошадей был и Перец, молодой вороной мерин, сбросивший Иедидию, а потом наступивший кричащему ребенку на ногу. После того случая мать Иедидии настаивала, чтобы мерина продали или отдали, однако Жан-Пьер отказывался. Лошадь не виновата, говорил он, что какой-то жалкий дурак в воняющей кровью одежде сунулся ей прямо под нос. И уж никак не виновата в том, что его сын не сообразил ухватиться за рожок седла. Потом, когда кости вправили и они срослись, но Иедидия по-прежнему хромал, отец нередко сердито спрашивал его, в чем дело. «Ты что, нарочно мне досадить хочешь? – спрашивал он. – Ты же можешь ходить, как все, – главное стараться». Наконец, когда Жан-Пьеру срочно понадобились деньги, а львиная доля имущества была повязана мудреными юридическими ограничениями, мерина продали. Однако в воображении Иедидии он по-прежнему существовал. В памяти у него на всю жизнь сохранился туманный, почти неуловимый образ: огромное животное, черное как ночь, зловеще-призрачное, ржет и встает на дыбы, а потом отступает назад, с необратимостью свершившегося факта обрушивая свой вес на обнаженное колено ребенка. В исступлении, вызванном уединением, Иедидия часто просыпался от видения, в котором к нему являлась лошадь – не Перец, и никакая другая отцовская лошадь, даже не какая-то абстрактная лошадь, а Сам Господь в лошадином обличии.
Была и уродливая норовистая зверюга смешанных кровей, как минимум, арабской и бельгийской – жеребец Луиса Бонапарт, которого позже стали называть Стариканом. Свое имя он получил не в честь императора-гигантомана, а в честь его старшего брата Жозефа. Путешествуя инкогнито под благозвучным именем графа де Сюрвилье, тот приобрел через нью-йоркскую компанию Жан-Пьера сто шестьдесят тысяч двести шестьдесят акров непригодной для жизни и сельского хозяйства территории, руководствуясь заблуждением, что земли эти, будучи частью Новой Франции, послужат приемлемым и даже счастливым приютом для самого поверженного императора, когда тот совершит побег с острова Святой. Елены. (Увы, на Святой Елене Наполеон находился под строгой охраной и возможности для побега так не возникло. А сто шестьдесят тысяч двести шестьдесят акров земли оказались ни на что не годны, несмотря на весь энтузиазм Жан-Пьера и его мечты о дорогах, железнодорожном сообщении и даже каналах.) Старший Бонапарт, как и жеребец Луиса, страдал косоглазием. Но в свои лучшие годы конь отличался изяществом и темпераментом, был выносливым, сообразительным, храбрым и таким же упрямым, как хозяин. Луис – возможно, противопоставляя себя отцу, – говорил, что в лошадях он не разбирается и прирожденным наездником его не назовешь. Он поднимал на смех преклонение перед чистопородными лошадьми. В какой-то газете он прочел, что в конечном счете, участвуя в скачках на протяжении многих лет, чистокровки не приносят своим владельцам ощутимой прибыли.
Именно на чалом жеребце Бонапарте скакал Луис апрельским вечером в 1822 году, преследуя шумную улюлюкающую ораву в поселении на южном берегу Лейк-Нуар (пройдет несколько лет, и оно станет называться Бельфлёр): праздных зевак, напуганного, нервно смеющегося мирового судью и самого обреченного индейского мальчишку (привязанный колючей проволокой к луке седла, он был вынужден бежать за лошадью, на которой сидел некто по имени Рейбин, старый торговец индейцами). Луис кричал в толпу, что они схватили невиновного, что парень должен предстать пред судом, что нужно вызвать шерифа и провести расследование – когда один из Варрелов, ровесник Луиса, похожий на него сложением, но с резко выступающими скулами и с прямыми черными волосами, потянулся, пьяно покачнувшись в седле, и ударил Бонапарта кулаком по шее. Он заорал Луису, чтобы тот убирался восвояси. Жеребец встревоженно заржал и отпрянул, вытаращив глаза, но на дыбы не встал, и Луис, удивленный, что у кого-то хватило храбрости полезть на него с кулаками, тем не менее не поддался эмоциям – он лишь осадил лошадь и не стал бросаться в драку, пока они с Варрелом оба в седле. Ведь он прежде всего хотел спасти жизнь пареньку…
На вышколенной, высоко держащей голову индейской лошади после многолетнего отсутствия въехал в городок Харлан Бельфлёр, чтобы отомстить за кровавую расправу над своими родными. Жители Нотога-Фоллз приметили необычную лошадь с выгнутой мускулистой шеей, густой серой гривой и танцующей поступью. Но особое внимание привлекал ее нарядный всадник в лимонно-желтых перчатках и мягкой черной шерстяной шляпе – люди перешептывались, мол, прежде они ничего подобного не видели, какой он весь «заграничный». (Лошадь действительно была перуанской, с лоснящейся палевой шерстью, широко посаженными глазами, большими и выразительными, маленькими ушами и почти нежной мордой. Сам же Харлан к тому времени больше походил на испанца, нежели на француза, и лишь когда он, свесившись с седла, вежливо спросил дорогу до Лейк-Нуар – а может, как говорили другие, он без обиняков поинтересовался, где найти Варрелов, – лишь тогда по чуть гнусавому выговору в нем узнавали уроженца здешних мест. Возможно даже, Бельфлёра. После его смерти кобыла, конфискованная местными властями, исчезла и объявилась через несколько месяцев в Теннесси, в конюшне скандально известного преподобного Харди М. Крайера, который вскоре занял должность «советника по земельным вопросам» при Эндрю Джексоне.)
Рафаэль Бельфлёр желал прослыть ценителем лошадей: и действительно, у него имелось несколько отличных чистокровных скакунов, и он глубокомысленно кивал, слушая рассуждения своих многочисленных друзей – лошадников, однако на самом деле он был едва ли способен отличить одну породу от другой, арабского скакуна от моргана, а американского рысака от першерона. Вся эта откровенная, грубая физиологичность парализовала его воображение. Он привык мыслить такими категориями, как доллары: тонны, умноженные на доллары и поделенные на расходы. Пока политика не довела Рафаэля до нервного расстройства и пока он еще сохранял интерес – чтобы не сказать болезненную привязанность – к своей великолепной усадьбе, часто видели, как он в своей элегантной английской двуколке разъезжает по усыпанным гравием дорожкам, всегда с иголочки одетый, несмотря на красноватую пыль, поднимающуюся причудливыми облаками, и безжалостное летнее солнце (в безветренные дни оно даже в горах способно превратить разреженный воздух в дрожащую дымку, раскаленную до 105 градусов[10]10
41°C
[Закрыть]). Его лошади были чистопородными английскими скакунами – недаром шла молва, что Рафаэль Бельфлёр презирал французов и заявлял, что не понимает ни слова на языке своего деда. Он даже отправился в Лондон и привез оттуда тщедушную узкогрудую девушку по имени Вайолет Одлин, а еще постарался обставить свой невиданный замок, по его представлению, в стиле жилищ британских аристократов. Его старший конюх похвалялся в городе, что один из жеребцов ведет родословную от самого Булл Рока – как известно всем лошадникам, это был первый чистопородный английский жеребец, привезенный в колонию Вирджиния в 1730 году; да и менее породистые лошади Рафаэля были весьма ценными. Но времени на посещение скачек или выставок у него не было, а все виды охоты его отталкивали, поэтому их выездкой занимались в основном простые конюхи, а после смерти Рафаэля, когда состояние Бельфлеров стремительно оскудело, а главой усадьбы сделался Плач Иеремии, лошади были распроданы одна за одной…
Первые годы в Америке, в качестве совсем еще юной госпожи – пока десять беременностей не подорвали ее здоровье и бедняжкой не овладела печально известная Бельфлёрова меланхолия, – Вайолет и сама нередко разъезжала на двуколке или в карете своего мужа, черной, с золотой инкрустацией. Управлял каретой чернокожий кучер в ливрее и красно-золотой феске – не раб, а освобожденный уроженец Берега Слоновой Кости; гибкий и даже с кнутом в руках не теряющий изящества, он управлялся с лошадьми, словно кудесник. Он возил жену Бельфлёра в гости к подругам – женам других господ, живших в Долине в замках «под старину» и наскоро отстроенных «родовых» поместьях (тогда, в пятидесятые-шестидесятые годы XIX века, ряд северных регионов был охвачен лихорадочным обогащением), и все встречные отмечали аристократическую красоту парных чистокровок, их холеную темно-гнедую шерсть, блестевшую от выписанных из-за границы масел, расчесанные гривы, порой даже заплетенные в косы, и восхищались бледной, неброской, но поразительной красотой женщины, сидящей в карете с геральдическими символами на дверце. «Это леди Вайолет», – бормотали наиболее преисполненные благоговения, вероятно, понимая, что Вайолет Одлин – всего лишь «миссис Рафаэль Бельфлёр», но не забывая о великих амбициях ее мужа – да, мужа, но не ее собственных. Потому что собственных амбиций у Вайолет, носившей украшенные цветами шляпы с огромными полями и вуалью, было не много. А в конце концов их не осталось вообще.