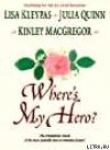Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 52 страниц)
Он обнял ее крепче за нежные плечи и приблизил губы к самому ее уху. Мягким, дрожащим голосом он начал говорить о смерти; о смерти и любви, о смерти, любви и любовниках; о том, как, освященные смертью, любовники соединяются, и тогда их поруганная любовь вознаграждается. Сердце Вероники билось так сильно, что она почти не воспринимала его слова. Ее наполнило ощущение его близости, все превосходящей близости; она ужасно боялась, что он поцелует ее так, как это происходило в ее снах, и надругается над ней, несмотря на ее отчаянные крики. «Вероника, драгоценная моя, – сказал он, взяв ее за подбородок и повернув лицом к свету, чтобы заглянуть ей прямо в глаза, – ты должна знать, что любовники, вместе принявшие смерть, преодолевают физические оковы человеческой природы… Тяжкие оковы человеческой природы… Ты должна знать, что чистая, духовная любовь побеждает грубую плоть… И пока я с тобой, пока я рядом, чтобы вести тебя, защищать тебя – тебе нечего опасаться… Тебе нечего страшится в этом мире, в другом ли… Я никогда не причиню тебе страданий, дорогая моя девочка, ты понимаешь меня? Ты доверяешь мне?..»
Ее веки налились тяжестью, ее одолевало изнеможение легкого, эротического свойства, очень напоминающее истому ее самых потаенных мечтаний. Голос Норста был нежным, ласкающим, ритмичным, как набегающие волны озера, омывающие, накрывающие ее с головой… Ах, она даже не возражала бы, реши он поцеловать ее!
Но он все говорил, говорил о любви. О влюбленных, которые «охотно» умирают друг ради друга.
– Я ради тебя, моя дорогая, чудесная девочка, а ты ради меня – если ты меня любишь, – и тогда нас ждет награда. Это так просто и в то же время так глубоко! Понимаешь? Ты понимаешь меня? Смерть твоего брата оскорбила тебя, потому это была смерть животного – жестокая, бессмысленная, случайная, в одиночестве, – а ты, с твоей чувствительностью, жаждешь смысла, красоты и превосходства духовности. Ты жаждешь искупления, и я тоже. Потому что, умерев в объятиях друг друга, мы будем вознаграждены… А все остальное – лишь неприкрашенная, немыслимая суета, от которой ты в полном праве в ужасе отвернуться. Ты понимаешь это, любовь моя? Ах, ты поймешь! Конечно, поймешь. Только, умоляю, верь в меня, дражайшая моя Вероника.
Не понимаю, еле слышно произнесла Вероника. И такая огромная усталость вдруг навалилась на нее, что она почти положила голову ему на плечо.
– И жизнь, и смерть, если они не украшены любовью, – продолжал Норст, почти задыхаясь, низким, возбужденным голосом – бесславны… Это лишь безумие… случайность. И неразличимы, если только не одухотворены любовью. Ибо обычные люди, как ты уже могла убедиться, – не более чем тля… или крысы… грубые, безмозглые существа… Они недостойны даже нашего презрения, ни капли. Конечно, порой они докучают нам… и тогда приходится брать их в расчет… Брать в расчет и принимать меры… Каким бы отвратительным это ни казалось. Понимаешь, дорогая моя? Да? Нет? Ты должна довериться мне, Вероника, потому что ты знаешь – знаешь, правда? – что я люблю тебя и что я поклялся, что буду обладать тобой… Давно, очень давно… В те времена, которых ты не можешь вспомнить, да и я могу припомнить лишь смутно… А что до обычных людей, моя дорогая, – они не стоят даже твоей мысли… Однажды ты научишься иметь с ними дело, как я, лишь по необходимости. Я поведу тебя, я буду охранять тебя, если только ты будешь верить… И ты не должна бояться смерти, ибо смерть любовников, погибших ради любви и возродившихся благодаря любви, не несет в себе вульгарности рядовой смерти; ты понимаешь?
Она понимала. И разумеется, она ничего не понимала. Но ее голова была такой тяжелой, что веки зудели от желания опуститься, о если бы он обнял ее, если бы прошептал слова, которые она столь жадно хотела услышать… Да, он признался ей в любви, это она услышала, услышала своими ушами. Но почему же, почему он не объявляет, что хочет жениться на ней; почему не говорит ничего о предстоящем разговоре с ее отцом…
Внезапно Норст отшатнулся от нее. Он был в страшном возбуждении и стал с силой тереть обеими руками глаза.
– Дорогая моя Вероника, – сказал он совсем другим голосом. – Я должен отвести тебя домой. О чем я думаю, ведь ты замерзнешь здесь, на холодном ветру!
Она широко раскрыла глаза от неожиданности.
– Я должен проводить тебя домой, бедная моя девочка, – проговорил он.
Той ночью Вероника чувствовала жар и, несмотря на прохладу, оставила стеклянные двери открытыми. И увидела сон – самый тревожный и при этом самый пленительный из всех, что посещали ее до сих пор.
Она была в забытьи, но не вполне. Спала, но в то же время прекрасно видела свою кровать, окружающие предметы и осознавала сам факт того, что она спит в постели, что ее густые длинные волосы рассыпаны по подушке, а на груди покоится кровавик. Я сплю, отчетливо думала она, словно ее душа парила над телом, как странно и как чудесно! – я лежу в кровати, и ко мне скоро придет мой любовник, и никто не узнает…
И тут же явился Норст. Видимо, он забрался через балкон – потому что через мгновение уже стоял у окна, на нем был, как всегда, сюртук, его белая сорочка будто светилась в темноте, а бородка и непокорные кудри по обе стороны лица виднелись отчетливо. Он молчал. Лицо его было бесстрастно. Он казался выше, чем был наяву: Вероника буквально заледенела, словно разучившись моргать, и осознала, что ростом он сейчас не меньше семи футов; какое-то время он просто стоял, молча, неподвижно, глядя на нее с выражением – чего? Бесконечной тоски? Бесконечной печали? Желания? Любви?
Рагнар, прошептала она. Дорогой мой. Суженый мой.
Она хотела раскрыть ему объятия, но не могла пошевелиться; лежала под одеялом, словно парализованная. Спала и в то же время мыслила совершенно ясно: она чувствовала свое учащенное сердцебиение – и его тоже.
Рагнар, прошептала она. Я люблю тебя так, как не любила еще ни одного мужчину.
Теперь он стоял у самой ее кровати, хотя вроде бы не сходил с места.
Он стоял у самой кровати, склонившись к Веронике, и она попыталась поднять к нему руки – о, как ей хотелось обвить руками его шею! Как ей хотелось притянуть его к себе! Но она не могла пошевелиться; ей удалось лишь резко втянуть воздух, когда он склонился, чтобы поцеловать ее. Она видела, как его темные, влажные глаза приближаются к ее лицу, видела его рот, приоткрытые губы и чувствовала его дыхание – горячее, прерывистое, с довольно сильным мясным душком, со сладковатым, немного гнилостным запахом, – и в ее воспаленном мозгу возник образ фермы: вот работники тащат убоину, туши свиней со связанными задними ногами, а из их распоротых глоток в огромные корыта хлещет кровь. Она вобрала в себя его дыхание, отдававшее чем-то иссохшим, стылым и старым, очень старым, и в своем забытьи начала смеяться, и каждая частичка ее тела извивалась от щекотки до сумасшествия, до чудеснейшего, самозабвенного сумасшествия, и ей не было противно ни его дыхание – нет, ничуть, – ни его возбуждение, нетерпение и страстность, когда его зубы прижимались к ее зубам в жарком поцелуе; ничуть не противно, и она хотела закричать, и наброситься на него с кулаками, она хотела визжать и в истерике кататься по кровати и сбросить с себя одеяло, которое давило так невыносимо – она вся горела, по телу струился пот, она чувствовала аромат собственного тела, жар своего тела – это было так стыдно и так сладостно, и ей захотелось фыркнуть и расхохотаться, захотелось схватить своего возлюбленного за волосы, да, за волосы, и лупить его, и прижать его голову к себе, его лицо к своей груди – вот так – да, именно так, она просто не могла выносить то, что он с ней делал – губами, языком, неожиданно острыми зубами, – она больше не могла, она сейчас закричит, она сойдет с ума, завизжит и исцарапает его ногтями – о, мой возлюбленный, мой суженый, закричит она, супруг мой, душа моя…
Шли дни, шли недели, а Вероника все глубже погружалась в состояние томной, сладкой меланхолии, и все полагали, что она впала «в мрачное настроение» из-за смерти Аарона, но со временем, даст Бог, поправится. Но Вероника лишь изредка думала о брате. Ее фантазии вились исключительно вокруг Рагнара Норста. Она хотела, чтобы бесконечный, утомительный день наконец закончился и настала ночь, когда к ней снова явится Рагнар Норст и заключит ее в страстные объятия, и сделает своей женой. Им больше не было нужды говорить о любви; то, что происходило между ними, было выше любви. В самом деле – банальное понимание любви, да и брака, теперь потеряли для Вероники всякую ценность. Надо же, было время, когда она мечтала, что Рагнар Норст попросит у отца ее руки! Когда она считала его обычным мужчиной, а себя – обычной женщиной! Впрочем, тогда она была еще невинной девочкой.
Странно, не правда ли, что граф так внезапно исчез. Очевидно, он уехал в Европу?.. А когда, он сказал, он вернется?..
Веронике не было до этого дела. Она знала, что люди шепчутся у нее за спиной, мол, наверное, девочка опечалена; их интересовало, произошло ли между ними «объяснение». Состоится ли свадьба? А может, случился скандал? Веронику нисколько не огорчало, что ее возлюбленный покинул страну: ведь в ее снах он присутствовал во всем своем великолепии, и больше ничего не имело значения.
В течение дня Вероника бесцельно бродила, погруженная в те самые запретные мысли, заново переживая те острые, жгучие, неизъяснимые наслаждения. Девушка мурлыкала себе под нос сбивчивые мелодии, вспоминая песенки, что пел ей Норст. Она быстро утомлялась и полюбила лежать в шезлонге, закутавшись с шаль, мечтательно глядя на озеро и на дорогу вдоль него. Иногда Норст приходили днем: вот она моргнула, а перед ней уже стоит он, всего в нескольких футах, стоит и смотрит на нее бесстыдным, откровенным, голодным взглядом, с тем вгоняющим в краску напряжением, которого она поначалу не понимала. Грациозно, томно она поднимала руку… но тут внезапно, с неуклюжим топотом в комнату вваливался какой-нибудь слуга-недоумок, и Норст испарялся. – Ненавижу, ненавижу вас! – порой восклицала Вероника. – Да оставьте вы меня в покое!
Ее состояние стало вызывать беспокойство. Она была такая вялая, такая бледная, на ее лице больше не появлялся румянец, оно стало словно восковое (но – краше, чем когда-либо, думала Вероника, признайте же это – благодаря любви Рагнара я стала краше всех); у нее почти пропал аппетит – она могла съесть разве что тост, запив его соком, иногда булочку; она витала в облаках, часто не слышала, когда с ней заговаривали, казалось, она спит с открытыми глазами и совершенно подавлена горем из-за гибели своего дорогого брата… Даже когда ее обследовал доктор и слушал ее сердце через свой дурацкий прибор, Вероника была погружена в мечты о своем любовнике (который приходил к ней прошлой ночью и обещал вернуться на следующую) и не могла ответить на его вопросы. Ей хотелось объяснить: душа ее погружается, медленно уходит в забытье, и она вовсе не несчастна и, уж конечно, не убита горем (по кому? По своему брутальному братцу, которого угораздило встретить столь отвратительную смерть?), все развивается, как должно, именно так, как велит уготованная ей судьба. Она не будет противиться, она не желает противиться; и не потерпит, чтобы кто-то мешал ей. Иногда среди бела дня она замечала в бледно-голубом небе тонкий полумесяц, почти невидимый, и это зрелище проникало ей в самое сердце, словно поцелуй любимого. У нее вдруг начинала кружиться голова, и она ложилась, запрокидывая голову, так что глаза закатывались и виднелись полоски белков…
Как она упивалась этой совершенно непреодолимой меланхолией – этим ощущением свободного падения по спирали, которая была одновременно и тропой, которой шла ее душа, и самой душой! Сам воздух стал тяжек, он все сильнее давил на нее; иногда ей становилось трудно дышать, и она затаивала дыхание, долго не впуская воздух в легкие. Она хотела объяснить сиделке, которая или находилась у изножья ее кровати или спала на кушетке снаружи, у самой двери, что она вовсе не несчастлива. Это остальные, возможно, огорчались, что она скоро покинет их, но они просто ревновали – недалекие люди, неспособные понять ее. Они не могли знать, к примеру, как сильно она любима; как высоко Норст ценит ее; и что он пообещал охранять ее.
Но бывало, что ей снились сумбурные, неприятные сны, в которых Норст отсутствовал; а если и появлялся, то образ его был настолько искаженным, что она не сразу узнавала его. (Однажды он предстал в виде гигантской желтоглазой совы с лохматыми кисточками на ушах; в другой раз – в виде чудовищно уродливого карлика с горбом между вздернутых плеч; а в третий – в виде высокой, грациозной, волнующе прекрасной девушки с миндалевидными глазами и загадочной, чувственной улыбкой – Вероника даже не смела глядеть на нее, настолько улыбка была всезнающей, бесстыжей.) Эти сны учащались, они безжалостно истязали ее, глумясь над ее мольбами о пощаде, о нежности, любви, об объятьях ее супруга. Однажды, проснувшись посреди ночи после одного из таких видений, Вероника заставила себя сесть в кровати; голова просто раскалывалась, и ее охватила паника: а вдруг она и впрямь серьезно больна, может, она умирает, нельзя ли что-то сделать и остановить спуск ее души по этой спирали?.. А как-то раз она услышала, как во сне стонет сиделка, во власти собственного кошмара.
А потом случились две вещи: сиделка (привлекательная женщина лет тридцати пяти родом из деревни и получившая образование в Фоллз) вдруг заболела тяжелой болезнью крови, а сама Вероника, и без того ослабленная и анемичная, простудилась – у нее начался бронхит, который за каких-нибудь пару дней перерос в воспаление легких. Ее положили в больницу, и там она впала в забытье, во время которого за ней ухаживали деятельные духи. И ухаживали превосходно: ей переливали здоровую, свежую кровь, кормили через трубочку, так что она не могла отказаться, и в результате – спасли. Собственно, о смерти речи не шло, ведь со всех сторон ее окружала умелая, профессиональная помощь; прошла неделя-другая, и Вероника не только полностью пришла в себя, но и ощутила приступ голода. Одна из замковых служанок помыла ей шампунем волосы, по-прежнему роскошные, густые; да, она оставалась красивой, несмотря на бледность и ввалившиеся глаза. Однажды она сказала: «Хочу есть! – капризно, по-детски. – Я хочу есть, я голодная, и мне надоело валяться в постели. Ни минуты здесь больше не останусь!»
Итак, ее спасли. Легкие были чистыми, приступы головокружения прекратились, румянец вернулся. Когда ее только доставили в больницу, доктора обнаружили у нее на верхней части левой груди, то ли царапину, то ли укус – он был свежий, но будто бы затянувшийся – наверняка проделка одной из домашних кошек, которую Вероника неосторожно прижала к себе. (Хотя в те времена у Бельфлёров не водилось такого количества кошек и котят, как в детстве Джермейн, но все же их было не меньше шести, а может, с десяток, и любая из них могла нанести девушке эту маленькую ранку.) Сама Вероника ничего такого не помнила: она принадлежала к поколению женщин, которые редко и лишь вынужденно смотрели на свое обнаженное тело, поэтому для нее было полным сюрпризом известие о том, что на ее левой груди есть какая-то царапина, причем слегка воспаленная. Безусловно, это дело второстепенное, заверили ее врачи, оно не имело никакой связи с серьезными расстройствами – анемией и воспалением легких.
Потом она случайно узнала, к своему изумлению и огорчению, что сиделка ее скончалась – бедную женщину сгубила сильнейшая анемия, буквально сожрав за несколько дней после того, как она покинула замок. Самое странное, что, по утверждению родных, та всегда отличалась отменным здоровьем, пока не пошла в услужение к Бельфлёрам; у нее никогда не было даже намека на анемию, говорили они.
Но Вероника-то не умерла.
Мучительные, беспорядочные сны прекратились. Та часть ее жизни осталась позади. В больничной палате ее никто не тревожил, сон ее был глубоким и спокойным, а просыпаясь по утрам, она просыпалась до конца, чувствовала себя отдохнувшей и полной сил и хотела сразу же вскочить на ноги. Вероника лучилась здоровьем. В своем роскошном кашемировом халате она разгуливала по больничному крылу в сопровождении служанки и, конечно, очаровала всех и вся: сияющая, словно ангел, с ниспадающими на плечи длинными медно-золотистыми волосами!.. Она была весела и проказлива, как ребенок, сыпала забавными шуточками, даже подумывала, не пойти ли ей в медсестры. Как она будет неотразима в белой накрахмаленной униформе… А потом, возможно, выйдет замуж за доктора. И вместе они будут жить и радоваться жизни.
Да, вот именно: она хотела жить и радоваться жизни.
Она светилась радостью и умоляла выписать ее из больницы, но родные все еще опасались за нее (в конце концов, ее сиделка все-таки умерла – хотя, судя по всему, обладала превосходным здоровьем), да и врачи рекомендовали оставить Веронику под наблюдением еще на несколько дней. Потому что ее случай вызывал у них большие вопросы.
– Но я хочу вернуться домой! – воскликнула Вероника, надув губки. – Мне наскучило безделье. Мне надоело быть каким-то инвалидом, и что люди смотрят на меня с сочувствием и жалостью…
Но однажды случилось нечто странное: она смотрела, как на поле, примыкающем к больничной территории, молодые парни играют в футбол, и, хотя ей хотелось испытывать восторг и аплодировать их силе, ловкости и упорству, ее внезапно охватило отчаяние. В них было столько энергии, столько грубости… Они были так полны жизни… Да – как тля или крысы… В них не было ни капли изящества, не было осмысленности, не было красоты. И Вероника в отвращении отвернулась.
Отвернулась и вдруг безудержно расплакалась. Что же она потеряла! Ведь что-то исчезло из ее жизни, когда ее «спасли» здесь, в этой больнице! Да, ее впалые щеки снова округлились, а мертвенно-бледная кожа порозовела, но отражение в зеркале ничуть не радовало Веронику: она видела, что стала неинтересной, банальной, честно говоря, просто вульгарной. Она сама стала неинтересной, и ее возлюбленный – если он вернется, если только кинет на нее взгляд – будет жестоко разочарован.
(Но этот возлюбленный: кто он? Она помнила его довольно смутно. Рагнар Норст. Но кто он, что он значит для нее? Куда он уехал? Ее сны прекратились, сам Рагнар Норст исчез, а с ним исчезло и нечто крайне важное; она смутно, но безошибочно чувствовала, что, несмотря на ее жизнерадостность и возвращение к нормальному состоянию, из нее была вынута сама душа. Врачи знали свое дело: вот как они «спасли» ее.)
И все же Вероника была благодарна, что осталась жива. А как радовалась ее семья, что она вернулась! Они были уверены, что Вероника погрузилась в эти опасно мрачные настроения вследствие смерти Аарона, и она не стала разуверять их.
Да, думала Вероника по десять раз на дню. Я благодарна, что жива.
А в один прекрасный день она ехала с водителем на чай к престарелой тетке и вдруг увидела, что навстречу им несется «лансия ламбда» – машина выскочила из-за поворота, величественно черная, царственная, излучая мягкую угрозу, подобная фантому из сна. Beроника немедленно постучала в стеклянную перегородку, велев водителю остановиться.
Норст тоже затормозил, припарковал машину и направился к ней. Он был весь в белом. Его волосы и бородка были все такого же темного оттенка, а вот улыбка далеко не такой уверенной, как ей помнилось. Это ее любовник? Ее супруг? Этот незнакомец?.. Он слышал, произнес граф с нервным смешком, о ее болезни. Очевидно, раз ее поместили в больницу, она была в опасности. И как только он вернулся из Швеции, то тут же примчался, чтобы увидеть ее; он снял номер в «Авернус-инн». Как же он счастлив видеть ее вот так, неожиданно, безо всякого предупреждения – и в полном здравии, красивую как никогда…
Он осекся и вдруг сильно сжал ее руку; перед его взором словно мелькнуло видение. Он содрогнулся, задышал часто, прерывисто, и девушка остро ощутила его почти парализующее желание и в этот миг поняла, что любит его, что не переставала любить его. Чтобы скрыть свое возбуждение, он игриво спустил на пару дюймов ее перчатку и поцеловал ее в запястье; но даже в этом жесте таилась страсть. Вероника вскрикнула и отдернула руку.
Они долго смотрели друг на друга, в молчании. Она видела, что он – тот самый мужчина, который приходил к ней во сне, и что он тоже прекрасно помнит ее ту. Но что они могли сказать друг другу? Он остановился в «Авернус-инн», всего в двенадцати милях от замка; естественно, им придется видеться. Возможно даже, они продолжат свои дневные встречи. Совершенно невинные, чтобы как-то занять себя в течение долгих, тягучих часов. Норст стал расспрашивать Веронику о родных, о ее здоровье; о том, как ей спится. Теперь ее сны спокойны? Просыпается ли она полностью отдохнувшей? И не могла бы она, только сегодня, надеть на ночь кровавик?.. И не закрывать окно? Только сегодня, сказал он.
Она рассмеялась, зарделась и, конечно, собиралась сказать «нет»; но отчего-то не сказала.
Она с изумленной улыбкой глядела на следы зубов на своем запястье, постепенно наливавшиеся кровью.