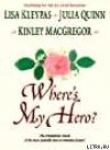Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 52 страниц)
Челюсти
Одна за другой были даны расписки о двухлетней отсрочке, под залог поместья. Шахты были выработаны; строительный лес, казавшийся неистощимым, был вырублен; и, хотя в хозяйствах Бельфлёров выращивали больше пшеницы, люцерны, соевых бобов, кукурузы и особенно фруктов, чем у всех их конкурентов в Долине, рынок был на спаде и продолжал падение по причине невиданного урожая по всему северу Америки. Поэтому Плач Иеремии, крещеный Феликсом (впрочем, давно, очень давно, в добрые времена), впал в отчаяние.
Несомненно, отец впал в отчаяние, рассуждали сыновья, иначе разве мог он согласиться на партнерство с Горацием Стедмэном, именно с ним – человеком, которому не доверяли сами Стедмэны?
– Он слишком честный человек, – медленно проговорил Ноэль.
– Да уж, честный. И поразительно некомпетентный! – сказал Хайрам.
– Ты не должен отзываться подобным образом об отце, так не подобает, – раздраженно ответил Ноэль. А помолчав, добавил с досадливым жестом: – Нам просто не везет.
В присутствии отца они говорили мало, потому что, хотя деликатная, даже застенчивая манера Иеремии, вкупе с заметным, хотя и побелевшим шрамом на лбу (единственная «метка чести», по его собственному странному выражению, что осталась у него с войны, на которой он сражался в юности и в которой полегло столько его ровесников) придавали ему страдальческий вид, но вел он себя со свойственной Бельфлёрам сдержанностью; свойственной, по крайней мере, отношениям между отцом и сыновьями. Это уже после скандала и бегства Стедмэна на Кубу Хайрам с Ноэлем обвиняли друг друга в потворстве старому чудаку.
Совсем юный Жан-Пьер, тщательно наносящий жидкость после бритья на свою белую, холеную кожу, не высказывался вообще. Позор отца нанес его чувствам такую рану, что, как в сердцах воскликнула Эльвира, у него не было никакого мнения. И он просто не мог действовать в здравом рассудке той ужасной ночью в Иннисфейле, что бы ни решили присяжные.
В ту ночь, когда бедного Иеремию унесло наводнение, его хитростью вынудили, вопреки желанию, выпить намного больше, чем он обычно себе позволял. И вот, по мере того как капли дождя тяжелели и начали отбивать стаккато по окнам, а дневное небо вдруг резко потемнело, он понял, что сидит и думает о черно-бурых лисицах, которых они выращивали со Стедманом – две тысячи триста особей, которых они растили в ликующем ожидании, совершенно уверенные в том, что через два-три года станут миллионерами. (Их убедил в этом заводчик, продавший им животных.) А потом… Потом случилось невероятное и ужасное: однажды ночью лисам каким-то образом удалось вырваться из своих мелкосетчатых вольеров, и они разорвали друг друга в клочья. Иеремия никогда, даже на войне, такого не видел. Никогда в жизни не видел ничего подобного! Выходит, эти создания каннибалы, ведь они сожрали, попытались сожрать даже собственное потомство!.. И вот перед ним – несколько акров, покрытых трупиками. Кровавые ошметки плоти, оголенные мышцы, вороны, скворцы и сорокопуты выклевывают у них глаза, не зрелище, а ад кромешный. Челюсти, пожирающие челюсти… А на следующий день он узнал, что Гораций забрал остаток денег (по уклончивой оценке Иеремии, не больше пятисот долларов) и сбежал на Кубу вместе со своей пятнадцатилетней любовницей-мулаткой, о которой знали все, кроме Иеремии!..
– Ты снова опозорился, но на этот раз ты унизил всех нас! – кричала его жена Эльвира.
Она колотила его своими маленькими кулачками, ее личико все сморщилось, и вдруг его поразила мысль, что, даже если она больше его не полюбит, он то все равно будет любить ее, потому что дал клятву любить ее на веки вечные. И ее отвращение не освобождало его от этой клятвы.
– Когда был жив твой отец, я не могла ни секунды находиться с ним в одной комнате, – рыдала она. – Он все время замышлял что-то ужасное, постоянно замышлял, но теперь, когда его место в семье занял ты и пустил все прахом – ах, как бы мне хотелось, чтобы он был здесь! Уж он-то сразу распознал бы в Стедмэне негодяя и ни за что не бросился бы в эту авантюру, разводить каннибалов!
– Но никто не знал, что они каннибалы, – робко возражал Иеремия, отступая под напором жены. – Ты же сама говорила, помнишь, как они прекрасны, мол, они обладают неземной…
– А теперь будет устроен аукцион, так? Публичная распродажа! Наших вещей! Прекрасной коллекции твоего отца! Дикая толпа будет топтать наши лужайки и газоны, оставлять грязь на наших коврах, и все будут смеяться над нами, и снова пойдут толки о проклятии…
Иеремия, пятясь, уперся в камин и старался ухватить жену за запястья; но, хотя она была женщина миниатюрная и запястья у нее были тонкие до трогательности, он не мог совладать с ней.
– Но, моя дорогая Эльвира, ведь нет никакого проклятия…
– Нет проклятия! Кто бы говорил, только не ты! Само упоминание о родовом проклятии – это профанация, богохульство.
– Но как еще объяснить все эти несчастья? – воскликнула Эльвира, отворачиваясь от него и пряча лицо в ладонях. – С самого начала…
– Но нас никто не проклинал, – сказал Иеремия с глупой улыбкой. – И вполне возможно видеть в истории нашей семьи проявление милостей Божьих.
Всхлипывая, Эльвира нетвердой походкой пошла прочь. Она рыдала так, что, казалось, выплачет все сердце; Иеремия никогда не забудет ее страданий в ту минуту. Ведь он прекрасно осознавал, что, безусловно, опозорил ее, опозорил память своего отца (чье присутствие наполняло замок в моменты невзгод и чья кожа, натянутая на этот мерзкий барабан, немного морщилась всякий раз, когда Иеремия проходил мимо, то ли в гневе, то ли просто в надежде, что сын дотронется до нее – кто знает; разумеется, Иеремия никогда не касался барабана и никогда не задерживался на лестничном пролете) – и, конечно, своих детей, невинных детей, чье наследство он пустил по ветру.
Катастрофическая неудача с лисицами; необходимость дать еще одну долговую расписку на два года (ради продления кредита в одном из крупнейших вандерполских банков); и неизбежный, ожидаемый уже на протяжении нескольких месяцев аукцион-распродажа ряда ценных предметов искусства. (По мнению оценщиков, эти картины, статуи и прочие объекты были настоящими сокровищами; жаль только, покупателям они пришлись не по вкусу и ушли с молотка, под беспощадным июльским солнцем, меньше чем за треть первоначальной цены.)
Вскоре после этого Плач Иеремии и выбежал из дому навстречу грозе, решив непременно спасти лошадей – тщетно Эльвира умоляла его остаться в доме, а Ноэль пытался удержать силой. Он так страстно хотел, так стремился… Это была почти физическая потребность – покинуть относительно безопасный отчий дом и ринуться в сердце ненастья; ему слышалось ржание лошадей, казалось, что он один способен спасти их от прибывающей воды. Иеремия, Иеремия! – звала Эльвира и какое-то время шла за ним по колено в грязи, пока он не скрылся, затерявшись во мраке. Он так страстно желал, так стремился исполнить свой долг…
Уносимый прочь потоком воды, который вышиб почву у него из-под ног, ударившись головой об обломок вырванного с корнем дерева, захваченный ужасной бурей (по ярости почти не уступавшей той, что разрушила планы Леи по празднованию столетнего юбилея прабабки Эльвиры), он на миг, прежде чем потерять сознание, вдруг осознал, кого так отчаянно хотел спасти из затопленной конюшни: конечно же своего пони Бербера – прелестную серую в яблоках лошадку с огромными блестящими глазами и длинным, густым, словно пряжа, хвостом, Бербера, товарища блаженных дней его детства, детства Феликса. И ему так хотелось ринуться в эту бурю, он так стремился отдаться ее власти, словно лишь такое вот яростное крещение, столь далекое от грубых призывов Бельфлёров и их «крови», могли избавить его от воспоминаний о лисьих трупиках, об их окровавленных челюстях. Я – не один из вас, вы же видите! – молил тонущий.
Убийство шерифа округа Нотога
В то последнее лето действительно казалось, что Джермейн утратила свою «силу» – очевидно, она никак не предвидела смерть своего двоюродного дяди Хайрама и, не считая приступов необъяснимой апатии, придававшей ее хорошенькому личику несколько угрюмое выражение, да двух-трех бессонных ночей накануне ее четырехлетия, казалось, она вовсе не чувствует приближения неминуемой катастрофы, а именно крушения замка Бельфлёров и гибели почти всех его обитателей.
Так, утром в день покушения на жизнь ее дяди Юэна девочка не выказывала никаких признаков тревоги. Напротив, она отлично выспалась и утром проснулась в прекрасном настроении. За завтраком на террасе Лея украдкой следила за дочкой, слушая, как та щебечет с одним из слуг про свой забавный глупенький сон или (по словам Джермейн) сон одного из котят – о котятах с крыльями, которые умеют летать, а если захотят, то плавают на лодке по озеру, и все там было в желтых лютиках, и кто-то раздавал кексы с клубничной глазурью, – и Лею вдруг поразила мысль: ведь Джермейн – самый что ни на есть обычный ребенок.
Умненькая, хорошенькая, подчас капризная, подверженная приступам упрямства, как все дети. Конечно, она была крупновата для своего возраста. Но, если честно, любой человек, не знавший ее, увидел бы в ней нормального ребенка – иными словами, самого обычного ребенка. Ее глаза, в которых, как казалось Лее еще недавно, сиял божественный свет, сейчас просто по-детски блестели. А ее бурное физическое развитие первых двух лет несколько замедлилось, и теперь она была лишь на дюйм-другой выше средней четырехлетки. Джермейн была поразительно смышленой, это правда: она сама каким-то образом научилась читать, решала простейшие примеры, а временами, если была в настроении, отвечала на вопросы взрослых с серьезным, «взрослым» видом. Но ее смышленость и сообразительность больше не казались Лее чем-то выдающимся. По сравнению с Бром-велом…
Словно прочитав ее мысли, девочка робко повернулась к матери. Умильный рассказ про котят, про полеты и маленькие кексы оборвался, служанка вернулась в дом, и какое-то время мать и дочь смотрели друг на друга, без слов, без улыбки, с некоторой опаской. У нее и правда очень красивые глаза, думала Лея: палево-болотного оттенка, не в Гидеона и не в меня, с густыми-прегустыми ресницами – и, как правило, сияющие от любопытства. Однако, отметила она с нахлынувшим смятением, в них нет ничего особенного.
Девочка в смущении опустила голову ниже, не сводя при этом взгляд с матери. Это была ее фирменная манера, которую Лея считала жеманной и трогательно-фальшивой, этакая псевдомольба: люби меня, не сердись на меня! – хотя девчонка прекрасно понимала, что никто и не собирается на нее сердиться (эта чепуха про сон и правда начала Лею раздражать) и что, конечно, все ее любят.
Разве Джермейн не знает, разве этот несносный ребенок не знает, как невозможно сильно ее любят?..
Видимо, что-то в лице Леи расстроило Джермейн, потому что она не сводила с матери глаз, все ниже и ниже наклоняя голову, а теперь еще и поднесла пальцы ко рту, чтобы пососать, хотя Лея строго-настрого запретила ей это делать.
– Джермейн, не надо, – прошептала она.
В саду, окруженном стеной, стояла полная тишина; ни пения птиц, ни шелеста листьев, даже в безмятежном дымчатом небе не было никакого движения, словно оно было просто гигантской перевернутой чашей с видневшимися тут и там тончайшими, с волос, трещинками. Мир словно остановился в то августовское утро, пока Лея и ее маленькая, странная дочка глядели друг на друга в молчании, становившимся все более натянутым.
Вдруг складочки между бровями Леи стали глубже – она, не думая, смахнула со стола на землю еще не раскрытую «Файненшиал таймс» и сказал, чуть не плача:
– Но что же я буду без тебя делать! Что мне делать, как дальше жить! Ведь я уже совсем близко… к завершению моего замысла – и ты не можешь, ты просто не можешь предать меня сейчас!
А через каких-то восемнадцать часов в спальне квартиры Розалинды Макс на двадцать четвертом этаже нового небоскреба – «Нотогской башни» – спящего Юэна поразили выстрелы анонимного убийцы, который всадил семь пуль в его беззащитное тело с расстояния не больше десяти футов. Пять из них пронзили ему грудь, одна прошла через правое плечо, а еще одна – скользнула по черепу. Когда Розалинда (которая по милости судьбы находилась в это время в ванной и, пока длилась стрельба, дрожала там в диком страхе) наконец вышла, то увидела, что ее брутальный любовник лежит распростертый поперек кровати, у самом изголовья, не двигаясь, весь залитый кровью.
Так же, как милый бессмысленный сон Джермейн никак не намекал на печальную участь ее бедного дяди, так и сон самого Юэна не был пророческим. Он, как всегда, спал глубоко, почти в оцепенении, с клокотанием вдыхая и выдыхая воздух; глядя на этого человека, забывшегося сном младенца, никому бы и в голову не пришло заподозрить, что его могут смущать сущие пустяки вроде сновидений, да и вообще какие-либо мысли. И это правда. Если Юэну и снились сны, он забывал их тотчас по пробуждении. Даже те, кто любил его, не мог бы причислить его к интеллектуалам, и тем не менее он питал почти патрицианское презрение к родственникам Бельфлёрам, подверженным предрассудкам. Не забивайте мне голову вашими деревенскими бреднями, говорил он, порой в шутку, а порой со злобой, в зависимости от настроения. Он ни в грош не ставил жену, чьи страхи – «я боюсь за твою жизнь» – с тех пор, как он стал шерифом, тяготили его (тяготила его и сама Лили; если бы она хотя бы ревновала к Розалинде, жаловался он Гидеону и своим друзьям, если бы выказала какое-то здоровое любопытство, негодование – он бы вовсе не возражал; но эта ее вытянутая скорбная физиономия, ее вздохи, и слезы, и идиотские «предчувствия» по поводу грозящей ему опасности раздражали его. Конечно, он любил ее – ведь браки у Бельфлёров на редкость крепки, – но чем больше она сокрушалась, тем больше времени он проводил вне дома; а когда возвращался, то часто впадал в ярость и, прижимая эту дурищу к стене, кричал прямо в ее растерянное лицо: Да как ты смеешь ставить под сомнение мою любовь?).
Юэн, крепко сбитый, с вечно румяными щеками, находился в самом расцвете сил, когда повстречал Розалинду Макс в ночном клубе в «Фоллз» и подошел познакомиться, хотя она была в компании его политического соперника – Юэн счел его недостойным внимания. Он вскоре бросил свою прежнюю пассию, и с тех пор их с Розалиндой видели в городе три-четыре раза в неделю – яркая пара, хотя нельзя сказать, что прямо-таки красивая, хотя, безусловно, Розалинда была хороша, на свой грубоватый, вызывающий манер (она тратила больше часа, нанося на свое полное, круглое лицо слой яркого макияжа, чтобы кожа ее казалась сияющий, а поры полностью исчезали, и укладывая свою крашеную рыжую шевелюру, стриженную каскадом – для придания цыганистого вида – в пышную, нарочито сложную прическу; губы у нее всегда были безупречно алые). Все в городе знали, что Юэн от нее без ума, но в то же время ревнует к каждому столбу, и что он сделал ей, за несколько месяцев их связи, ряд дорогостоящих подарков: невероятно эффектный синий «Ягуар-Е» с салоном, обитым кроличьим мехом, серебряной фурнитурой и встроенным телефоном; кольцо с изумрудами, по слухам, фамильную драгоценность (которое беспечная дамочка вскоре потеряла, катаясь с неким другом на лодке по реке); холодильник, набитый стейками из вырезки; соболиную шубу до пят и двадцатипятифутовую яхту с лилово-зелеными парусами, не говоря о всяких мелочах. Пентхаус в новом многоквартирном доме с видом на реку был, разумеется, записан на Юэна; но ведь и сам дом принадлежал его семье. Чем меньше он доверял ей, тем больше бросался деньгами.
– Конечно, я не люблю ее, – не раз уверял он Гидеона, когда братья все еще делились личными секретами. – Она же… – и Юэн произносил слово настолько непристойное и физиологическое, что Гидеон не мог решить, гнусно это или забавно. А еще Юэн часто повторял, что никогда не смог бы полюбить ее: она просто недостойна его имени.
Тем не менее он подарил ей эту квартиру с фантастическим видом на реку, на город и к востоку – на остров Маниту, заваливал ее дорогими подарками, как делает всякий потерявший голову любовник, и даже настоял – с какой целью, Розалинда так и не поняла, – чтобы они с ней позировали для парных портретов художнику, который уже писал, за нелепо огромные гонорары, местных членов Сената, мэра Нотога-Фоллз, миллионера – владельца ипподрома, нескольких светских львиц и жен бизнесменов и филантропов, которых Юэн считал серыми мышками по сравнению со своей огневолосой Розалиндой. Портреты были закончены к прошедшему Рождеству и в день убийства висели в гостиной квартиры: Розалинда вышла немного искусственной, чопорной, но вполне гламурной, а вот Юэн выглядел этаким коренастым, с квадратной челюстью, по-своему интересным мужчиной средних лет, с глазами, сощуренными то ли от смеха, то ли от замышляемой подлости, а жирный, пухлый подбородок врезался своими складками в воротник. Это было почти оскорбительно, и Розалинде пришлось умолять любовника не учинять над мастером расправы; однако если вглядываться в портрет, то его герой казался все более привлекательным, даже неотразимым. Но самое странное (это отмечали все, кто смотрел на картину внимательно), что художник, умышленно или нет (тот уверял, что нет), нарисовал вокруг головы Юэна тусклое, едва заметное свечение – так что казалось, будто у шерифа округа Нотога, далеко не святоши, имеется нимб. Это, конечно, безмерно веселило самого Юэна, Розалинду и их компанию, но и вызывало удивление. Потому что нимб был виден не сразу. Но опять же, если всматриваться долго, он неизменно появлялся.
В первый же вечер знакомства независимое поведение Розалинды потрясло Юэна: перед ним была женщина, которая не хотела замуж, даже за Бельфлёра! Она выступала как певица в разных ночных клубах города, время от времени подрабатывала фотомоделью, а еще занималась, по ее выражению, «театром». (С семнадцати лет до двадцати одного года, когда ее жизнь круто поменялась, загадочно бросала Розалинда, она выходила в ролях второго плана на сцену вандерполской оперы, где ставили комедии, мюзиклы, а иногда и мелодрамы; но, конечно, Юэн никогда ее там не видел. Однажды вечером, совершенно нагая, если не считать обмотанного вокруг талии пышного страусиного боа, Розалинда начала вышагивать по спальне, хлопая в ладоши и напевая своим хрипловатым, вульгарным, невыразимо прелестным голосом «Когда парни вернутся домой» – заключительный номер, сказала она, одного из самых успешных мюзиклов. Юэн глядел на нее, завороженный. Было ясно, что он влюблен по уши.
Но ревновал он безумно. Его вдруг начинало трясти от мысли, что она ему изменяет – изменяет прямо в эту минуту, и ничто не могло его вразумить: он бросался звонить ей или отправлял посыльного под каким-нибудь надуманным предлогом (чтобы вручить ей дюжину белых роз, или коробочку с шоколадным муссом, ее любимым десертом, из одного из самых шикарных ресторанов города – «Нотога-хаус»); однажды он приказал, чтобы полицейский вертолет вернулся обратно в город из поселка лесорубов в дикой лесной глуши, где проводилось утомительное расследование убийства, и приземлился, создав ужасный переполох, прямо на террасе пентхауса. (В тот день ему доложили, что квартиру Розалинды впопыхах покинул некий джентльмен в плаще, но, когда Юэн спросил об этом Розалинду, она вполне убедительно объяснила ему, что проснулась с ужасной зубной болью и вызвала по телефону своего дантиста для консультации.) В другой раз, на ипподроме, Юэн обнаружил, что его возлюбленная сделала ставки на лошадей-аутсайдеров – от двадцати пяти до сорока долларов, все незначительные, но сто к одному или восемьдесят пять к трем, – и все они выиграли; однако Розалинда объяснила, что она подслушала разговор своей парикмахерши с одной из клиенток и запомнила клички лошадей, кроме того, она везучая. У нее не было близких знакомых в этих кругах, а жокеи – они были противны ей физически. И Юэн, поразмыслив немного, поверил ей. Он так мучился ревностью, что вваливался к ней без предупреждения, будучи уверен, что любовники Розалинды прячутся по шкафам или в душевой кабине; он и впрямь находил в ванной розового мрамора следы явно неженского размера, а на шелковых наволочках – волосы, не принадлежавшие ни ей, ни ему, да его запасы эля, которые он держал во втором холодильнике, таяли довольно быстро; однако ему хватало ума не делать поспешных выводов, да и Розалинда умела поддразнить его и развеселить. «Ты целыми днями ловишь преступников, – говорила она. – Ясное дело, ты всех подозреваешь. Но ты не должен позволять работе искажать твой взгляд на человеческую природу, Юэн. В конце концов, мы живем один раз!»
Конечно, Юэн обожал ночную жизнь города и ему невероятно льстило появляться повсюду в сопровождении великолепной Розалинды Макс; но больше всего, как признавался он Гидеону, ему было по душе проводить время, и как можно дольше двенадцать, восемнадцать часов кряду, – закрывшись в пентхаусе со своей красоткой и с неиссякаемыми запасами крепкой выпивки, эля, соленого арахиса, замороженной пиццы и пончиков (глазированных, с пудрой, с корицей, с яблочной или вишневой начинкой, со взбитыми сливками) из самой популярной пекарни города «Сластена». Они с Розалиндой занимались любовью, и пили, и ели, и снова любили друг друга, и готовили себе горы еды из морозильника и холодильника, и пили, и ели пончики, потом немного дремали, просыпались, занимались любовью, наливали себе еще выпить, доедали остатки пончиков… Так проходили выходные; за это время они обычно поглощали больше двух дюжин сладких пончиков и невообразимое количество еды и напитков. «Не люблю я ее, она сучка, каких мало, – будто бы жаловался Юэн брату с кривой улыбкой, – но понимаешь, я не знаю лучшего способа проводить время…» Тебе очень повезло, коротко бросал Гидеон, и разговор затухал. (Братья годами жили врозь, а после аварии Гидеона и покупки Инвемирского аэропорта почти не разговаривали; они все реже находились в замке в одно и то же время, а если так случалось, то старались избегать общества друг друга.)
Было уже три часа ночи воскресенья, когда, после особенно длинного дня, посвященного любви, еде и возлияниям, Юэн погрузился в свой полулетаргический сон и оглушительно храпел (на самом деле, Розалинда могла сказать, что обязана его храпу жизнью: она никак не могла заснуть, поэтому решила принять ванну с пеной и лежала, погрузившись в дивную горячую воду, когда в квартиру вломился убийца и расстрелял бедного Юэна); после чего он так и не проснулся – точнее сказать, не проснулся прежний Юэн Бельфлёр, шериф округа Нотога.
Как быстро все произошло! Незнакомец ворвался в квартиру, сделал семь выстрелов из автоматического пистолета – и Юэн остался лежать плашмя на шелковой простыне и подушках, а Розадинда в ужасе затаилась в ванной. А потом все снова стихло.
Как быстро, как непостижимо… А когда стало ясно, что убийца ушел, Розалинда вышла из ванной, вся дрожа, зная, что она увидит в спальне – и все же закричала; это было кошмарное зрелище: ее бедный, беспомощный, голый любовник, любовник-покойник лежал, прошитый пулями, в крови была даже его макушка. Он был мертв – и однако пальцы его шевелились.
Он был мертв, он не мог выжить, ведь в него стреляли почти в упор; и всё же веки его подрагивали. Поэтому она кричала и кричала, без остановки.
Но, конечно, Юэн не умер; и благодаря мастерству нейрохирурга, но и не в последнюю очередь – выносливости своего организма, он восстановил силы в удивительно короткий срок, проведя в больнице всего пять недель, и две из них в отделении интенсивной терапии. А потом его перевезли в санаторий на остров Маниту, выбранный Бельфлёрами по причине его близости к замку, а также из-за безупречного профессионализма персонала.
Да, Юэн не умер, но и нельзя было сказать, что он остался жив; это был уже не тот Юэн Бельфлёр, которого все знали.
Он пришел в сознание приблизительно через сорок восемь часов после нападения, в палате интенсивной терапии; глаза у него бешено вращались, бескровные губы шевелились, он пытался схватить за руку дежурную медсестру, а его первые слова, хотя и еле внятные, были «кровь» и «крещение». Потом он снова впал в забытье и находился в полукоматозном состоянии еще двое суток, а когда пришел в себя уже окончательно, то Ноэль и Корнелия (единственные, кого пускали к нему в палату, – Лили была невменяема и безутешна) пришли к выводу, что этот Юэн ничем не напоминал их мальчика.
Сын их узнал, и казалось, он в полной мере осознает, что находится в палате, в больнице, что ему сделали сложную операцию на мозге, и детально помнил произошедшее с ним «несчастье». Только говорил он почти шепотом, в смиренной, даже покаянной манере; его родителей встревожило, что он ни словом не упомянул о покушении – конечно, он знал, что кто-то пытался его убить, но не выказывал ни гнева, ни досады и даже не пытался предположить, кто был его убийца. (Которого так и не нашли, хотя местная полиция провела масштабное расследование. Если бы только Розалинде удалось мельком увидеть злодея!.. Но, конечно, она не могла его видеть, никто во всем здании его не видел, даже привратник у входа; а оружие – самый заурядный «кольт» сорок пятого калибра, найденный недалеко от дома, в переулке, оказалось невозможно отследить.)
Так что Ноэль с Корнелией с самого начала заподозрили, что случилось нечто непоправимое; разумеется, они были рады, что их сын остался в живых: много ли людей, даже такого богатырского сложения, как Юэн, выжили бы, получив пять пуль в грудь (чудесным образом, все они прошли навылет, не задев жизненно важных органов), серьезное ранение в плечо и еще одну пулю в череп!.. Он потерял много крови и был доставлен в реанимацию в состоянии глубочайшего шока. Но Юэн, который пришел в себя, тот Юэн, который держал их за руки и утешал; который нежно (и виновато) говорил с женой и расплакался от счастья при виде Альберта и Виды, и был так обходителен с медсестрами – такого Юэна они никогда не знали.
Он говорил мягко, смиренно, заливался краской при упоминании обстоятельств своего «несчастья» (у него буквально не поворачивался язык говорить о Розалинде, о пентхаусе и своей «грешной жизни», кроме как вскользь); только однажды, находясь в санатории, когда ему уже разрешили много гулять по склонам с подстриженной травой в сопровождении одного-двух членов семьи, он завел разговор – и то нерешительно, словно оправдываясь, – о перенесенном испытании и необходимости вследствие этого изменить свою жизнь.
Разумеется, тихо говорил он, я оставлю свою должность. Да уже, собственно, оставил. Зная все, что он знает о жизни, о природе греха, о крещении кровью, о том, что Спаситель наблюдает за каждым нашим шагом, он не может продолжать свои житейские занятия; одна мысль об этом наполняет его стыдом. (Он носил при себе оружие! С обожанием глядел на винтовки, полуавтоматы, дробовики! Душа его теперь скорбела.) Поскольку у него нет тайн от них, да и ни от кого вообще, он хотел бы показать им письмо, которое написал своей бывшей любовнице, полностью разрывая с ней отношения и предлагая оставаться в квартире сколько ей будет угодно – хотя не мог удержаться, чтобы не попросить ее задуматься о саморазрушительной жизни, которую она ведет и которая однажды может привести ее в ад. Его родители и жена благоразумно отказались от права прочитать это письмо, и оно было отправлено заказной почтой на имя Розалинды Макс и осталось без ответа. (Но квартиру она, конечно, сохранила, как и машину и все остальные его подарки, в том числе, парные портреты.)
Время шло; Юэн поправился и окреп и начал высказываться все более открыто и с большим чувством, о своем «крещении». Очевидно, что он умер, или почти умер, и в самый миг смерти, когда он должен был вот-вот покинуть этот мир, перед ним явился Иисус Христос собственной персоной и строго воззвал к нему – потому что еще не пришло его время умирать; как он мог умереть, когда еще не выполнил свое земное предназначение! Пусть он падет на колени и примет крещение. Так сам Иисус крестил Юэна его собственной кровью. (Он коснулся ран на его груди и даже макнул палец в рану у самого сердца, ведь он должен был намочить руки для крещения.) Они находились вдвоем очень, очень долго; Юэн стоял на коленях, а Христос рядом, наставляя его, и говорил Он не столько о греховности его прошлой жизни – ибо Юэн и сам это осознал с тех пор, как пелена спала с его глаз и он прозрел, – сколько о жизни предстоящей, а будет она чрезвычайно трудной. Он встретит сопротивление, особенно со стороны тех, кого он любит; особенно – со стороны родных (ведь даже Лили, будучи «религиозной», верила не истинно) Но он должен набраться мужества, никогда не опускать руки и помнить обстоятельства своего крещения, помнить о Христовой любви; и, пусть весь мир смеется над ним, он должен исполнить свою судьбу и воплотить свое призвание на земле.
Они глядели на него, потеряв дар речи. Их лица одеревенели от горя. Ах, Юэн! Что же произошло с Юэном! Нашим Юэном…
Лили все плакала и снова потеряла над собой власть. В исступлении она почти выла, мол, эта шлюха убила ее мужа! Почему полиция не арестует ее и не бросит за решетку? Конечно, Розалинда Макс сама стреляла в него… Весь город это знает!
Ноэль, Корнелия, Лея и Хайрам не знали, что и думать. Юэн был в ясном сознании, и все же он тронулся рассудком; очевидно, что его мозг не поврежден – и тем не менее… Гидеон навестил его лишь однажды и вышел прочь весь дрожа – от горя или от гнева, не знал никто: Юэн схватил его за руку и стал умолять уверовать в Иисуса Христа как своего Спасителя и пойти вместе с ним, Юэном, в паломничество к Эбен-Эзеру, что на западной границе штата; он умолял брата отречься от мирской суеты и посвятить себя Господу, пока еще не поздно. Вскоре стало известно – никто не знал, каким образом это случилось, а персонал клиники Маниту не смог дать объяснений, – что Юэн познакомился с неким «братом Метцем», утверждавшим, что является прямым потомком немецкого святого Кристиана Метца, сто лет назад основавшего секту, известную в окрестностях как «Истинное наитие». Сутулый бородатый старик с орлиным профилем действительно приходил в клинику, и они с Юэном провели на веранде несколько часов кряду в оживленной беседе… Но откуда он взялся… и откуда узнал про Юэна – этому суждено было навсегда остаться загадкой.
Со слезами на глазах Юэн объявил своим родным, что никогда не вернется в фамильный замок.