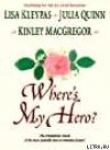Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 52 страниц)
Роковые мезальянсы
В дни, когда снег день за днем падал из небесного чрева, закручиваясь в спирали, а солнце робко показывалось лишь к полудню, и замок – весь мир теперь – находился в плену льда, что никогда не растает, – дети спали по двое-трое в одной кровати под ворохом теплых вещей, натянув до колен длинные толстые носки из ангоры; на протяжении дня им подавали какао с кусочками зефира, который, размягчаясь, прилипал к нёбу – восхитительное чувство; днем – забавы на санках, за которыми следовали долгие ленивые часы перед камином, когда читали вслух книжки. Что за проклятие лежит на нашей семье? – спрашивал кто-нибудь из детей, не впервые, и ответ – в зависимости от рассказчика – мог быть такой: да нет никакого проклятия, всё это глупости; или: природа проклятия такова (как и всех проклятий вообще?), что его носители неспособны говорить о нем. Вот так же, любил повторять дядя Хайрам, с грустным видом теребя себя за кончики усов (от них так сильно пахло воском!), животные несут на себе печать исключительной, порой уникальной красоты своей породы и пола, так никогда и не узнав о ней; они проживают всю жизнь, не видя себя со стороны.
Если дядя Хайрам был сумрачен и выражался туманно, то другие – например, бабушка Корнелия, или тетя Эвелин, или кузен Вёрнон, а иногда даже дедушка Ноэль (со своей сладко пахнущей бурбоном бородой и несчастной хворой ногой, которую он, с комфортом устроившись перед огромным камином из цельных булыжников в малой гостиной – одной из двух жарко натопленных комнат, – освобождал от обуви и массировал, придвигая опасно близко к огню) – были неожиданно многословны; казалось, их так и тянуло – возможно, под гипнозом языков пламени на березовых поленьях, с треском стремящихся вверх, к жутковатым запутанным историям, которые, пожалуй, не стоило рассказывать детям; и уж конечно не при свете дня. Но так происходило, только если других взрослых не было рядом. Смотри никому об этом не рассказывай, это тайна, ее выдавать нельзя! – так начинались самые интересные истории.
Причем все они, казалось, вертелись исключительно вокруг «роковых мезальянсов». (Это немного старомодное выражение любили старшие родственницы – вероятно, унаследовав его от своих матерей и бабушек. Но Иоланде оно ужасно нравилось. «Роковые мезальянсы!» – как думаешь, когда мы вырастем, шептала она Кристабель, ерзая на месте и хихикая, с нами тоже может такое приключиться?) И хотя большинство браков Бельфлёров были, безусловно, образцовыми, где супруги в высшей степени подходили друг другу и никто не посмел бы сомневаться во взаимности их чувств или в мудрости родителей, давших согласие на этот брак и во многих случаях устроивших его – всё же, всё же, время от времени, пусть и нечасто, имели место мезальянсы.
Не странно ли, говорили люди, что все истории о Бельфлёрах – так или иначе о неудавшейся любви? Хотя в большинстве случаев, прямо-таки в девяноста девяти из ста, их браки складываются просто идеально!
Ноэль усмехался, скрытый клубами противного дыма своей трубки… Ну да, ну да, в большинстве-то случаев все идеально. Как бы не так.
Сама же Иоланда, будучи не по годам развитой девятилеткой, услышав завораживающую (и столь же мудреную – ее пришлось адаптировать для детских ушей) историю о самом старшем брате ее отца – ее дяде Рауле, которого она никогда не видела, который вел престранный, шокирующий образ жизни и при этом был совершенно счастлив, – именно хорошенькая маленькая Иоланда воскликнула: «Вот в чем наше проклятие – мы не умеем нормально любить!»
На нее тут же зашикали. И предупредили: больше никогда не произноси таких безрассудных слов, а лучше вообще забудь их. Что за мысли! В конце концов, Бельфлёры всегда гордились глубиной чувств, страстностью и преданностью в любви. Но Иоланда, хотя и оробевшая, шепнула своему брату Рафаэлю: «Но что, если это правда – если это правда, и мы просто не умеем любить, как все люди?» Она пребывала в таком отчаянии, что никто до конца не мог понять, искреннее оно или наигранное; ведь даже в детстве Иоланда была склонна к преувеличениям.
Беда в том – трагедия в том, что никого не занимали счастливые браки. Муж и жена, прожившие в любви всю жизнь, по крайней мере – в согласии. Кому это интересно? В самом сердце их детского мирка существовал пример Гарта и Золотки: дерзкий побег и женитьбу им простили почти сразу и подарили на радостях маленький очаровательный каменный коттедж и несколько акров леса в придачу в деревне Бельфлёр, а также пообещали всю финансовую помощь, какая понадобится Гарту – хотя тот, в одночасье возмужав и никак не проявляя свой всем известный, злобный, как у осы, нрав, заявил, что отработает каждый пенни жалованья, что семья установила ему за помощь в управлении фермами. Так они и жили, двое молодых влюбленных, красавчик Гарт и прелестная Золотко, и все у них было хорошо; но что тут еще сказать?
Несчастная любовь – другое дело, тут любых слов мало.
Доходило до ссор. Детей буквально зачаровывали препирательства взрослых о том, кто кого любил больше, или полюбил первый, или почему любовь оказалась роковой: сама ли она сошла на нет или на то была внешняя причина, проклятье тому виной или просто не сложилось… Была ли связь «трагической» или скорее «постыдной»…
Все знали про индианку из племени онондага, с которой Жан-Пьер жил несколько лет, а потом они вместе погибли в бушкилской трагедии (ее звали Антуанетт – она была крещена в католичество в честь Марии-Антуанетты, чей сын – дофин, король Людовик XVII, как многие верили, скрывался в горах Чотоквы); их связь считали непристойной – впрочем, хорошо еще, что старик не женился на дикарке официально. Но были те, кто знал о куда более постыдной связи Жан-Пьера, что началась еще во время его сватовства к бедной Хильде Осборн, за много лет до всех этих событий. Вероятно, он как раз недавно вернулся из свадебного путешествия (двухмесячного путешествия по югу страны с великолепной кульминацией – гранд-балом в честь молодоженов в Шарлотсвилле, в Вирджинии), а может, эта связь началась, когда он еще ходил в женихах; но стыд заключался в том, что в любовницы он взял грубую девку из лагеря лесорубов по имени Люсиль, которая жила то с одним, то с другим мужчиной в окрестностях Лейк-Нуар, и так искусно делил время между этой потаскухой и своей верной женой Хильдой, оставшейся на Манхэттене (молодые жили там при щедрой поддержке Осборнов в доме из бурого камня, возведенном самим бароном фон Штойбеном, правой рукой Джорджа Вашингтона, позже перестроенном Осборнами в роскошный особняк), что обе женщины – столь несхожие по происхождению, темпераменту, внешности, достоинству! – забеременели от него в течение одной недели. Люсиль – смуглая Люси – так и осталась туманной, загадочной фигурой, возможно даже, ее и звали-то иначе – и никто не знал, когда именно в ходе своей головокружительной карьеры Жан-Пьер от нее избавился. Во всяком случае, в 1795 году, когда Хильда впервые попыталась подать на развод, прошел слух, что он живет с какой-то женщиной из местных там, на севере: вероятно, именно с Люсиль. К тому времени у нее уже народились дети, как минимум трое или четверо, все мальчики – но как (спрашивал, посмеиваясь, и сам Жан-Пьер, и его друзья-приятели), как можно было утверждать, кто от кого, если речь шла о столь морально непритязательной женщине, как «смуглая Люси»! Когда в 1797 году Жан-Пьер баллотировался в Сенат, Люсиль исчезла из его жизни – по прагматическим соображениям. (Тем не менее, как он объяснял, напившись, первому встречному, даже своему сыну Луису и своей невестке Джермейн, он любил ее не больше, чем другую, свою жену: он держался за обеих, как за последнюю нить, чтобы не броситься в реку или перерезать себе горло, потому что еще в юности потерял единственную женщину, которую любил…)
О женщинах Харлана Бельфлёра было известно не много – говорили, что у него была связь, мимолетная, со вдовой хозяина салона где-то в Огайо, а еще, по слухам, он обзавелся (в какой последовательности – осталось неясным) не только чистокровной «женой» из племени чилпева, но и некоей гаитянкой; в найденных при нем после смерти измятых бумагах обнаружилась небрежная записка о каком-то «единственном наследнике» в Новом Орлеане, о котором никто не слышал – известно лишь было, что в качестве офицера по особым поручениям при Жане и Пьере Лаффитах в ополчении Эндрю Джексона (состоявшем из моряков, простых охотников, креолов, негров из Санто-Доминго и пиратов из бухты Баратария в Луизиане) он действительно провел некоторое время в Новом Орлеане в конце 1814-го и начале 1815 года. Но было крайне сомнительно, заметила скорбящая супруга Луиса, чтобы Харлан оставил там «законную» жену и уж тем более «законного» наследника.
Был еще Рафаэль, который отправился в Англию, чтобы найти себе жену по всем правилам и вернулся с хрупкой молодой женщиной (ей тогда было восемнадцать, а ему – тридцать один), Вайолет Олдин, неврастения которой усиливалась с каждой беременностью (всего их было десять – но лишь пятеро детей родились живыми). Возможно, это был удачный брак. Но никто не мог сказать наверняка, потому что Рафаэль и Вайолет редко обменивались на публике хоть словом; собственно, после восьми или девяти лет брака они крайне редко появлялись вместе, за исключением строго официальных, торжественных событий, и в таких случаях держались друг с другом чрезвычайно учтиво, с особенно искренней предупредительностью, какую обычно проявляют друг к другу люди, чувствуя, что близко не сойдутся. (Судя по сохранившемуся портрету, Вайолет Олдин обладала хрупкой, немного блеклой, нервически резкой красотой, а у ее свадебного платья, усеянного жемчугом и с двухметровым шлейфом из бельгийского кружева, была столь узкая талия – всего 43 сантиметра, – что, судя по всему, юная невеста была немногим крупнее ребенка. Оно оказалось единственным фамильным платьем, которое смогла надеть на свою свадьбу Кристабель, и то ее пришлось безжалостно затянуть в корсет).
О трагической «любовной связи» Сэмюэля Бельфлёра также слышали многие, хотя Бельфлёры пытались тщательно скрывать ее; по сей день встревоженный родитель слишком своенравного ребенка мог воскликнуть, смотри, а вот тоже перейдешь грань!(Иногда выражались более откровенно: свяжешься с черными.) Брак Хайрама с несчастной Элизой Перкинс продлился чуть больше года, но его вообще нельзя было назвать, даже поначалу, «любовным союзом»; и, хотя злополучный брак Деллы и Стэнтона Пима был заключен по любви, по крайней мере, с ее стороны, его ждал внезапный и трагический финал, в результате несчастного случая, спустя всего несколько месяцев. А еще был Рауль, о котором вообще никто не решался упоминать, кроме как шепотом.
Самой поразительной, однако, была «любовная история» бедной Гепатики Бельфлёр.
Она жила много лет назад, но ее судьбу часто приводили в пример девочкам, которые проявляли чрезмерное упрямство. «Ты же знаешь, что приключилось с Гепатикой!» – говорили им матери. И даже самые отчаянные барышни вдруг притихали.
Гепатике, очень красивой и донельзя избалованной девушке, было всего шестнадцать, когда она влюбилась в мужчину, известного как Дуэйн Доути Фокс. (Когда, спустя годы, Иеремия познакомился с двумя родственниками настоящего Дуэйна Доути – торговцем землей из Висконсина и известным в своих местах окружным судьей, – оба клялись, что никогда не слыхали о Дуэйне Доути Фоксе. Что никого не удивило.) Веселая, приветливая, иногда немного ребячливая Гепатика гордилась своими длинными волнистыми волосами, почти такого же оттенка, как у Иоланды, а еще она обожала готовить изысканные блюда собственного изобретения (если только ей позволяла кухарка): это был то креветочный мусс со взбитыми сливками, то сладкий до приторности силлабаб, то ананасовый пирог с арахисовым маслом – по сей день любимый десерт всех детей Бельфлёров; и, конечно, за ней, богатой наследницей, да еще и редкостной красавицей, увивалась толпа поклонников, среди которых было несколько весьма завидных молодых людей (а были и не столь молодые, но не менее завидные по разным прагматическим причинам); но она, не слишком заботясь о мнении своих родителей, наотрез отвергала всех подряд. Я вообще не хочу выходить замуж, говорила она, скорчив капризную мину; не желаю всей этой возни.
Но однажды теплым апрельским днем, возвращаясь в экипаже из деревни домой (она часто ездила туда в гости к дочке ректора – единственной девушке по соседству, которая была не ниже ее по положению), Гепатика заметила вдруг среди других рабочих на обочине дороги молодого человека, поразившего ее воображение. Высокий, без рубахи, в соломенной шляпе, низко надвинутой на глаза, он, медленно подняв голову, со спокойной уверенностью существа столь дикого и столь неприрученного, что ему еще не ведома боль, которую способен причинить человек, уставился прямо на Гепатику, восседавшую в двухместной коляске в желтых в горох платье и чепчике. Ни один другой мужчина в округе не посмел бы смотреть на нее столь откровенно; даже маленьким детям, живущим поблизости от замка, строго наказывали: не глазеть.
Но как глупо он выглядит, думала Гепатика – без рубахи, с блестящей от пота, густо-волосатой грудью, – он просто… восхитителен! (Не так часто в те времена доводилось увидеть мужчину с голым торсом, особенно на дороге вдоль озера: негласно она считалась собственностью Бельфлёров, хотя официально была доступна для всех. Просто невроятно, думала Гепатика. И как же странно!)
Заметила она и то, как он хорош собой – пусть непривычно смуглый и бородатый (а она была вовсе не уверена, что ей нравятся мужчины с бородой). День за днем она встречала его у дороги, и он опускал свой топор, чтобы посмотреть на нее; лицо такое мужественное, широкое, с сильным загаром, а глаза темные – темные и блестящие, излучающие свет (или так ей казалось). Сплетничать с кем бы то ни было или подтрунивать над ним она не могла, потому что все время думала о нем, думала и думала, и стоило ей только представить свой визит в деревню или прогулку к озеру, как сердце девушки начинало так колотиться, что она чуть не лишалась чувств.
И если более скромная девица (или, по крайней мере, более осторожная) стала бы ждать, когда они с юношей вновь случайно встретятся, Гепатика, проявляя упорство и пылкость, более приличествующую скорее одному из ее братьев, наводила справки у слуг и деревенских и вскоре выяснила, что ее «предмет» – из переселенцев (вроде бы он недавно приехал из Канады, а до того обитал в Висконсине), что он сейчас подмастерье кузнеца и наемный рабочий в деревне. А зовут его Дуэйн Доути Фокс.
«У него есть родные? – без всякого стыда спрашивала Гепатика. – А жена есть?»
Очевидно, у него никого не было – вообще никого. Никто даже не знал, где именно он живет.
«О, разве не в деревне?» – спрашивала Гепатика.
Он работал в деревне, а вот жил, насколько было известно, в лесу, в горах. Странный, молчаливый нелюдим… Впрочем, у него была репутация прекрасного работника.
И вот как-то чудесным весенним днем Гепатика явилась в деревню в сопровождении девушки-служанки и, отослав ее с каким-то поручением, сама по себе, безо всякого страха, направилась прямо в кузницу (деревенского кузнеца ее семья никогда не нанимала, потому что к тому времени уже обзавелась собственным) и встретилась с Дуэйном Доути Фоксом. Никто не знает, о чем они говорили в свою первую встречу – вероятно, их беседа была неловкой и натянутой, ведь Гепатика все же наверняка была немного смущена, хотя, возможно (она была невероятно изобретательной девочкой, фантазеркой, а лгала с таким неотразимым обаянием, что никто не порицал ее всерьез), она просто щебетала о своем любимом пони, о том, что его необходимо заново подковать. А может, она расспрашивала его про Канаду, про то, какие дикие звери и что за индейцы там обитают; или про Висконсин; или интересовалась, что он думает про нового президента; в общем несла разную чепуху, какая только приходила ей в голову.
Вот так они познакомились и полюбили друг друга, Гепатика Бельфлёр и смуглолицый чужак, известный только по имени – Дуэйн Доути Фокс. И в значительной мере благодаря врожденной изворотливости Гепатики они ухитрились встретиться пять или шесть раз (всегда – или в лесу, или на безлюдной тропинке вдоль Лейк-Нуар; а однажды на берегу Кровавого потока, на высоком обрыве), не возбудив подозрений семьи. Но стоило первым пересудам достигнуть стен замка, как Гепатика с сияющими глазами привела в дом Фокса и представила его – представила как своего будущего мужа. Ее миниатюрная ладошка лежала в его громадной лапе; ее вьющиеся волосы цвета пшеницы касались его плеча. Дело даже не в любви, откровенно призналась она. Нет, это вопрос жизни и смерти. Они просто не могут жить друг без друга…
Как и следовало ожидать, семья поначалу возражала. Но Гепатика просто шепнула что-то матери на ухо, может, правду, может, нет, быстрые, лихорадочные слова, вечные, как мир. И помолвка состоялась. А потом и свадьба – закрытая церемония в старой часовне при замке, где присутствовало лишь несколько родственников.
«Ты счастлива?» – завистливо спрашивали Гепатику кузины.
В ответ она лишь улыбалась им, демонстрируя свои белоснежные зубы, и они всё понимали. Но было нечто тревожное (во всяком случае, так они наперебой утверждали после) в несдержанности ее чувств… Нечто чрезмерное, преувеличенное, нездоровое. Вы бы только видели, как это темное чудище сжимало ручку своей невесты, как улыбалось неуверенной, но, несомненно, чувственной улыбкой!.. Да просто оказавшись вблизи этой парочки, вы ощущали неприкрытую пылкость этой «любви»…
Бельфлёры, впрочем, не поскупились и подарили новобрачным небольшую ферму у подножия гор, у Норочьего ручья, с обещанием оказать любую помощь, какая понадобится Фоксу, а еще – это не было высказано прямо, но, безуслосвно, подразумевалось – принять Гепатику обратно, как только она пожелает (ибо она была не первой из Бельфлёров, кто заключил брак из сумасбродства. И вполне могла, как некоторые другие, проснуться однажды утром с ясным осознанием, что совершила ошибку).
Шло время: недели, месяцы, полгода. Новобрачные жили уединенно. Их регулярно приглашали в замок, но они не приезжали. Родители Гепатики испытывали отчаяние; потом – возмущение; а после – недоумение. И вновь отчаяние: но что тут можно было поделать? Они сами (без приглашения) отправлялись на ферму, когда осмеливались, и проводили около часа в неестественном общении с Гепатикой, которая выглядела и вела себя почти точно так же, как раньше, и уверяла их, что с наслаждением ведет старомодную жизнь домохозяйки, которая сама готовит и прибирает в доме. (Впрочем, было непохоже, что в доме прибирались. А пирог, который она подала им к чаю, налитому в чашки севрского фарфора, уже щербатые, был прогорклый на вкус – и ничуть не напоминал выпечку, что она когда-то готовила дома.) Дуэйн Доути Фокс все время был в поле, работал. Или в сарае. Работал. С обнаженным торсом, в своей грязной, лихо заломленной набок соломенной шляпе, в забрызганном навозом сапогах. Он лишь махал своей лапищей в ответ на приветствие родственников и тут же, согнувшись, скрывался внутри, словно прячась, из смущения или из презрения. Как он неотесан, их новоявленный зять! Какой сиволапый, как в нем мало от человека!
Один из дядюшек Гепатики как-то встретил Фокса в строительной лавке у озера и был просто поражен его видом: он готов был поклясться, что муженек его племянницы не выглядел прежде настолько смуглым и волосатым. И какой грубиян: парень издал какое-то хриплое ворчание, так что владелец лавки едва понял, что ему нужно. Его мощные плечи сутулились, шея раздалась, борода была спутанная, клочковатая. Хуже того, он почти не ответил на учтивое приветствия своего родственника. У него лишь вырвался носовой звук, то ли фырканье, то ли рык – и всё.
И как только семейство Бельфлёров породнилось со столь примитивным созданием!
Всю долгую зиму молодые не показывались, но после первой же оттепели Гепатика приехала в замок, без сопровождения – сказала, что просто решила нанести дневной визит, не устраивая лишнего шума. И хотя она вела беседу в своей обычной манере – очаровательно, ребячливо, забавно, – было очевидно, что она несчастна, а под глазами у нее залегли глубокие тени. Но на все вопросы она отвечала в том же беззаботном, шутливом духе, упомянув только, что жаль, мол, Дуэйна было никак не уговорить приехать – ведь он так застенчив, ужасно застенчив, и просила его извинить.
(Была ли Гепатика беременна? Вопрос висел в воздухе, а она ничего об этом не говорила. Но девушка была явно чем-то расстроена, несмотря на свой беззаботный вид.)
Время от времени мужчины-Бельфлёры встречали Фокса в окрестностях и сначала вроде как подшучивали между собой, какой, мол, он стал грубый, ни дать ни взять медведь. Может, всему виной стряпня Гепатики? Пожалуй, его борода не слишком изменилась, но зато волосами порос и его кадык, и даже плечи. На тыльной стороне ладоней тоже росли клоки шерсти. А его глаза, в прошлом обычного размера, теперь будто стали маленькими и близко посаженными, с малоосмысленным, каким-то безжалостным выражением. (Может, он пил? Или был пьян, когда они его встречали? Он всегда быстро проходил мимо и отворачивался, часто даже не удосужившись буркнуть «здрасте».) Они шутили по поводу его фамилии – мол, что-то он не обладает врожденной грацией рыжей или даже черно-бурой лисицы[21]21
Фокс (fox) – лиса (англ.).
[Закрыть]. Его волосы напоминали толстые черные сосульки, липкие от жира… А нос… похоже, он стал каким-то вдавленным, вам не кажется?..
Хотя, может, это всё выдумки? (Все-таки Бельфлёры, несмотря на всю любовь к Гепатике, не могли удержаться от своего привычного цинизма; а злые насмешки – Бельфлёры сами это признавали – требовали намеренного искажения реальности.)
Гепатика теперь навещала мать все чаще, и все чаще по приезде начинала плакать; но никогда не объясняла причины слез. Когда ее спрашивали, почему она плачет, она лишь отмахивалась: «Мне просто немного грустно! О, я такая глупышка, я всегда была глупышкой, не обращайте на меня внимания!»
Но они обращали: она похудела (а Гепатика и без того была тоненькой, нервического типа девушкой), и часто моргала во время разговора, и все время бросала взгляд на окно. На ее запястьях и шее появились синяки. А по тыльной стороне левой руки тянулась длинная изогнутся царапина. Я просто с кошкой играла, не обращайте внимания!
Однажды ее мать спросила: может, ты вернешься обратно? Тебя ждет твоя прежняя комната, в ней все готово, все, как прежде; просто поживи здесь несколько дней; мы можем всё обсудить, если хочешь… Тут нечего обсуждать, – апатично отвечала Гепатика. – Я люблю своего мужа, а он любит меня. И это главное.
– Он тебя любит – ты уверена?
– О да.
– А ты его любишь?
– Ну… Да.
– Гепатика…
– Я же сказала – да.
Она говорила с жаром, но как будто в некоторой растерянности. Словно она не знала, какой дать ответ… Только знала, что следует ответить.
Покидая замок, она обернулась к матери, обняла ее и, казалось, вот-вот расплачется; но она взяла себя в руки.
– Ох, мама, я не знаю, все ли хорошо. Я ведь прежде не бывала замужем, – прошептало бедное дитя.
После этого она не появлялась в замке несколько месяцев. И когда ее отец и один из братьев приехали навестить ее, у дорожки к дому их встретил Фокс и сказал – по крайней мере, дал понять (они едва могли разобрать его невнятную речь), что Гепатика «отдыхает» и «не принимает гостей».
Теперь они убедились, что он разительно изменился. Его уже при всем желании нельзя было назвать привлекательным. Зубы были в пятнах от табака, изо рта шел зловонный, мясной запах, на запястьях росли кусты шерсти, и под глазами тоже, а его брови, всегда густые и блестящие, совсем срослись. Волосы у него были сальные и доходили до мощных плеч, под которыми играли груды мышц; маленькие безжалостные глазки, налившиеся кровью, сверкали по-звериному. Да он и был зверь! Их вдруг словно осенило – и отца Гепатики и его брата, причем в один и тот же миг: Гепатика вышла замуж за животное.
За медведя.
За бурого медведя. (Правда, он был на несколько дюймов выше взрослого самца. Рот у него еще не до конца вытянулся вперед, чтобы превратиться в морду.)
Сама того не зная, бедная невинная девочка влюбилась, а потом вышла замуж за зверя.
Они в ужасе ретировались. А дома не могли говорить ни о чем другом. Чтобы убедить остальных (не то чтобы они действительно нуждались в этом), они наперебой изображали мужа Гепатики – сильно сутулились и рычали, свесив руки почти до пола и сузив глаза в хищные щелочки. Они гнусавили, мол, Гепатика отдыхает и не принимает гостей; запускали руки в волосы и, остервенело почесываясь, лохматили себе бороды. Становилось немного не по себе от того, как похоже они передразнивали его – этого получеловека-полузверя.
Да, это был медведь. Как ни безумно, как ни фантастически это звучало. Медведь, который по злой иронии называл себя лисом!.. Что же они могли предпринять, чтобы спасти бедняжку Гепатику?
(«И что же они сделали, по-вашему?» – спрашивали взрослые детей. Те отвечали не сразу, они глядели в огонь, насупившись, возможно, от страха, а потом одна из девочек прошептала: «Выследили и пристрелили зверюгу!»)
И действительно – они выследили и пристрелили его; но не сразу.
Не сразу. Потому что сначала надо было убедиться. И сделать так, чтобы не пострадала Гепатика.
Она не нанесла ответный визит в замок; шли недели, и Бельфлёры, которым не давало покоя несчастье бедной девушки, места не находили от нетерпения. И хотя Гепатика упорно повторяла, что любит мужа, и еще упорнее – что он любит ее, стало совершенно ясно: необходимо что-то предпринять; нельзя, чтобы она так и жила замужем за зверем; ее нужно спасти!
В конце концов, не поставив в известность ее родителей, группа молодых Бельфлёров с друзьями отправились на уединенную ферму, приторочив к седлам дробовики. Они спешились за четверть мили до участка, тщательно выбрав подветренную сторону; сейчас они были куда более осторожны, чем если бы вышли охотиться на обычного медведя. И все же Человек-медведь, должно быть, почуял их приближение, потому что, когда они ворвались в дом, он уже вскочил с постели и стоял в грозном оскале, издавая рык вперемешку с воем. Разумеется, одежды на нем не было: он был покрыт густой грязной шерстью полностью, до самых ступней – покрыт с ног до головы. Мужчины дали залп. Но он продолжал идти на них. Тянул к ним свои огромные когтистые «руки» – ему даже удалось глубоко оцарапать одному из мужчин щеку – и получил новый выстрел, в глаз. Никогда прежде они не слышали такой душераздирающий визг, клялись охотники позже.
В результате они опустошили шесть двухстволок, две из них – практически в упор, прежде чем он вроде бы наконец издох.
(А детеныш, что стало с детенышем? – что они с ним сделали?
Не было никакого детеныша, уверяли потом охотники.
Но каким-то образом это стало известно много месяцев, а то и лет спустя: детеныш был; так что им пришлось прикончить и его. Хотя молодые люди, участвовавшие в охоте, как один отрицали это.
Так детеныша не было?
Клянусь, детеныша не было.
А что сталось с Гепатикой?
После того, что с ней случилось, она удалилась от мира и в конце концов вступила во французскую ветвь ордена кармелиток к безмерному огорчению своих родителей, ярых противников католицизма.)