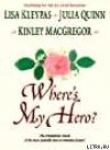Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 52 страниц)
Плантации хмеля в Долине остались в далеком прошлом, однако потомки тех, кто работал на Бельфлёров, осели в округе. Некоторые устраивались на большие консервные фабрики в Нотога-Фоллз и Форт-Ханне и закатывали в банки помидоры, огурцы, горошек и всевозможные цитрусовые; Бельфлёры владели частью «Вэлли продактс», крупнейшей из местных компаний. Некоторые перебивались случайными заработками и сезонной работой, в крайнем случае уповая на пособие по безработице, а кое-кто добился относительного успеха и завел собственную ферму. Впрочем, фермы эти располагались на далеко не самых плодородных участках – те оставались во владении Бельфлёров, Стедмэнов или Фёров. Некоторые потомки работников Рафаэля Бельфлёра арендовали теперь землю у Ноэля Бельфлёра и его сыновей, или работали на лесопилках и в зернохранилищах Иннисфейла и Форт-Ханны, или же, как Доуны, нанимались собирать урожай или выполнять другую поденную работу – копали оросительные канавки и возводили хозяйственные постройки, – хотя Гидеон Бельфлёр предпочитал нанимать приезжих с юга, из Канады или даже жителей индейских резерваций: он всё больше убеждался, что уроженцы здешних мест доверия не заслуживают. Если работник трудился лишь часть дня, то и платили ему соответственно.
«Тот, кто подписал договор, но не делает свою работу, – самый настоящий вор», – часто повторял Гидеон. Доуны пытались кормиться за счет того, что выращивали на своей маленькой захудалой ферме – пшеницы, кукурузы, чахлых соевых бобов, а еще они держали несколько коров. Горе-фермеры понятия не имели, как защитить плодородный слой от высыхания и выветривания, а возможно, подобное просто не интересовало их, поэтому земля естественным образом скудела, так что уже через несколько лет им суждено было разориться, ферма, оборудование (если таковое имелось) и дом (двухэтажная дощатая лачуга, крытая рубероидом, где зимой для обогрева к сложенному из бетонных блоков фундаменту кое-как притыкали тюки сена) пустили бы с молотка, а сами Доуны сгинули бы в каком-нибудь городе южнее – Нотога-Фоллз или Порт-Орискани, и больше не будет о них ни слуху ни духу…
Джонни Доун был третьим из пяти мальчиков, и несмотря на скудный рацион, которого придерживалась миссис Доун – мясо, где было больше жира, мучное и сахар, – в свои пятнадцать паренек вымахал во взрослого мужчину. Он вечно ходил, ссутулив широкие плечи, вытянув шею и слегка наклонив вперед маленькую голову, так что со стороны казалось, будто он с подозрением вглядывается в грязь. Чаще всего он околачивался на отцовской ферме, глаза у него были тусклыми и невыразительными, лицо – острым, как мордочка хорька, и неприятным, жидкие светлые волосы падали на лоб, а грязная серая кепка с буквами IH[2]2
IH – International Harvester – американский производитель сельскохозяйственной техники.
[Закрыть] косо сидела на голове. Когда кто-то посторонний, не из числа родственников, здоровался с ним, парень обнажал в быстрой полуухмылке желтые от табака зубы, не отвечая. Некоторые были уверены, что он нарочно притворяется-туповатым, а кто-то считал и впрямь слабоумным. Так что, когда ему исполнилось тринадцать, Джонни позволили уйти из школы, чтобы помогать отцу на ферме.
Однако на ферме он работал лишь время от времени. Как и его старшие братья. Когда у них хватало денег на бензин, они разъезжали по округе, хватаясь за случайный заработок, но После первой же получки работу бросали. К Джонни Доуну, ходившему в грязном комбинезоне, без рубахи, то босиком, то в старых, заляпанных грязью ботинках, в деревне Бельфлёр давно привыкли. Иногда его видели шагающим по обочине в нескольких милях от дома – он просто брел, засунув руки в карманы и опустив свою не по росту маленькую голову. Рассматривая жалобу, поданную отцом ребенка, посещавшего общеобразовательную школу в деревне, шериф округа Нотога заехал как-то воскресным вечером на ферму Доунов и обстоятельно побеседовал с Джонни и его папашей – о том, что Джонни взял за обыкновение издеваться, над младшими учениками, и после этого Джонни стал в деревне редким гостем, хотя по-прежнему бродил по дорогам, слонялся по пастбищам, присаживался на корточки возле сточных канав, всегда в одиночестве, в своей вечной серой кепке, с вялым, безразличным выражением. «Здорово, Джонни, – сердечно приветствовал его кто-нибудь из приятелей мистера Доуна, и рядом притормаживала легковушка или пикап. – Подвезти тебя куда-нибудь?» Но в ответ его губы лишь растягивались в пустой ухмылке, за которой виднелись желтые зубы, а пустые карие глаза отражали пустоту. Джонни еще ни разу не соизволил сесть в чью-нибудь машину. Возможно, причина в том, что шагал он так, куда глаза глядят.
И вот однажды днем он воткнул вилы в кучу навоза на скотном дворе и зашагал прочь. Затрусил прочь. По поросшим кустарником отцовским пастбищам, где торчащие из земли камни резали глаз, по соседскому кукурузному полю, где под ноги ему с хрустом ложились сухие стебли, по обочине глинистой дороги, поднимающейся на предгорья. Он вовсе не собирался обижать Рафаэля Бельфлёра, и за дочками Бельфлёров – ни за красоткой Иоландой, ни за красоткой Видой – он подглядывать не хотел, как и за женой Гидеона Бельфлёра, той, что с рыжими волосами, волевым подбородком и большой, высокой грудью, ага, за ней! – а мальчишек их он предусмотрительно опасался. Нет, ему хотелось взглянуть на замок. Джонни его уже много раз видел, и ему хотелось посмотреть еще разок. И на озеро. Вторгаться во владения Бельфлёров посторонним было запрещено, но Джонни позарез приспичило нарушить это правило, поэтому он шагал через бурьян, шел по полянам клевера и бородача, продирался сквозь ивняк, словно обернувшись собакой, он высунул язык и, ссутулив плечи, вытянул шею. День был октябрьский, ясный и прохладный. Джонни добрел до Норочьего ручья и прошел немного вниз по течению, стараясь не замочить ног, опасаясь быстрого течения и любуясь холмами на противоположном берегу. Наконец он дошагал до мелководья и по большим плоским камням, уложенным детьми-Бельфлёрами, чтобы удобнее переходить ручей, перебрался на ту сторону. Он превратился в длиннохвостое существо с желтоватой шерстью, наполовину гончую, наполовину бигля, с влажным розовым языком, темно-лиловыми деснами и сильно порчеными, но все еще острыми зубами.
Кладбище Бельфлёров на поросшем травой холме. Кованая железная ограда, траченная ржавчиной. Вычурные кованые ворота, которые не открывали годами, так что нижние зубцы вросли в землю. Он поднял заднюю левую лапу и помочился на ворота, а потом вбежал внутрь и помочился на первое же попавшееся надгробье. Мрамор, ангелы, кресты, гранит, мох, лишайники и настоящие папоротниковые джунгли. Глиняные горшки на могилах. Высохшие скелетики растений, цветов. Он понюхал большое квадратное надгробие с великолепной блестящей поверхностью и грубыми, неровными краями. Но эпитафии он, разумеется, прочесть не мог. Высокая трава шелестела. Ему чудились хриплый шепот и приглушенные крики. Хоть и напуганный, убегать он не желал. Он слегка втянул голову в плечи, уткнулся носом в землю, обтягивающая ребра кожа затрепетала, но убегать он не желал. Бельфлёрам его не напугать. И он осторожно двинулся к сооружению, похожему на небольшой домик, – храму высотой футов пятнадцать, с четырьмя колоннами, с высеченными по краям ангелами и крестами и эпитафией. Буквы надписи были высотой в фут, однако прочесть ее он не мог, да и не хотел, и без того зная, что говорится в ней о каком-нибудь Бельфлёре, который умер, но однажды непременно воскреснет. Джонни надолго задержался у странной невысокой фигуры с собачьей головой – неужто и впрямь собака? Или, может, ангел такой? – охраняющую вход в храм. Он понюхал ее, после чего опять задрал заднюю лапу и с презрением потрусил дальше.
Возле одного из свеженасыпанных холмиков Джонни пнул несколько глиняных горшков, которые раскололись на большие нелепые черепки. Он ухватил зубами маленький флажок – американский – и попытался разодрать его.
– Видали, что я могу, – говорил он. – Гляньте, что могут Доуны.
Глиняным черепком он попробовал нацарапать свое имя на черном, как смоль, надгробье, но черепок оказался недостаточно острым. Ему бы сейчас долото с молотком…
Гляньте, на что способны Доуны!
Вдруг он испугался. Неужели он произнес это вслух? Джонни не знал. Он с трудом различал, где шепоты, где крики, а где просто его беззвучные мысли, но, может, Бельфлёры его слышат, может, кто-то из наемных работников присматривает за кладбищем и вот-вот примется палить в Джонни?.. Земля тут запретная, это каждому известно. Посторонним запрещается разгуливать по владениям Бельфлёров; поговаривают даже, что сыновья Бельфлёров стреляют в нарушителей из двадцать второго калибра, просто забавы ради, и окружной суд никогда их не осудит, а шериф не осмелится их арестовать…
Он был напуган и зол. На смену волне страха пришла другая – волна злобы. Он толкнул какой-то старый крест, но тот даже не пошатнулся. Крест был очень старым, «1853–1861», – прочел он, однако для Джонни эти цифры ничего не значили, разве то, что от тела под осевшей землей ничего, кроме костей, не осталось, и скелет лежит и беспомощно смотрит на него снизу. Джонни развеселился и, хихикнув, опять задрал лапу и помочился. Люди уверяли, что существуют духи, но он в духов не верил. Днем и когда небо ясное, он в них не верил.
Принюхиваясь, он рыскал по кладбищу, как вдруг вспомнил о девочках из семейства Бельфлёр, которых видел неделей ранее – они ехали верхом по старой Военной дороге. Две юные девушки, немного младше него, одна из них с длинными волнистыми волосами пшеничного цвета; он знал, что девушек зовут Иоланда и Вида, и ему хотелось крикнуть им: «Иоланда, Вида! Я знаю, кто вы!» – но он, естественно, из укрытия не вылез. В прошлом году, в мае, Фёры играли свадьбу в старой деревенской церкви, а Джонни подглядывал за ними и высмотрел среди толпы веселых, нарядно одетых мужчин и женщин Гидеона Бельфлёра и его жену Лею – роскошную и высокомерно прекрасную в бирюзовом платье, с волосами, уложенными в узел, виднеющийся из-под элегантной широкополой шляпы. Лея была выше, чем большинство мужчин, намного выше его папаши… Джонни подобрался ближе, не сводя с нее взгляда. Его никто не заметил, или ему так показалось – с какой стати богачам его замечать? И он во все глаза таращился на Лею Бельфлёр, крутившую затянутыми в перчатку пальцами бежевый зонтик от солнца. Он слышал – почти слышал – ее хрипловатый голос, низкий и дразнящий. Она стояла чуть поодаль, отойдя от толпы, а рядом с ней стоял один из Фёров. Они смеялись и болтали, да так, что у Джонни сердце сжалось, потому что он – да, он хотел Лею, его тянуло крикнуть: «Я знаю, кто ты! Мы все знаем, кто ты!» Ее молодой собеседник был почти таким же высоким, как Гидеон. Белокурый, гладко выбритый и довольно красивый, он смеялся и шутил с Леей и тем не менее во взгляде его читались чувства, вполне понятные Джонни. Джонни с большим удовольствием хранил образ этой женщины из семейства Бельфлёр и в своих одиноких ночных фантазиях подвергал ее всяческим издевательствам, во время которых прибегал к определенным подручным средствам – ножам для разделки мяса, железу для клеймления и плеткам (в том числе, к тому самому старому кнуту, украденному много лет назад из конюшни Бельфлёров, которым папаша охаживал и Джонни, и его братьев). Именно такого обращения она и заслуживала.
Неподалеку затрещал дятел, и Джонни с трудом удержался, чтобы со всех ног не удрать с кладбища. Он торопливо спустился вниз, но уткнулся в ограду, железную ограду с острыми зубцами поверху. Отыскав проем, он, поскуливая, протиснулся в него на четвереньках, поджав тощий хвост.
В духов он не верил, даже оказавшись на кладбище Бельфлёров. В дневное время – не верил.
Теперь замок был совсем рядом, он словно парил в воздухе. Замок Бельфлёров! Медно-красная крыша, розовато-серые башенки. Химера, порожденная мрачными водами озера. А за его жутковатой громадой сверкало будто мраморное, с бело-голубыми всполохами небо.
Джонни приостановился и уставился на гигантский дом. Дышал он тяжело: птичий крик напугал его, хотя он и понимал, что бояться нечего.
Замок Бельфлёров. Даже более внушительный, чем отпечаталось у него в памяти. И все равно его можно разрушить. Спалить. Хоть он и выстроен из камня, его все равно можно спалить – хотя бы изнутри. Пускай даже камень выстоит – изнутри-то все выгорит: и дерево, и ковры, и мебель.
А с воздуха на него можно сбросить бомбу. В журнале, где были напечатаны черно-белые фотографии объятых пламенем городов, Джонни видел снимки молодых пилотов, своих ровесников, в летных шлемах. Он восхищался ими. А сейчас перед ним и замок, и старые каменные амбары, сад за высокой стеной, усыпанная гравием извилистая подъездная дорога, по обочинам которой растут деревья с неизвестными ему названиями… Да, но тут, в отдалении, стоят старые деревянные сараи, где когда-то сушили хмель, теперь увитые плющом и повиликой. Крыши у них почти сгнили и вот-вот обрушатся. Они-то вспыхнут, как спичка!
Джонни спустился вниз и понял, что опять вышел к ручью. Сделав излучину, ручей протекал дальше по пастбищу. Кое-где его красноглинистые берега были в высоту футов шесть, не меньше; в других же местах, где скотина спускалась на водопой, берег шел вровень с водой. Джонни заметил табличку «Вход запрещен». Слов он распознать не мог и отдельных букв не разбирал, однако смысл понял.
– Бельфлёры, – прошептал он.
Если они пожелают, то запросто пристрелят такого, как он. Словно муху раздавят. Если захотят. Если заметят его. Слухи давно ходят, и отвратительные: пристрелены бродячие собаки, пристрелены рыбаки, нарушившие границы частной собственности (так болтал Герхард Голландец, хотя он-то сам рыбачил в горах, в Кровавом потоке – это тоже собственность Бельфлёров, да, но за много миль от усадьбы)… А потом, лет пять-шесть назад, когда сборщики фруктов заговорили о забастовке, одного молодого парня, откуда-то с юга, который ходил в зачинщиках и был самым невоздержанным на язык, нашли жестоко изувеченным, с выбитым глазом на поле возле реки Нотога. А когда Хэнк Варрел, друг Эдди, девятнадцатилетнего брата Джонни, отпустил пару словечек в адрес какой-то девушки, дальней родственницы Бельфлёров из Бушкилз-Ферри, слова эти как-то дошли до замка, и Гидеон сам отыскал Хэнка и наверняка убил бы, если бы рядом никого не было… Джонни стряхнул с себя оцепенение. Уставившись в землю, он шел вдоль ручья, а когда поднял голову, то вдруг увидал пруд: солнце пробивалось сквозь заросли болиголова, и золотистая кленовая листва отражалась в воде; а потом он увидал ребенка на плоту. Тот лежал на животе, опустив один палец в воду. И пруд, и мальчишку – он заметил их одновременно.
Темные, ухоженные волосы. И Бельфлёров профиль, узнаваемый даже с расстояния в несколько ярдов: длинный римский нос и глубоко посаженные глаза.
– Бельфлёр! – прошептал Джонни.
От тяжести камней его пошатывало – три или четыре он распихал по карманам комбинезона, остальные сжимал в руках. Первые он бросил еще до того, как крикнул – а когда все же крикнул, это были не слова. Его крик больше походил на вой или рев, может быть, просто шум» – звук не вполне человеческий.
Голова мальчика дернулась, на лице его отразилось непритворное, чистое изумление – сильнее, чем испуг, сильнее, чем замешательство. Джонни подбежал к противоположному берегу и бросил еще один камень. С первым он промахнулся, зато второй угодил мальчишке в плечо. Это лицо, лицо истинного Бельфлёра, Джонни узнал бы из тысячи, хотя мальчонка пока был маленьким и тщедушным, а его кожа стала мертвенно-бледной. Бельфлёр! Сейчас твое лицо превратится в месиво! Как тебе такое? А понравится тебе, если твою поганую голову сунуть под воду?
Мальчик закричал и поднял руку – и Джонни разобрал смех: он что же, думает, что так защитит свое драгоценное личико? Такое изящное и милое, прямо как у девчонки? Ухмыляясь, Джонни бросился в воду и кинул еще один камень, но промахнулся. Даже брызг получилось не много. В животе и паху у Джонни горело, как же ему хотелось убить маленького гаденыша, уж он покажет ему и остальным Бельфлёрам! Еще один камень, поменьше, попал мальчишке в лоб, тот отпрянул, а из раны брызнула ярко-алая кровь. Стоя по колено в воде, Джонни замер. С трясущимся подбородком он неестественно сгорбился и втянул голову в плечи.
– Бельфлёр! – в третий раз прошептал он и, наклонившись вперед, плюнул в воду.
Если б мальчишка не заплакал – если бы он не заревел, не заскулил и не захныкал, как младенец, то, возможно, Джонни поддался бы жалости, но мальчишка заплакал и так бессильно повалился набок, словно его и впрямь ранили, и тогда в животе у Джонни вновь полыхнуло, и пламя добралось до глотки. Джонни закричал и швырнул еще один камень, и еще, и еще – а когда остановился передохнуть и проморгаться от заливавшего глаза пота, то, к своему удивлению, увидел, что мальчик куда-то подевался – видать, скатился с плота и утоп.
На минуту Джонни замер, разглядывая пруд. В руках он сжимал оставшиеся камни – что с ними делать, он не знал. Почти неосознанно он решил, что, если разожмет пальцы, то камни упадут в воду, и брызги полетят на него. Впрочем, штанины-то у него все равно мокрые… И если мальчишка вдруг сейчас выберется обратно на плот, камни опять понадобятся. Но, может, мальчишка утонул… Может, Джонни и впрямь убил его…
– Эй, Бельфлёр! – просипел он, но так тихо, что мальчишка вряд ли услышал бы его, даже лежа на плоту. В хриплом голосе Джонни звучала неуверенность, как если бы он долго молчал и попытки заговорить давались ему нелегко. Глотку саднило, словно после крика. – Бельфлёр!..
Может, мальчишка решил подшутить над ним, но из-под воды по-прежнему не показывался. По поверхности пруда, со стороны казавшегося достаточно глубоким, расползалась рябь. На воде опять появилось несколько плавунцов – напуганные движением, они сперва прятались, – а тишину, которую не нарушало даже птичье пение, заполнило яростное верещание белки.
Джонни Доун попятился, выронил камни и бросился бежать. Он и сам был всего лишь мальчишкой, мальчишкой с пылающими щеками, в мокром комбинезоне и старой, нахлобученной на голову кепке. Кепка свалилась, но, сразу же заметив это, он наклонился подобрал ее и опять водрузил на голову, надвинув на лоб. Улик оставлять нельзя. Он бросился прочь от Норочьего пруда, добежал до дороги на Иннисфейл в нескольких милях к западу и вернулся к ужину на отцовскую ферму; и хотя губы у него слегка подрагивали, а глаза блестели, причем не от слез, в голове у него шумело от радостного возбуждения, и он непрестанно хихикал.
– Ну что, Бельфлёр, – шептал он, утирая нос тыльной стороной ладони и ухмыляясь. – Видал, на что мы способны!
Проклятие Бельфлёров
Если верить горной легенде, на семье Джермейн лежало некое проклятие. (Об этой легенде знали не только местные: ее пересказывали и в столице штата, что находилась в полутысяче миль от усадьбы, и даже в Вашингтоне; а Бельфлёры, воевавшие в Первую мировую, утверждали, что встречали солдат, которые были наслышаны про их род – и в ужасе шарахались прочь: мол, вы на нас беду накличите!)
Но в чем заключается проклятие, никто не знал. Как не знали, кто его наслал, какая сила – и зачем.
– На нас лежит проклятие, – бесстрастно бросила Иоланда накануне бегства. – Да, на нас проклятие, и теперь я знаю, в чем оно заключается. – Но обращалась она при этом к Джермейн, которой тогда едва исполнился год.
– Проклятий не существует, – говорила Лея. – Если мы хотим сохранить рассудок, нам надо избавиться от этих нелепых древних суеверий. Не смейте даже упоминать о них в моем присутствии!
(Но это было позже – уже после того, как она выносила и родила Джермейн. Будучи юной девушкой и даже в замужестве Лея нередко поддавалась суевериям, однако заикнись об этом кто-то из родни – она наверняка возмутилась бы.)
Старшее поколение Бельфлёров дедушка Ноэль, бабка Корнелия, прабабка Эльвира, тетя Вероника, дядя Хайрам, тетя Матильда, мать Леи Делла, Жан-Пьер и все остальные – и, разумеется, все, кто уже умер, – прекрасно знало о проклятии, и если в молодости они рассуждали о нем с радостным возбуждением, то сейчас предпочитали обходить эту тему молчанием. «Проклятие может осуществиться, даже если о нем не говорить, – сказал незадолго до смерти дядя Хайрам. – Оно – словно характерная отметина, что выделяет, к примеру, серебристую летучую мышь среди сородичей».
Однажды Гидеон с несвойственным ему глубокомыслием сказал, что суть проклятия проста до ужаса: мужчинам из рода Бельфлёров суждена необычайная смерть. Смерть в собственной постели для них – удовольствие редкое.
– Мы никогда не умираем в собственной постели! – хвастливо хохотнул Юэн (потому что – где бы и когда это ни произошло – лично он умирать в кровати не собирался).
– Мужчины из рода Бельфлёров умирают нелепой смертью, – без обиняков сказала бабушка Делла. (Возможно, она вспомнила смерть своего мужа Стентона, погибшего много лет назад, и смерть собственного отца; а еще был прадедушка Рафаэль, умерший естественной смертью, но чье тело, согласно его же последней воле, подверглось после смерти абсурдному надругательству.) – Мужчины умирают нелепой смертью, – сказала Делла, – а женщинам суждено жить дальше и оплакивать их.
– Это не нелепость, а неотвратимость, – педантично поправил ее дядя Хайрам. (Сам он избежал смерти множество раз – и во время Первой мировой, и после нее, в конце концов заработав сомнамбулизм, не поддававшийся никакому лечению.) – Всё, что свершается во Вселенной, свершается из неотвратимости, пускай и суровой.
Вспоминали, правда, что прапрапрадед Иедидия, которого все считали святым, умер на редкость мирно спустя несколько лет после своей супруги Джермейн. Вечером накануне своего сто первого дня рождения он навсегда уснул в своей простой сосновой кровати, на старом тюфяке конского волоса (эта тесная и темноватая комната в крыле прислуги была предназначена для камердинера, но Иедидия упрямо возвращался туда – в более роскошных и богатых покоях ему было не по себе). Свои последние загадочные слова – «Челюсти пожирают, челюсти пожираются» – он, несмотря ни на что, произнес с блаженной улыбкой. Еще один Бельфлёр, Сэмюэль, сын Рафаэля, исчез прямо в одной из самых просторных комнат усадьбы, Бирюзовой, – больше его никто не видел. (Он словно испарился, а комнату с тех пор прозвали Порченой, и она была надежно заперта от детей, горевших желанием ее обследовать.) Когда-то давно ходили слухи, будто скончалась двоюродная бабка Вероника – после продолжительной болезни, в течение которой ее чудесная кожа приобрела изжелта-восковой оттенок, а запавшие глаза с темными кругами под ними сияли нездоровым блеском. Однако слухи эти оказались ложными: на самом деле двоюродная бабка Вероника жила и здравствовала, а за последние годы даже в весе прибавила и выглядела удивительно моложавой для своего возраста. Из женщин вспоминали супругу Рафаэля, бедняжку Вайолет, которая избрала поистине необычную смерть – говорили, всё из-за любви: однажды, когда Рафаэля не было дома, она просто ушла в озеро, в Лейк-Нуар. Некому было остановить ее, а тела так и не нашли. Разумеется, были в истории семьи кончины преждевременные и трагические – так расстались с жизнью Жан-Пьер с сыном Луисом, и трое детей Луиса, и его брат Харлан, о котором мало что было известно, и брат Рафаэля Артур, робкий, но упрямый Артур, погибший в тот момент, когда пытался спасти Джона Брауна[3]3
Джон Браун (1800–1859) – один из первых белых аболиционистов, отстаивавших вооруженную борьбу как единственное средство преодолеть существование рабства в США.
[Закрыть], и другие – бесчисленное множество, в основном дети, умершие от скарлатины, лихорадки, тифа, воспаления легких, оспы, гриппа и коклюша…
А может, проклятие, как полагал Вёрнон, заключалось в чем-то простом?
«Полученное будет утрачено. Земля, деньги, дети, Бог». Но что кузен Вёрнон – тощий, встревоженный, хронически несчастный человечек, с жидкой и преждевременно поседевшей бороденкой, так и не решившийся признаться Лее в своей любви, испещрявший своими кривыми каракулями старые гроссбухи в черном переплете, которые обнаружил в столе Рафаэля (Вёрнон утверждал, что наступит день, и эти стихи перевернут мир, открыв всем истинные лица его родных – лица тиранов) – что он вообще мог знать? Поэтому никто не слушал его, даже вполуха, – все лишь нетерпеливо отмахивались от него. Но наибольшее раздражение он вызывал у собственного отца, Хайрама: дело в том, что Вёрнон вообще не удался, потому что пошел в мать, которая опозорила семью, оказавшись недостойной высокой чести, отчего ее и постарались поскорее забыть. После того как много лет назад она сбежала из усадьбы, Хайрам, на удивление немногословный, но переполненный желчи, заказал для нее надгробие из дешевого гранита в два фута высотой. «Элиза Перкинс Бельфлёр, да упокоится здесь с миром». Надгробие установили в углу кладбища, на расположенном под уклоном участке, где лежали Квини, Себастьян, Белоносик, Ясенка, Прелесть, Кроха, Лучик, Гвоздик, Горчица, Лютик, Гораций, Малыш, Маргаритка, Мышка, Хвостик и много кто еще; то были разнообразные питомцы Бельфлёровых детей: собаки и кошки, черепашка, необычайно крупный и красивый паук, ласковый енот, не доживший до взрослого возраста лисенок, рысенок с такой же судьбой и даже лесная полевка, а еще почти не вонявший скунс, несколько кроликов, один заяц-беляк и одна из изумительных ошейниковых змей. О расположении материнской могилы на родовом кладбище – разумеется, могиле символической, тела Элизы в нем не было, ведь она и не умирала – Вёрнон предусмотрительно помалкивал.
А может, проклятие было как-то связано с умалчиванием? Ведь, как часто повторяла Делла, мать Леи, Бельфлёры молчали о том, что требовало обсуждения. Они убивали время в дурацких занятиях, например охотясь или рыбача, или за играми (Бельфлёры обожали игры! Причем самые разные – карты, паззлы, шашки, шахматы, свои собственные затейливые варианты шашек и шахмат и другие игры, придуманные, когда за окнами лютовали злые горные зимы; и все виды пряток, в которые по извилистым закоулкам замка дети играли со страстным увлечением – занятие рискованное, ведь однажды, много, много лет назад, один из отпрысков Бельфлёров спрятался в подвале замка размером с пещеру – и навсегда пропал.
Бедняжку искали неделями, с безумным отчаянием, но не нашли даже костей) – с беспечностью маленьких детей, что хватают вещи и тут же бросают, словно время похоже на бездонный, неиссякаемый колодец, а не на некогда легендарный винный погреб Рафаэля, который после смерти владельца и упадка состояния Бельфлёров вдруг мгновенно иссяк. «Они болтают о всякой ерунде», – скорбно и часто повторяла Делла. Большую часть времени она жила на другом берегу озера, в георгианском домике красного кирпича, в самом центре деревни Бушкилз-Ферри. С такого расстояния родные разглядеть ее жилище не могли, зато она их дом видела отлично. Замок Бельфлёров на высоком холме буквально притягивал внимание, он упорно лез в глаза даже в сумерках, когда его озаряли косые оранжево-алые лучи солнца, а озеро погружалось в собственную загадочную тьму.
– Они болтают о жареной свинине, о яблоках в карамели и об оленьих рогах, – говорила Делла, – даже когда все вокруг рушится. В канун Рождества они идут кататься на санях, один из их родных гибнет – а на следующий день они обмениваются подарками как ни в чем не бывало, ни словом не упоминая о трагедии – не хотят упоминать. (Правда, ее мужа Стентона Пима, который действительно погиб, катаясь на санях, спустя всего полгода после свадьбы и оставил бедняжку Деллу на четвертом месяце беременности Леей, Бельфлёры никогда не считали «родным», так что, возможно, обвинение Деллы было безосновательным.)
Не исключено также, что проклятие Бельфлёров заключалось в их безнадежных, а порой непримиримых разногласиях по любому вопросу. Дядя Джермейн, Эммануэль – девочка видела его лишь раз в жизни, он появлялся в Долине крайне редко и без предупреждения, так как питал ярую неприязнь к тому, что сам называл городской жизнью, к «слишком натопленным комнатам» и «женской болтовне» – надписал на всех картах местности ее оригинальное индейское название – Наутаугамаггонаутаугаунна-гаунгавауггатааунагаута, означавшее – приблизительно, конечно (дословно перевести его было невозможно): «Место, где ты гребешь со своей стороны, а я со своей, а Смерть гребет между нами». «Ох уж эти глупые индейские названия, – говорили женщины из семейства Бельфлёр. – Почему они не выражают свои мысли напрямую, как мы?» Благоговение Эммануэля перед индейцами и индейской культурой (которой, считай, больше не существовало, потому что по соглашению 1787 года индейцев выселили с гор и с плодородной долины у реки. Теперь их осталось всего несколько тысяч, да и те жили в одной-единственной резервации к северу от Пэ-де-Сабль) было предметом насмешек почти всех родственников, не понимающих, как к этому относиться. Конечно, Эммануэль был «чудаком», однако даже это не объясняло его тяги к индейцам и его еще более пылкой тяги к горам. Видимо, в нем говорила кровь Иедидии и, наверное, самого Жан-Пьера – незадолго до смерти этот последний опустился до того, что завел себе любовницу, чистокровную скво из ирокезов. (Но сам-то Эммануэль – познал ли он хоть одну женщину? Его братья Юэн и Гидеон обожали эту тему и, обсуждая ее, – редкий случай! – даже не ссорились. Гидеон не сомневался, что у Эммануэля наверняка имелся сексуальный опыт, а Юэн обычно добавлял, да, но, возможно, тут обошлось без женщин, что вызывало у обоих приступ гогота. О своем старшем брате Рауле, жившем в ста милях к югу от Кинкардайна, чья сексуальная жизнь была и впрямь экстравагантной, они говорили редко.)
– Бельфлёры, – сказал однажды Эммануэль, – ведут вечную войну, нрав у них, как у хищника-одиночки. И сам он не желает становиться жертвой проклятия. (Однако про Эммануэля поговаривали, что он и сам находится под действием проклятья или чар – так как он осмеливается судить других?)
Задолго до того, как Бромвел, брат Джермейн, сбежал от семьи и прославился – то есть сделал себе имя в большом и загадочном мире, что раскинулся к югу, – он любил, по-детски шепелявя, но с врожденной авторитетностью повторять, что «проклятие» сомнительно; однако если на протяжении нескольких поколений череда событий в семье наводит на мысли о «проклятии», то, несомненно, тут есть почва для поиска научных объяснений; однако в таком случае речь идет о генетической предрасположенности, а не о суевериях. Бромвел, щуплый мальчик, рано, еще в детстве, начавший лысеть, с очками в тонкой металлической оправе, с высоким лбом, словно в броне твердых плоских костей, с короткими тонкими пальцами, вечно крутившими остро очиненный карандаш, обладал врожденным даром ввернуть в нужный момент резкое словцо, заставляя собеседников (чьи глаза порой уже стекленели: а кто выдержит пятидесятиминутную лекцию о непостижимой сути бесконечности, о довольно тоскливом процессе размножения водорослей или о едва заметном воздействии силы земной гравитации на Солнце. Это – тут же пояснял возмутительно талантливый ребенок – лишь один из примеров, доказывающих теологические соображения, согласно которым Бог зависит от Своего единственного свободомыслящего создания, Человека. У кого, будь то даже тугоухие, улыбчивые и благочестивые вдовы, бабушки и тетки, хватило бы терпения выслушивать столь пространные соображения от ребенка, которому не исполнилось еще и десяти?) стряхнуть с себя дрему. Внезапная, похожая на укол непристойность лишь подкрепляла сделанный слушателями неприятный вывод, что мальчик не только талантлив (каковым, несмотря на его эксцентричность, они почти признавали и Вёрнона, чудаковатого сына Хайрама), но и прав.