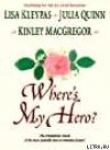Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 52 страниц)
Небо
Ненасытный Гидеон Бельфлёр!
Доподлинно неизвестно (вести счет было бы недостойно в глазах Гидеона), скольких женщин он любил в своей жизни – любил, если можно так сказать, взаимно; и тем более неизвестно, сколько женщин любили его. (Безнадежно, вопреки судьбе, даже когда его жестокий нрав стал притчей во языцех.) Но несколько человек в Инвемирском аэропорту, в том числе бывший пилот бомбардировщика Цара, который станет инструктором Гидеона, знали, что последней женщиной, которую он любил, была высокая неприветливая и загадочная Рэч – она носила облегающие мужские брюки, куртку-хаки и появлялась на аэродроме каждые семь – десять дней, всегда беря напрокат единственный «хоукер темпест», истребитель, чудом выживший в последней войне. «Темпест» был гордостью небольшого аэродрома: у него был двигатель мощностью 2000 лошадиных сил. И Рэч всегда выбирала именно эту дерзкую машину!
Гидеон влюбился в нее одним ноябрьским днем, когда случайно увидел, как она шла по ангару, спиной к нему, с раздражением заправляя свои темные, неопределенного оттенка волосы под шлем, а вся ее узкоплечая фигурка была в нетерпении устремлена вперед. На ней, как обычно, были мужские брюки. И потрепанная куртка-хаки или, возможно, рубашка. И шлем, к которому, как положено, крепились летные темно-желтые очки. Гидеон уставился ей вслед, потеряв нить разговора, который вел с Царой. Мгновенно, не отдавая себе отчета, он ухватил взглядом ее поджарые ягодицы и бедра, длинную, гладкую линию спины, резкий взлет локтей, когда она убирала волосы, в нетерпении направляясь к своему самолету. Когда Гидеон не ответил на заданный Царой вопрос, тот произнес с печальной улыбкой: ее фамилия – Рэч. Это все, что я могу вам сказать. Мы даже не знаем точно, куда она летает.
Перед этим Гидеон любил жену Бенджамена Стоуна, до нее – девятнадцатилетнюю красавицу по имени Хестер, а еще раньше… Но все эти связи заканчивались плохо. Внезапно и плохо. Со слезами, угрозами, порой – угрозами покончить с собой – и непременно с жалобными причитаниями: «Что я сделала не так, Гидеон, в чем я провинилась, почему ты не смотришь на меня, почему так переменился…» Как это было утомительно, предсказуемо, а часто глупо! – стоило чувству Гидеона остыть, а это могло произойти за одну ночь, даже за один час – и начинались женские попреки; а щеки, покрытые слезами, по-собачьи тоскливые глаза и губы, которые он больше не желал целовать, вызывали у него легкое отвращение. «Что я сделала не так, Гидеон!», спрашивали женщины, иногда дерзким, а иногда – хриплым от отчаяния, по-детски неуверенным голосом; почему ты разлюбил меня, что я такого сделала, умоляю, дай мне еще один шанс, почему вдруг…
Хорошее воспитание не позволяло Гидеону просто оттолкнуть женщину или крикнуть ей в лицо: имей хоть каплю гордости! (Как и большинство Бельфлёров, он презирал тех, кто плакал на людях или в ситуациях, когда слезы были совершенно неуместны.) Он едва сдерживался; чтобы не заключить отвергнутую возлюбленную в объятия и покрыть ее лицо поцелуями, чтобы только успокоить ее – но он знал, что лишь продлит ее страдания. Встречал он и женщин, которые, поняв, что любовь прошла, со всей страстью и отчаянием уповали на его жалость – это презреннейшее из чувств! – и поэтому поневоле выработал тактику: вести себя как можно холоднее и рассудительнее, впрочем, неизменно галантно, пока женщина не смирится с тем, что он больше не любит ее, что «необыкновенное чувство», которое она пробудила в нем, просто-напросто зачахло.
Но почему, задавал он себе вопрос, порой с раздражением, почему все они его любят? Да еще с такой страстью?
Насколько проще была бы жизнь, часто думал он, родись он с другой внешностью! Как у его кузена Вёрнона, к примеру. Или – с другой повадкой, с другой аурой.
За месяцы, что прошли после аварии, Гидеон все больше задумывался о своей жизни, хотя думать и тем более – размышлять о чем-либо было совершенно чуждо его природе. Вообще, размышления, то есть уклонения от действий, с тем чтобы систематически думать, он считал занятием не только не мужским по природе, но и нелепым: как человек может увлекаться мыслями, всего лишь мыслями, когда перед ним лежит весь мир! Но после пребывания в больнице Гидеон начал раздумывать о своей жизни, хотя это лишь изредка касалось его семьи и брака и всего прочего, связанного с замком; зато он часто вспоминал многочисленных женщин, с которым имел связь на протяжении своей жизни.
А ведь он любил их, и каждую – со всей страстью. Любил до боли, беззаветно и отчаянно. Одну за другой, одну за другой… Его нужда в них была какой-то первобытной, неудержимой, почти пугающей; а его сексуальный голод – неутолимым. Что вовсе не отпугивало женщин – напротив, он пробуждал в них ответную страсть. Или, возможно, лишь пародию на страсть – скорее, желание, в основе своей детское, обреченное, возбуждать его аппетит, одновременно утоляя его, и таким образом тешить свое самолюбие: мол, как же я хороша и неотразима, если способна породить в мужчине такую бурю! Оказалось, что множество неприглядных слухов, которые расползлись по окрестностям – например, что он якобы причина смерти не одной девицы, – вовсе не отталкивали от него прочих, он даже догадывался, что такая репутация работает на него. Но каким порочным, абсурдным, никчемным все это казалось! Его теща, злорадная, полная презрения Делла, однажды исхитрилась и прошептала ему на ухо: после бедняжки Гарнет ни одна женщина не будет с тобой счастлива, – и, хотя тогда Гидеон ответил лишь коротким кивком, сейчас он понимал, что ее слова оказались вещими. Но разве все эти женщины, скованные по рукам и ногам цепями самообмана, заслуживали счастья? Да и сам Гидеон – все еще, безусловно, привлекательный мужчина – был уже не тот, что прежде.
Он глядел на себя со стороны, бесстрастно, даже со своего рода ироническим одобрением. Кожа его приобрела землистый оттенок, даже немного желтушный (а в определенном, освещении отливала бронзой) и туго обтягивала резко выступающие скулы. Пока он лежал в больнице, его подвергали бесчисленным унизительным осмотрам и несколько раз обривали голову, так что волосы у него росли неравномерно, жесткими клочьями серебристо-стального цвета, которые он с трудом мог расчесать. Теперь он был безбород, впервые за многие годы. Его заостренный костистый подбородок, как и чувственные губы в форме лука, словно искривленные в нетерпении, не сулили нежности. Глаза в окружении глубоких теней сверкали, сверкали ярче, чем прежде, и он напоминал, не правда ли (так Гидеон, разглядывая «незнакомца» в зеркале, потешался над самим собой), поджарую и подозрительную длинноногую морскую птицу с острым клювом. Его тело как-то усохло – не только живот и талия, но и грудь, и плечи, и бицепсы, и он был уже не так мускулист, не так силен, как когда-то; к тому же – или это ему лишь чудилось? – он как будто стал на дюйм-другой ниже ростом. Казалось, его скелет оседает, проваливается внутрь. А еще он теперь прихрамывал, что придавало ему своеобразный шарм, – сказывалась травма правой коленной чашечки.
Гидеон Бельфлёр, как же ты изменился! И все же он ясно видел: это по-прежнему он, Гидеон. И он по-прежнему хорош, с этим угрюмым, голодным взглядом, с холодной, как у рептилии, улыбкой, которая, похоже, возникала на его лице непроизвольно. Женщин тянуло к нему, они были без ума от него, подчиняясь (после борьбы, которая могла быть намеренно затянутой или мгновенной) его желаниям – это и называлось «любовью», «романами», столь невероятно захватывающими в начале. Может, если он снова обреет голову и будет ходить с эдаким злобным, хитрым и угрожающим видом, как уголовник, думал Гидеон, женщины станут его бояться?.. Или толку будет не много?
Единственная женщина на свете, которая никогда не испытывала к нему желания и уж тем более любви, была Лея. Так что он был свободен, не так ли, свободен, как птица, он пьян этой свободой и совершенно безгрешен! Мир лежал у его ног, ему оставалось лишь исследовать его. И разве не его собственная теща предсказала, что после Гарнет ни одна женщина не будет с ним счастлива?
И все же Гидеон влюбился – в эту женщину, Рэч, имени которой он так и не узнал.
Еще до встречи с ней в маленьком аэропорту к северу от Инвемира Гидеон испытывал к воздухоплаванию очевидный интерес – правда, весьма капризный: он то нарастал, то вдруг полностью пропадал. Затем, прошлой весной, Гидеон договорился о проведении полномасштабного (и дорогостоящего) опыления своих полей при помощи самолета – и на него произвело большое впечатление мастерство немолодого уже пилота Цары. Тот с царственной уверенностью низко парил над полями пшеницы и люцерны, то разворачиваясь, то возвращаясь на прежний курс, то устремляясь вверх в последний момент, у самой лесополосы и направляя в небо старую потрепанную «цессну», казалось, безо всяких усилий, а затем, снижая скорость, шел вниз – и снова устремлялся ввысь; единственный винт с постоянным числом оборотов был почти невидим глазу, а низко расположенные крылья и задранный хвост то казались бесцветными, то сияли в лучах солнца словно охваченные пламенем. Каким виртуозом был Цара! Гидеон тогда наблюдал за ним из своего автомобиля с кондиционером, полностью задраив стекла, а Цара, пролетая совсем низко над дорогой, помахал ему рукой. Кажется, даже подмигнул. А может, Гидеону это почудилось.
В тот миг он ощутил, что Цара (мужчина далеко за пятьдесят, совершивший на последней войне более двухсот боевых вылетов на бомбардировщике), обладает свободой, превосходящей все когда-либо испытанное Гидеоном. Эта скорость, эта сноровка! И дерзость! И отвага! Цара в летном шлеме и очках – наемный пилот с почасовой оплатой, на своем скромном самолете, летящем низко над полями Бельфлёров и оставляющем за собой белое облако, – был, в сущности, его, Гидеона, слугой, и все же обладал превосходством и знал неведомые ему тайны.
Проворство самолета, даже при солидном довеске в виде 1800-фунтового бака с химикатами, в глазах Гидеона превращало автомобиль в жалкое пресмыкающееся.
После той аварии автомобили стали вызывать в нем своего рода отвращение. Нет, не сами машины – его по-прежнему восхищал их внешний вид; его раздражал тот факт, что человек за рулем вынужден передвигаться по дороге; по жалкой полосе асфальта или, хуже того – по грязи или гравию. Как это было предсказуемо, как… приземленно. На самой резвой своей машине он мог разогнаться до ста двадцати пяти миль в час по Иннисфейлскому шоссе, и то глубокой ночью или ранним утром, – тогда как даже «цессна», самолет-опылитель, развивал скорость в сто пятьдесят одну милю, а уж «фэрчайлд» с открытой кабиной летал куда быстрее. А ведь был еще «хоукер темпест» с укороченными, низко расположенными крыльями и ладно скроенным корпусом слепящего красно-черного окраса.
Кто эта женщина, допытывался Гидеон, та, что всегда берет истребитель? Откуда она знает, как им управлять? Где она получила права? О ней и впрямь никто ничего не знает?
Только одно: ее фамилия Рэч. Хотя даже это не точно: она замужем за мужчиной по фамилии Рэч, которого здесь ни разу не видели.
Высокая, стройная, плоскогрудая. С мальчишескими бедрами. И всегда, за секунду до того, как Гидеон замечал ее (он теперь постоянно околачивался на аэродроме), уже с надвинутыми на глаза очками, нетерпеливо заправляющая волосы под шлем. Волевая челюсть, сжатые губы, чудесная загорелая кожа. Профиль у нее, как отметил он почти с неприязнью, был аристократический – нос чем-то напоминал его собственный. Он полагал, что ей лет тридцать, может, чуть больше… Не молоденькая девушка, это точно – а он устал, ох как он устал от умоляющей, трепещущей, безутешной страсти юных дев! Возможно, она даже старше, подумал он, почти столкнувшись с ней однажды, когда она спешила к своему самолету. Да сколько бы ей ни было – ему всё любо. Даже если она просто взглянет в его сторону.
Он стоял на взлетной полосе, прикрывая рукой глаза и наблюдая, как она выводит машину, – стоял, не сходя с места, несмотря на оглушительный рев мотора, с надеждой – надо сказать, призрачной, – что она вдруг не справится с управлением на взлете и самолет покатится, клюя носом, на маковую лужайку. Он стоял на взлетной полосе из шлакобетона, дрожа на ветру в легкой одежде, и глядел, как «хоукер» уносится все дальше, пока совсем не пропадет из виду, взмывая выше и выше, а потом уходя влево, на запад, в сторону гор. Иногда он ждал, пока Рэч вернется, хотя она всегда отсутствовала подолгу, и его немного задевало, что она видит: вот он стоит здесь, такой основательный, так крепко привязанный к земле, ждет и надеется. Ждет ее. Ждет чего-то.
Он теперь испытывал отвращение и к земле как таковой. Его швырнуло на нее бесцеремонно, словно какую-то тряпичную куклу. Когда его бросило сначала о ветровое стекло «роллс-ройса», потом прижало к дверце и вытряхнуло на колючее поле снятой кукурузы, он, роняя капли крови в августовскую пыль, кричал: «Джермейн! Джермейн! Боже мой, что я натворил!» (Да и позже, уже в больнице Нотога-Фоллз, придя в себя от наркоза, в полубреду, Гидеон продолжал звать девочку. С чего он взял, удивлялись люди, что взял с собой в безумную гонку по шоссе свою трехлетнюю дочь?)
Отвращение к земле, к самому себе. Позволил обдурить себя этим мерзавцам, которые испортили его машину. (Но раз он знал об этом, можно ли считать, что его обдурили?) Нелюбовь к самому себе. К передвижению по земле. Почему человек обречен ходить по земле всю свою жизнь? А теперь Гидеон еще и калека, и у него ноет правое колено, и он ужасно напоминает своего отца, которого перестал любить давным-давно, уже трудно припомнить с каких пор.
Джермейн!..
Далеко от дома, в безымянных городках, часто – бок о бок с безымянными женщинами, Гидеон просыпался с ее именем на устах. Джермейн, что, уже пора?
Нам наконец пора умереть?
Ненасытный Гидеон!
Теперь он был одержим небом и самолетами.
Что есть небо, каким образом мы попадаем туда? Как отрываемся от земли?
Влюбился в эту Рэч, а она либо не замечала его, либо приветствовала коротким кивком. От любви к ней его кровь становилась медленной и вязкой, дыхание неровным.
«Цессны» и «фэрчайлды», «бичкрафты», «стинсоны», «пайпер-кабы» и прочие маленькие легкие машины, переваливаясь выруливали на взлетную, проносились над маками, ловили ветер и взмывали ввысь, ввысь…
Он полюбил запах керосина и моторного масла. И тревогу, панику, почти физически ощутимую (ведь всегда есть риск, что самолет разобьется в момент удара шасси о землю), когда Цара возвращался с одним из пилотов-стажеров. Может, мне начать брать уроки? Выставить себя на посмешище? А почему бы и нет, черт побери!
Он мерил шагами маленький невзрачный аэродром, фальшиво насвистывая какую-то мелодию. Болтал о том о сем с механиками, которые сами ни разу не поднимались в воздух, да и не собирались, зато у них были определенные соображения – выдвигаемые довольно осторожно – о том, кто такая эта Рэч. (Кстати, ее права на управление самолетом были выданы в Германии.) Он бросал монеты в сигаретный автомат, потом курил прогорклые сигареты; его вдруг охватывал голод – и он жевал шоколадные батончики из автомата в конторе управляющего. Гидеон влюблен, ненасытный Гидеон влюблен. Когда «хоукер» выкатывался на взлетную полосу, поднимался вверх и начинал свой постепенный подъем, Гидеон чувствовал, будто вслед за ним устремляется его душа, истончаясь, редея, пока совсем не растворялась в холодном прозрачном воздухе, и слышалось лишь хлопанье раздутого ветроуказателя. Гидеон знал: это бьется его собственное сердце.
Ненасытный Гидеон Бельфлёр, неприкаянный, дрожащий силуэт на взлетном поле, несчастный, бездомный.
Цара знал, что Бельфлёры собираются купить аэропорт, но никогда не обсуждал сделку с Гидеоном; если он и открывал рот (а это случалось нечасто), то говорил исключительно о предстоящем полете да о погоде.
В первый раз он поднял Гидеона в воздух на биплане «кёртис» с поблекшими от времени желтыми крыльями – своем собственном самолете. Гидеон забрался в кабину, чувствуя, как у него на глазах за толстыми стеклами летных очков наворачиваются слезы. В его жизни наступил поворотный момент, это ясно. Он теперь совсем другой человек. Сердце колотилось в груди, как в детстве, и ему было дико страшно.
Что есть небо, каким образом мы попадаем туда? Как отрываемся от земли?
Старый самолет покатился по взлетной полосе, покачиваясь и вибрируя, и, когда он в последний момент поднялся в воздух (полоса худосочных маков унеслась назад с поразительной скоростью), у Гидеона вдруг перехватило дыхание, и он громко закричал – с детским восторгом, смешанным с ужасом. Ах, как это прекрасно! Невероятно! Они летели! Поразительно – он никак не мог унять дрожь. Его подбородок трясся, дыхание сперло. А когда самолет рванул вверх, желудок Гидеона, будто связанный с землей невидимой нитью, ухнул вниз.
Земля провалилась. Подумаешь, просто отделилась ненужная поверхность. Гидеон в изумлении глядел, как небо разворачивается перед ним и открывается во всем своем величии. Маки исчезли. Поросшее сорняками поле, прилегающее к аэродрому, тоже. Сейчас они, борясь с ветром, в бешеной тряске летели над лесом. Потом над полем. С такой высоты казалось, что река Похатасси вьется по зимним полям узкой полоской, сверкая, словно змеиная чешуя – такой он никогда ее не видел. Цара направил самолет к реке – и вот она уже позади, унеслась куда-то назад. Поля, леса, квадраты фермерских участков, дома, амбары, силосные башни, разные постройки, скот, пасущийся на заснеженных пастбищах, все было такое миниатюрное и продолжало уменьшаться, ведь они устремлялись все выше и выше – как дико, как чудесно, как невероятно! Конечно, это было обычное дело, да и сами самолеты – обычное дело; Гидеон знал, что ему нечего бояться, и все же не мог унять дрожь, не мог прогнать с сияющего лица безумную, счастливую улыбку. Наконец-то! Вот это радость! Вот это свобода! Его сердце в полете! Его дух парит высоко над землей!
Вот оно, правда же? – прокричал он Царе, который, разумеется, не мог его слышать.
Веселая свадьба
Сколько было пылких межконтинентальных телеграмм, а в ответ – закапанных слезами писем; сколько тактичных, со вкусом выбранных подарков посылал лорд Данрейвен своей застенчивой возлюбленной (в канун Михайлова дня – старинное кольцо с одной розовой жемчужиной, на Рождество – японскую шаль, словно пронзенную ярко-фиолетовыми и зелеными всполохами, на Крещение – миниатюрную немецкую музыкальную шкатулку, выстланную изнутри черепаховыми пластинами и кованым серебром, – бедняжка Гарнет знала, что не должна принимать их, но ей не хватало духу возвращать подарки из опасения оскорбить чувства поклонника). А когда лорд снова приехал в Америку, вскоре после Нового года, и, разумеется, был приглашен погостить к Бельфлёрам, он неделю за неделей лично доставлял письма для Гарнет в дом миссис Пим, неделю за неделей добивался там «встреч наедине» (разумеется, Делла находилась в соседней комнате, в качестве своего рода дуэньи), неделя за неделей – бессонные ночи, все более нетерпеливые мольбы со стороны лорда при слабеющем сопротивлении со стороны Гарнет; пока в конце концов, к вящему изумлению окружающих, и не в последнюю очередь – самого Данрейвена, девушка не согласилась стать его женой.
– Я не могу сказать – я просто не знаю, сумею ли я когда-нибудь почувствовать к вам любовь, подобную той, какую, по вашим словам, вы испытываете ко мне, – рыдала Гарнет в его объятиях. – Но… но… Если вы и впрямь не считаете меня недостойной, если действительно втайне не испытываете ко мне презрения из-за того, что я отдала свое сердце и душу другому – ах, как опрометчиво! – если, как вы утверждаете, брачные узы со мной осчастливят вас и избавят вас от отчаяния, тогда… тогда я не могу отказать вам, ведь вы, лорд Данрейвен, по всеобщему убеждению, самый добрый человек на свете, самый щедрый и самый честный…
От слов Гарнет и без того румяное лицо лорда стало совсем пунцовым, и в первые секунды он, казалось, даже не понял – не смел понять их смысл. Но через мгновение, прошептав: «О, дорогая моя! Любовь моя, Гарнет!» – он сжал ее в объятиях еще крепче и запечатлел на ее трепещущих губах горячий, страстный, мужнин поцелуй.
Гарнет Хект – сиротка-полуприслуга, неродная внучка старого Джонатана Хекта, бесприданница, малообразованная и, со времени ее постыдной связи с Гидеоном Бельфлёром и рождения незаконного ребенка, – предмет жалости всей округи, эта самая Гарнет Хект станет супругой лорда Данрейвена! Станет женой безупречного джентльмена и проведет с ним всю жизнь в фамильном поместье в Англии!
«Это поистине невероятно», – говорили все.
«Невероятно, – говорила Лея. – Наша бедная крошка Гарнет станет леди Данрейвен!»
Конечно, не обошлось без лавины сплетен и кривотолков. Однако, как ни странно, лишь немногие злословили по этому поводу. Ибо Бельфлёрам было совершенно очевидно, что девушка всерьез сопротивлялась натиску лорда; что она всерьез намеревалась прервать общение с ним, и не единожды; и речи не шло о том, что она соблазнила его или заставила жениться на себе хитростью. Гарнет, считали они, вела себя с честью. И хотя она не принадлежала к членам семьи, но проявила истинно бельфлёровскую последовательность – в самом деле, какая досада, что они не могли гордиться ею как родственницей.
Прабабка Корнелия предложила устроить свадьбу в замке – все шло к тому, что, если Морна действительно выйдет за сына губернатора Хорхаунда (а их отношения развивались стремительно), свадебный прием состоится в доме губернатора, а не у Бельфлёров. Но точно не раньше июня – если состоится вообще.
– Вы должны позволить нам сделать все, что в наших силах, – обратилась Корнелия к застенчивой паре. – Ремонт в западном крыле почти завершен – третий этаж готов для приема гостей, комнаты одна лучше другой; сам этаж, безусловно, станет идеальным гнездышком для новобрачных – там просторно, и никто вас не потревожит…
Но в результате Делла настояла – и, конечно, никто не смел ей перечить, – чтобы свадьбу отпраздновали у нее. Гарнет и лорд Данрейвен должны пожениться в англиканской церкви в Бушкилз-Ферри, а после будет небольшая вечеринка в ее доме.
– Гарнет, как все знают, мне больше чем дочь, – сказала Делла, и губы ее дрожали, словно она едва сдерживала слезы. – Я буду скучать по ней – скучать безумно. Но я желаю ей только счастья. Этот брак ниспослан ей свыше. Если там, наверху, и правда кто-то есть.
Так что и венчание и празднование решили устроить на том берегу озера. Но предстояло определить дату. Дело в том, что лорд Данрейвен, естественно, желал обвенчаться как можно быстрее (ведь он так долго ждал, так бесконечно долго ждал согласия своей любимой, а был он не так уж молод; кроме того, ему не терпелось вернуться на родину), но Джонатан Хект был совсем плох, и существовало опасение, что он умрет со дня на день. Доктор Дженсен не давал никакой надежды. Действительно, мертвенно-бледный старик уже напоминал труп. Корнелия с Деллой обсуждали ситуацию часами. Если рискнуть и назначить свадьбу на начало марта, как, по всей видимости, хотел лорд Данрейвен, велика была вероятность, что Джонатан как раз скончается – и тогда свадьбу придется отложить. Но дожидаться его смерти они тоже не могут – это выглядело бы ужасно. Самое разумное – устроить свадьбу немедленно, но это тоже невозможно, потому что спешка породила бы волну сомнительных слухов, что повлияло бы на торжественный характер церемонии.
В конце концов свадьбу назначили на первую субботу марта, накануне Великого поста.
И свадьба состоялась день в день, без каких-либо помех. Были опасения, что в последний момент Гарнет может передумать – потому что она продолжала сомневаться в правильности этого брака, как и в том, заслуживает ли она любви лорда Данрейвена; но она твердо держалась своего решения и произнесла обеты новобрачной ясным, уверенным голосом. Свет еще не видывал невесты столь изысканной красоты, говорили все. И столь веселой свадьбы.
Небольшая церковь была с большим вкусом украшена лилиями, белыми розами, белыми и розовыми гвоздиками; жених, чьи серебристые волосы были тщательно зачесаны назад, был просто неотразим; ну а невеста – ах, невеста была ослепительна: ее узкие бедра и маленькую, упругую грудь выгодно подчеркивало простого кроя белое платье со сборчатым лифом, а на густых волосах медового оттенка, разделенных на прямой пробор и двумя волнистыми прядями ниспадавших на виски, лежала накидка фламандского кружева – та самая, в которой венчалась Делла. И держалась Гарнет великолепно – нет, не стоит опасаться, шептали даже не слишком сентиментальные из Бельфёров, что она вдруг, покраснев от стыда, побежит по проходу вон или разрыдается в самый важный момент. Ее безупречная молочная кожа сияла (следы страданий последних двух лет бесследно исчезли); а благородно удлиненная шея, как и утонченная грация манер, словно подчеркивали: теперь она действительно леди Данрейвен. Единственное, что выдавало волнение новобрачной, это букетик белых и розовых гвоздик, дрожащий в ее руках.
Помимо красоты невесты и нескрываемой любви, которой светилось лицо жениха, эта свадьба стала незабываемой и по другой причине: древний старик Джонатан Хект не только ухитрился дотянуть до этого дня, не испортив праздник, но даже – что, очевидно, стоило ему сверхъестественных усилий – поднялся со своего одра и, пересев в инвалидное кресло, которым он не мог по слабости пользоваться уже лет шесть, явился на свадьбу – и «отдал замуж» невесту.
– Вот так номер! Какой сюрприз! – сказал дедушка Ноэль, пожимая после церемонии руку старику. – Я смотрю, ты идешь своим путем – как и все мы, а?
Ноэль был самым разудалым и шумным гостем на свадьбе. Он заявлял, что с радостью готов смешить народ, перецеловал всех женщин на приеме и настаивал на танце с новобрачной – как если бы она была его дочерью.
– Леди Данрейвен, так, значит? Леди Данрейвен? Я не ошибаюсь? – говорил он, подмигивая и обнимал зардевшуюся невесту, пока не подоспела Корнелия и не увела его. – Ты тоже идешь своим путем! Теперь я это вижу! Я прекрасно это вижу!
Стало быть, Гарнет и лорд Данрейвен наконец-то поженились и вскоре отплыли в Англию, где им предстояло жить до конца дней в добром согласии; веселая свадьба и вправду стала предвестницей счастливого брака. В январе следующего года они отправили телеграмму, так и не полученную, о рождении у них сына; но в целом после отъезда общение между ними и Бельфлёрами практически сошло на нет.
– Что правда, то правда, – говорила Делла с печальной улыбкой. – У каждого из нас свой путь.
И всё же…
За каких-нибудь два дня до свадьбы Гарнет тайно вызвала своего любовника Гидеона и с горячностью проговорила с ним около сорока пяти минут.
Она сказала, что хочет лишь попрощаться с ним. Ведь, как ему известно, в субботу она выходит замуж и вскоре после этого отбывает в Англию. Жизнь её делает поворот, которого она не могла предвидеть.
– Между нами… Между мною и тобой… столько всего произошло, – запинаясь проговорила она. – Будто бы мы… Будто мы и впрямь были женаты и вместе скорбели о потере нашего ребенка. Поэтому… поэтому мне захотелось попрощаться с тобой… Наедине.
Глубоко тронутый Гидеон взял девушку за руку и поднес ее к своим губам. Он что-то пробормотал о ее изысканном обручальном кольце – небольшая розовая жемчужина в старинной оправе, – мол, он ничего подобного не видел.
– Да, – рассеянно отвечала Гарнет, – оно очень красивое… Лорд Данрейвен – прекрасный человек, и я с трудом… с трудом… – глядя в сумрачное, меланхоличное лицо своего возлюбленного (ведь он тоже страдал, возможно, сильнее, чем она), она потеряла нить своих мыслей.
Немного погодя, Гидеон отпустил ее руку. Он пожелал ей счастья в браке, там, на ее новой родине. Как она думает, она когда-нибудь вернется в Америку?
Нет, полагала Гарнет. Лорд Данрейвен не раз выражал желание «устроиться на одном месте» – после этого изнурительно суматошного года; было очевидно, что он привык к куда более размеренному образу жизни.
– Он по натуре спокойный человек, – сказала Гарнет. – В отличие… в отличие от тебя. И твоей семьи.
– Да, он прекрасный человек, – промолвил Гидеон. – И заслуживает счастья.
Какое-то время оба молчали. В дальней части дома раздавались бравурные звуки пианино и весело смеялись дети; от камина исходил приятный запах пылающих дров; дверь в комнату, где они находились, была прикрыта неплотно – и, толкнув ее, к ним зашел кот – Малелеил собственной персоной, ослепительно красивый в своей зимней шубке. Вопросительно мяукнув, он резво подбежал ближе, словно они с Гидеоном были близкие друзья. В свете люстры в его янтарных глазах, казалось, светился скрытый ум, а роскошный серебристый хвост веером распушался кверху.
– Что ж… – произнесла Гарнет. Она остановилась, часто моргая. – Я только хотела… Я подумала, раз до субботы осталось всего…
Гидеон тяжело кивнул.
– Да, нужно столько всего подготовить, могу себе представить. Ты будешь вся в делах.
– Миссис Пим рассказала мне… что ты купил аэропорт, в Инвемире, это так? Ты учишься летать на самолете?
– Да, – ответил Гидеон.
– Но разве… Разве это не опасное занятие?
– Опасное? – переспросил Гидеон. Он наклонился и стал гладить красавца кота по голове; казалось, это отвлекло его внимание, – Но мужчина всегда должен к чему-то стремиться, как же иначе. Только в движении жизнь.
– А твоя жена не возражает? – сказала Гарнет тихим, дрожащим, отчаянным голосом.
– Моя жена? – спросил Гидеон, словно не понимая.
– Да, неужели она не возражает? Ведь это, конечно, очень опасно. – Гидеон рассмеялся и выпрямился. Гарнет не могла истолковать его реакцию. – Только в движении жизнь, – проговорила она. – Я запомню это.
Она улыбнулась своему возлюбленному прелестной и печальной улыбкой, столь обворожительной, что ему пришлось отвести взгляд.
– Что ж, – прошептала она, – наверное, нам пора попрощаться. Полагаю…
Малелеил потерся о ее ноги и завел свою булькающую горловую песню, но, когда она нагнулась, чтобы погладить его, он вдруг уклонился, запрыгнул на спинку стула, а оттуда на каминную полку. Хрустальная ваза, задетая его хвостом, зашаталась и чуть не упала.
– Да, наверное, пора, – сказал Гидеон.
Он был сейчас совсем смиренен, почти торжественен. Хотел ли он зарыдать, закричать в голос, как она? В последние месяцы у него на лице появилось скорбное выражение. Но, несмотря на впалые, изборожденные морщинами щеки, глаза с темными тенями и почти жестокий изгиб губ, он был по-прежнему неотразимо хорош собой. Гарнет почувствовала укол блаженного испуга: она понимала, что обречена носить образ этого мужчины в самом потаенном уголке сердца всю свою жизнь.