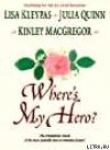Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 52 страниц)
Предложение
В тот день, когда со свинцового неба впервые за зиму падал снег, когда не прожито и недели со скандальной и скоропалительной свадьбы прабабки Эльвиры и безымянного Старика-из-потопа (событие столь принципиально частного характера, что на него не было допущено большинство родственников – присутствовали только Корнелия, Ноэль, Хайрам и Делла, и то их объединяло возмущение, несогласие с этой затеей; однако, из почтения к чувствам своей матери, а также ввиду бесповоротности ее решения, они хранили гробовое молчание и выстояли десятиминутную церемонию с бесстрастными, растерянными, застывшими лицами); когда, в тот же день, Гарт и Золотко впервые привезли в замок своего ребеночка на смотрины (Гарт-младший был таким миниатюрным, что при взгляде на него все думали, что он, должно быть, родился недоношенным, но это было не так: он был прекрасно сложенным, даже хорошеньким младенцем и родился точно в назначенный срок), – именно в тот день Джермейн, которая спряталась в нежилой комнате, потому что была очень напугана, невольно подслушав ссору между родителями, совершенно случайно и к своему крайнему огорчению (причиной которому было не только нежелание шпионить за взрослыми – ведь она была необычайно честным ребенком, – но и боязнь попасться), стала свидетелем еще одного сугубо личного разговора – а девочка не имела возможности покинуть комнату, пока оба его участника, после чрезвычайно страстного диалога, длившегося не менее десяти минут, наконец не удалились.
Девочка прибежала в одну из комнат первого этажа, чтобы спрятаться – не от своих родителей (ни Лея, ни Гидеон не подозревали о ее присутствии – настолько бешеная ярость их охватила), но от их жутких образов, этих приглушенно-повышенных голосов, от воздуха, будто пронзаемого клинками и осколками льда и острыми когтями, от кисловато-рвотного привкуса в горле; не слишком соображая, что делает, Джермейн влетела в комнату, которую после ремонта минувшей осенью называли Павлиньей (потому что Лея приказала оклеить ее роскошными шелковыми обоями с изображениями павлинов, фазанов и каких-то других грациозных птиц с хохолками на перламутровом фоне, в стиле китайского свитка XII века), и забилась за кушетку, стоявшую напротив камина. Девчушка лежала там неподвижно, вся кипя от непонимания. Она не знала, по поводу чего ругались папа с мамой, но остро чувствовала точные, искусные, жалящие, порочные укусы их взаимных «шуточек» – особенно Леи.
А потом в комнату вдруг ворвались двое, продолжая обоюдострастный спор.
– Но я не могу не говорить вам этого! – воскликнул мужчина.
Джермейн не узнавала голосов. Они говорили сдержанно, но были явно взволнованны. Кто-то – вероятно, женщина – подошел к камину и прислонился лбом то ли к каминной доске, то ли, опершись о камин, к собственной руке. Второй человек уважительно держался на расстоянии.
– Я просто не понимаю вас, – заговорил мужчина. – Да, вы можете отвергнуть меня раз и навсегда и с презрением повернуться ко мне спиной – это я смог бы принять; но что у вас нет ни минуты времени, ни милосердия, ни даже… чувства юмора, чтобы выслушать меня…
Женщина беспомощно рассмеялась.
– Ах, но ведь вы не понимаете моих обстоятельств!
– Я прошу прощения, дорогая моя, но я навел справки, очень деликатно…
– Никто не мог рассказать вам, это точно!
– Мне рассказали только, что вы несчастливы, что вы одна во всем мире – юная женщина такой отваги, такого характера! Что вы страдали…
– Страдала! – Женщина рассмеялась. – Вот, значит, как обо мне говорят? Это правда?
– Говорят, что вы много страдали, но решили никому ни о чем не рассказывать.
– Могу я спросить, кто именно говорит?
Молчание, буквально секунду. А затем мужчина сказал, умоляющим голосом:
– Дорогая моя, я бы предпочел не называть имен.
– В таком случае, не говорите. Я не могу просить вас нарушать конфиденциальность.
– Надеюсь, вы не обиделись?
– На что мне обижаться?
– На то, что я тайно расспрашивал о вас.
– Ох…
– Но какой у меня был выбор, дорогая моя? Как новый здесь человек, я знаю, что должен непременно проявлять осторожность в выборе собеседника. Ведь вы же знаете, уверен, что знаете: этот дом просто кишит всякими интригами – заговорами, планами, расчетами, надеждами – и некоторые, лично на мой взгляд, совершенно безумны. Так вот, как новый человек, я был принужден двигаться на ощупь, как сомнамбула. Потому что с той самой ночи я совершенно точно знал, о чем мечтаю, но не мог открыть свое сердце из опасения глубоко ранить ту или иную даму – у которых, скажем так, были на меня виды.
– Так они хотят вас женить?
– Таковы мои догадки. Но, кажется, они в нерешительности – видимо, еще не пришли к общему решению, – поэтому в настоящее время я относительно свободен. Конечно, не считая того, что я, – добавил он как бы вскользь, – навсегда в плену.
Женщина издала подавленный звук, наверное, всхлипнула.
– Но я ведь просила вас не говорить об этом!
– Дорогая, у нас так мало времени – как вы можете отказывать мне? Я имею в виду, отказывать мне в возможности высказаться? Мы ведь так редко бываем наедине, с тех пор как вы запретили…
– Я знаю, так будет лучше, – отвечала женщина срывающимся голосом. – Или скорее – знаю, что непременно произойдет.
– Но неужели вы не сжалитесь надо мной – ведь я только прошу вас взглянуть на меня! Повернитесь ко мне. Не желаете? Ведь вы, без сомнения, знаете, как я ценю вас. Как боготворю вас.
– Я прошу вас… Я буду вынуждена уйти…
– Но вы знаете, что с той самой ночи…
– Я предпочитаю не вспоминать о той ночи. При этом воспоминании меня переполняет стыд и унижение.
– Но, милая моя…
– Вы делаете мне больно, вспоминая об этом.
– Как вы неразумны…
– Нет, это вы неразумны! – в запальчивости проговорила женщина. – Прикидываясь моим другом, вы преследуете меня куда более жестоко, чем это делают мои враги!
– Враги! Разве у вас есть враги?
Женщина молча мерила шагами свободное пространство комнаты. Джермейн слышала, как она ловит ртом воздух.
– Я сказала слишком много… – прошептала она. – Я не должна…
– У вас не может быть врагов. Чтобы люди намеренно желали вам зла?
– Боюсь, мне следует уйти, прошу меня извинить.
– Но вы обещали поговорить со мной, и мы только начали…
– Я обещала не подумав. Теперь я вынуждена изменить решение.
– Прошу, не будьте столь жестоки! Не только по отношению ко мне, но и к себе! Я вижу, вас что-то гложет, и вы хотите повернуться ко мне, хотите говорить со мной – не правда ли? Дорогая моя, почему вы не верите мне?
– Это невыносимо! Нет, я просто не могу позволить вам говорить так, учитывая обстоятельства.
– Но что за обстоятельства? Вы молодая женщина, незамужняя; по всей видимости, не имеющая ни долга, ни обязательств перед своей семьей, насколько мне известно; а я, – тут он вдруг с горечью рассмеялся, – я холостой мужчина, но немолодой, если не считать моей неопытности.
– Прошу вас, не смейтесь над собой.
– Но как я могу удержаться от этого, когда, получается, я смешон в ваших глазах? Слишком презренное существо, чтобы выслушать его, даже полушутя…
– Вы меня не так поняли, – отвечала женщина, в слезах. – Вы – вы просто не знаете моих обстоятельств!
– В таком случае вы должны открыть мне их!
– Умоляю вас. Я просто не могу… я не могу… это выносить.
Женщина расплакалась, а мужчина, видимо, хотел подойти и утешить ее; но – (Джермейн, сжавшись в комочек за кушеткой, всем существом чувствовала его муку) не посмел. Через некоторое время, когда были слышны лишь безутешные всхлипывания женщины, он сказал:
– Моя дорогая, вы, верно, опасаетесь, что между вашим и моим происхождением лежит неодолимая пропасть? Мне трудно это выразить, мне недостает красноречия и деликатности, но… Причина в том, что вы совсем одиноки и у вас нет наследства и что моя семья будет возражать… возражать против нашего…
Всхлипывания продолжались с новой силой. Казалось, бедняжка совсем утратила власть над собой. Мужчина говорил, постепенно повышая тон, и Джермейн представлялось (хотя она съежилась, крепко прижимая кулаки к ушам, потому что ей было так стыдно это слушать!), что он пытался собрать все свое мужество и заключить бедную женщину в объятия – но не мог сдвинуться с места. Теперь оба находились чуть поодаль от камина, в другом конце комнаты.
– …против нашего брака?
Женщина произнесла нечто нечленораздельное.
– О, неужели я обидел вас? – в отчаянии воскликнул мужчина. – Самим упоминанием слова брак? Я надеялся, что в моих устах оно прозвучит не столь одиозно.
– Я этого не вынесу! – вскрикнула женщина.
Затем раздался шорох и возглас непритворного изумления, как будто женщина попыталась пройти мимо мужчины, а он вдруг преградил ей путь.
Сердечко Джермейн забилось от стыда и страха: что будет, если они увидят ее!.. Она сидела на полу, спиной к кушетке, зажмурившись и крепко прижав колени к подбородку. Она не хотела, не хо-те-ла ничего слышать; не хотела слышать тайные, сугубо личные, страстные речи взрослых. (В которых так много сказано, и все же так много невысказанного! Частые отлучки ее отца; его дорогие машины; письмо, полученное Леей от какой-то девушки – или от ее матери… И как Гидеон сказал маме: я же больше не претендую на тебя, так почему ты вдруг решила претендовать на меня, после всего, что было? А та холодно отвечала: ты бы мог хотя бы подумать о ребенке и о том, как это на нее влияет, – а Гидеон возразил: ребенок? Какой ребенок? Разве у нас до сих пор есть общий ребенок?
А за неделю до этого – возмущенные, полушепотом, реплики по поводу прабабушки Эльвиры и Старика-из-потопа: он, должно быть, ее бывший любовник. Как можно было позволить старой дуре выйти замуж, в ее-то возрасте, да еще за кого – за эту развалину! – бессильно говорил Хайрам. Как это скажется на семейном состоянии? Пожелает ли она изменить завещание? А Ноэль сказал: как ты смеешь называть нашу мать дурой! Тебе ли говорить! Я не говорю, что это удачный брак – да и какой брак можно назвать удачным? – но, если мама счастлива, а похоже, это так, и хочет выйти замуж во второй раз, в возрасте – Господи Боже мой, ведь ей скоро сто один год? – мы не должны препятствовать ей. А старик, насколько я могу судить, совершенно безвреден – спокойный, дружелюбный, не капризный… Да он в маразме! – воскликнул Хайрам. Его мозг, должно быть, откисал в том наводнении много дней!.. Он только и делает, что постоянно улыбается, словно знает, что мы будем содержать его до конца дней. А если мама умрет первая и вся усадьба достанется ему, а когда он умрет, заявятся его наследнички? Что, если нас выгонят из дому? И здесь обоснуются мужланы?..
А еще раньше – краткие, обрывочные разговоры между Юэном и Леей, после смерти Вёрнона: если бы ты узнал наверняка, кто его убийцы, но не нашел свидетелей? Ты мог бы просто взять и отомстить? Да кто бы жаловался? Кто бы посмел жаловаться? Но, когда решишься, тут надо действовать быстро. И не стоит быть более милосердным, чем они.)
Так много сказано, и так много невысказанного.
Тут раздался голос женщины, словно она набралась храбрости:
– Обстоятельства таковы – просто таковы, – что я вас недостойна. Теперь вы всё знаете и должны отпустить меня.
– Недостойны меня! – мужчина рассмеялся. – Как вы можете говорить так, после того как я признался вам в любви, после того как буквально умолял вас позволить мне объясниться? Дорогая, дражайшая моя, просто остановитесь и взгляните мне в лицо.
– Но я не могу! Не могу! – вскричала она. – Я недостойна.
– О чем вы говорите, ради Бога?
– Я… я… у меня была связь с мужчиной, – произнесла она каким-то безумным, сдавленным голосом.
Последовала пауза. Затем мужчина сказал, ровным голосом:
– Что ж – ну да, мужчина… Конечно, мужчина. Мне грустно это слышать, но я не слишком… Я хочу сказать, что не слишком удивлен. Ведь вы, безусловно, чрезвычайно привлекательная девушка, и нет ничего удивительного в том…
– Связь закончилась трагически, прошептала она.
– Он что… Неужели он… воспользовался вами?
– Воспользовался! – Женщина расхохоталась. – Скорее это я воспользовалась его слабостью.
– Как это понять? Почему вы так странно на меня смотрите?
– Согрешила я, потому что влюбилась в женатого человека, – раздраженно сказала она. – Влюбилась, бегала за ним, без ума от любви, не оставляла его в покое, пока наконец… Наконец…
– Что?
– Но вы услышали достаточно! Достаточно, чтобы презирать меня.
– Дорогая моя, ваши слова ранят меня – разве вид мой выражает презрение? Прошу вас, не отворачивайтесь! Разве вид мой не выражает только одно – мою любовь к вам?
– Вы слишком добры… Вы настолько выше меня…
– Не говорите того, о чем пожалеете! Когда вы станете моей женой, когда все утрясется и останется глубоко в прошлом и вы убедитесь, как сильно я люблю вас, тогда вы поймете, насколько несостоятельны ваши эмоции. В сравнении с моей любовью к вам, дражайшая моя…
– Но я ведь сказала вам: я недостойна.
– Но почему? Лишь потому, что, будучи юной, неопытной девушкой, вы не рассуждая влюбились? Я все же подозреваю, что этот человек, о котором вы говорите, воспользовался вами, этот женатый мужчина – я не стану, разумеется, спрашивать, кто он и является ли он членом этого семейства, на что, впрочем, все указывает, нет, я не буду спрашивать, ни теперь, ни в будущем, никогда – даю вам слово, вы должны мне верить! Но я не могу смириться с вашим осуждением, с вашим порицанием самой себя. Если, будучи юной и невинной девушкой, вы влюбились и глубоко страдали, – я могу найти в своем сердце только сочувствие к вам и желание как-то загладить жестокость этого мерзавца…
– Он не мерзавец! Он бог! – воскликнула женщина. – И не нам его судить!
– Значит, мы больше никогда не будем о нем говорить, – медленно проговорил мужчина.
– Тогда знайте, – сказала женщина. – У меня… Я родила от него ребенка. Внебрачного. Не признанного отцом, хотя все вокруг знали.
Джермейн теперь слышала учащенное дыхание мужчины.
– Понимаю, – тихо сказал он. – Ребенок.
– Да, ребенок. Так и не признанный своим отцом.
– Значит, вот как… Вы родили ребенка.
– Да. Именно так.
– И любили его отца.
– Я любила его отца. И до сих пор люблю.
– Ребенок…
– Ребенок.
– В таком случае я… Я должен любить вас обоих, – с чувством сказал мужчина. – Я буду любить дитя так же сильно, как люблю его мать, не судя… Не упрекая. Дорогая моя, я ведь способен… да, я способен так любить. Если только вы поверите мне… Если только не отвергнете. Все это, как вы видите, стало для меня большим потрясением… Но я уверен, что справлюсь… Я уже почти оправился… Если только… если… Я оправлюсь, вот увидите! – сказал он почти в отчаянии. – Я буду любить вашего ребенка так же, как люблю вас, только дайте мне шанс доказать вам это!
– О, вы ничего не понимаете, – прошептала женщина. – Ребенок умер.
– Умер!..
– Ребенок мертв. А я – проклята, и надо было дать мне той ночью утопиться! О, если бы вы тогда отпустили меня – если бы только сжалились надо мной!
Внезапно женщина выбежала из комнаты, а мужчина, в ошеломлении, прокричал ей вслед:
– Дорогая моя! Бедная моя!.. Что вы сказали? – И он кинулся за ней, задыхаясь, спотыкаясь. – Дорогая!.. Бесценная моя… Прошу, не покидайте меня…
Джермейн сидела за кушеткой, всё так же зажмурившись и зажав уши кулаками. Она не желала слышать, не желала знать.
У нее в груди, где-то глубоко, в нижней части, вдруг зародилась боль, словно что-то изо всех сил хотело пробиться к жизни, заявить о себе. Но Джермейн не обращала внимания. Она сидела неподвижно, теперь совершенно одна в этой комнате, в тишине. Ее щеки были мокры от слез, но она не понимала, были это слезы печали или гнева. Она не желала быть свидетелем ничего из того, что внезапно свалилось на нее.
Зеркало
Готовясь к поездке в Швейцарию – в Винтертур, где она должна была, подписав важнейший договор, приобрести солидный участок земли, Лея изучала свое сияющее отражение в зеркале и была им чрезвычайно довольна. И отражением, и зеркалом: ибо даже в далеко не самые удачные дни, когда она просыпалась вся на нервах, не отдохнув после чуткого, беспокойного сна, когда в голове у нее звенело и тряслось, словно в нагруженной тележке, и ее преследовали охвостья фраз из недавних ссор, в зеркале она видела спокойную, собранную и, скажем откровенно – к чему здесь ложная скромность? – красивую женщину. Она вертелась из стороны в сторону, изучая свое отражение. Эти потрясающие глаза… полные, яркие губы… изящный нос… тяжелая копна каштановых волос с медным отливом, ничуть не потускневших с того времени, когда ей было шестнадцать… В ушах у нее красовались серьги с изумрудами, а одета она была в зеленый кашемировый костюм с собольим воротником, который подобрал для нее Паслён (загадочный горбун обожал рыться в ее вещах, которых было не счесть, словно молоденькая, потерявшая голову служанка; а что такого, резко отвечала Лея Гидеону, или Корнелии, или Ноэлю – любому, кто посмел бы сделать ее замечание, – да, пусть он немного уродлив: но разве вы неспособны видеть за внешностью нечто большее?); вот на руку скользнули часы с золотым браслетом – прощальный подарок мистера Тирпица, – и она защелкнула их на запястье.
– Джермейн! – крикнула Лея почти машинально, все еще глядя в зеркало. – Это ты там прячешься?.. Где ты?
Ей показалось на секунду, что в зеркале позади нее мелькнуло отражение девочки; но, когда она обернулась, никого не было. Свет тусклого зимнего солнца придавал обстановке комнаты – и привычным и новым предметам – неуютный вид.
– Джермейн! Ты что, играешь со мной?
Но малышки нигде не было: ни за спинкой кровати, ни за письменным столом, ни за старинным шкафом, который Лея велела поднять сюда из спальни Вайолет; и, поскольку Джермейн вообще редко с кем-нибудь играла – и уж тем более с матерью в утренней суматохе, Лея заключила, что ей померещилось: скорее всего, новая горничная, Хелен, еще одевала девочку в детской после сна. Наверное, это одна из кошек шмыгнула под кровать.
Хотя поездка на поезде до Винтертура да еще, если верить прогнозу, в декабрьскую метель обещала быть долгой, Джермейн ехала с матерью; Лея ощущала необъяснимое беспокойство, если была разлучена с малышкой. Часто бывало, что внезапно, в самое неподходящее время (когда Джермейн, например, купалась, или уже почти заснула, или когда сама Лея обсуждала по телефону крайне важный вопрос) она вдруг ощущала резкое, почти физическое желание оказаться рядом с девочкой, крепко прижать ее к себе, заглянуть в глаза, рассмеяться, поцеловать и спросить, стараясь не выдать голосом тревоги: «Что я должна делать дальше? Что дальше, Джермейн?» И ребенок в эту минуту просто обнимал мать, без слов, но с неожиданной силой: ее ручки обхватывали шею Леи подобно стальному обручу, и та испытывала смесь изумления и восторга. Между ними пробегала искра любви! Нет, это было больше, чем любовь – полное отождествление; словно их тела объединяла одна кровеносная система, несущая одни я те же мысли. Разумеется, двухлетняя девочка никогда не говорила Лее, «что ей делать», и не выказывала мало-мальски осмысленного понимания ее слов, но проходило несколько минут, в течение которых они обнимались-целовались-шептались (Лея сама не помнила, что она лепетала, наверное, обычную ласковую чепуху), после чего она точно понимала, какую стратегию нужно избрать: у нее в голове лампочкой сияла идея, четко сформированная концепция.
Так что Джермейн должна была ехать с матерью в Винтертур, на эту чрезвычайно важную встречу, несмотря на возражения Гидеона и Корнелии; конечно, она брала с собой и Хелен, а еще Паслёна, без которого практически не могла обходиться; в последнюю минуту к ним присоединился Джаспер. (Изначально собирался ехать Хайрам, который на протяжении нескольких месяцев участвовал в этих переговорах вместе с Леей; но после свадьбы матери с этим старым чудаком он стал плохо спать, и у него участились приступы лунатизма; он решил, что спать в незнакомой обстановке будет слишком опасно, даже если при нем всю ночь будет неусыпно находиться слуга. К тому же, признавал он с кривой усмешкой, Джаспер, которому не исполнилось и двадцати, знал больше него самого… Деловая хватка мальчика была не менее крепкой, чем у Леи.)
Она сняла изумрудные серьги, надела «гвоздики» с жемчужинами и покачала головой: в зеркале, к ее безмолвной радости, зимний свет из окна красиво очерчивал ее фигуру (по-прежнему великолепную – хотя она продолжала терять вес, чем доставляла массу хлопот своей портнихе) и, отразившись от зеркала, озарял ее прекрасную гладкую белую кожу. Она была молода, все еще молода, хотя ей пришлось через многое пройти… Хотя время от времени ей самой становилось забавно – и казалось, что она ровесница двоюродной тетки Вероники… Гидеон, ее мрачный муж, заметно постарел; его красивые темные волосы стали серебриться, а на лбу, особенно когда он был раздражен, появлялись горизонтальные борозды, не слишком его красившие. Но, конечно, он был все еще очень привлекателен. Ее злило, даже бесило, что он настолько хорош и что гостьи замка – две или три в этом месяце, даже служанки – например, Хелен, и эта несчастненькая Гарнет Хект с обожанием глазели на него. Какие дурехи! Женщины вообще глупы и вполне заслуживают своей судьбы… Того, что с ними случается, когда они покоряются мужчинам… Однако с тех пор, как Гидеону ампутировали мизинец, возможно, он стал менее привлекателен; возможно, он казался теперь потешным, уродом, презираемым. (Это из-за его идиотского, самоуничижительного упрямства вышло так, что пришлось ампутировать палец. После какого-то укуса у Гидеона на руке началось воспаление, и хотя он, должно быть, терпел боль неделями и замечал ярко-красные отметины, настойчиво крадущиеся все дальше по руке, ничего не предпринимал… Говорил, мол, был слишком занят, чтобы обратиться к доктору Дженсену. Как же Лея выходила из себя, как ей хотелось излупить его кулаками и впиться когтями в это смуглое, надменное лицо! А ты бы так и сгнил заживо, правда, дюйм за дюймом, лишь бы насолить мне…)
Но она его не тронула. Она даже не заговаривала с ним насчет мизинца. Чушь какая, абсурд, мизинец!.. Держалось в секрете, правда, не слишком строгом, что Гидеон теперь проводил ночи в другой спальне, в противоположном конце коридора, хотя, ради приличия, или из равнодушия, продолжал держать почти всю свою одежду в их комнате. Слуги, конечно, знали, они не могли не знать – впрочем, какое это имело значение: теперь у Гидеона были его шикарные дорогие машины (например, двухместный «роллс ройс», к своему смятению узнала Лея, стоил почти как семейный лимузин, в котором умещалось восемь человек, не считая водителя), и его долгие отлучки без объяснений (Лея предполагала, что они связаны с его собственными сделками и инвестициями, потому что Гидеон с Юэном предпочитали не вкладывать свои деньги в семейный капитал, ссылаясь на причины, которых никто не понимал), и эти его непредсказуемые, убийственно-мрачные, тяжелые и черные, как бездна, «настроения» (Лея презирала их как откровенное проявление самовлюбленности); в самом деле, какое все это имело значение?
Лея-в-зеркале подняла подбородок выше, ничуть не подавленная. Ей-то было совершенно наплевать на мужа; это можно было заключить по ее беззаботному виду. Напротив, она выглядела, да, в сущности, и была молодой девушкой, которая вот-вот пустится в очередное приключение – с уверенностью, достойной сомнамбулы, идя по тропе, проложенной для нее судьбой.
Это зеркало, которое принесли наверх из спальни Вайолет, когда Лея решила расширить свою комнату (пришлось снести стену, а старые затейливые окна со свинцовыми средниками заменило современное, из цельного стекла), чтобы в нее поместился огромный письменный стол и другие новые предметы мебели, было одним из самых красивых антикварных предметов в замке: размером три на два фута, в тяжелой золотой раме с богатым орнаментом, инкрустированной слоновой костью и нефритом на манер старинных канделябров. Лея велела поднять зеркало в свою комнату вместе с прекрасным, правда, грубоватой работы, барельефом с изображением герба Бельфлёров, который висел теперь на стене над ее столом.
Это антикварное зеркало (очевидно, любимая вещь Вайолет), как выяснилось, совершенно особенное. С одной стороны, его отражению нельзя было верить (вероятно, дело было в игре света): оно показывало далеко не все, что представало перед ним, словно обладало придирчивым вкусом – но Лею отображало безусловно верно, во всей красе. Она перед ним одевалась и укладывала волосы, отрабатывала разные гримаски, а иногда просто долго всматривалась в свои отраженные глаза: так Лея словно разговаривала не только со своим идеально воспроизведенным отражением, но со своим внутренним «я», разумеется скрываемым от досужих взглядов.
«Ты меня знаешь! О, кто знает меня, как не ты!» – смеялась Лея в зеркало, пробегая напряженным языком по передним зубам, похлопывая по затылку своей пышной, покрытой лаком прически. Если в комнате не было Паслёна (Лея часто пускала его в свои покои – ведь он был таким асексуальным, таким своим), она могла даже, чуть наклонившись, тронуть свое отражение губами в порыве невинного тщеславия, словно девица перед балом.
«Никто не знает меня так, как ты», – шептала она.
И это была чистая правда. Потому что, возвращаясь в своей номер на восемнадцатом этаже «Винтертур-армз» после фантастически успешного дня, когда им удалось отхватить очередной солидный ломоть прежней империи (мало-помалу, постепенно, они восстанавливали первоначальные владения Жан-Пьера, только, конечно, теперь это были не дикие леса, но фермы и сады, лесопилки и фабрики, и деревни, целые деревни и даже части городов) и Лея могла по возвращении в замок с триумфом заявить, что они уже ближе чем на полпути к заветной цели; так вот, возвращаясь в свой номер страшно уставшая, но все же торжествуя, упиваясь своим заслуженным успехом и чувствуя, с какой уверенностью и силой бьется ее сердце, Лея вдруг поймала свое отражение в зеркале лифта – настолько непохожее на нее, что она с негодованием рассмеялась.
В этом широком, парадном, безвкусном зеркале она видела женщину не первой молодости, с неприятным, землистым цветом лица и резкими, даже стервозными вертикальными складками по обеим сторонам накрашенного рта. Вероятно, когда-то она была хороша собой, но теперь глаза ее погасли, а волосы, впрочем, с модной профессиональной укладкой, были тусклыми, безжизненными, им не хватало объема. В ушах у нее покачивались длинные серьги с натуральным жемчугом, на фоне которых кожа ее выглядела почти желтушной, а меховой воротник жакета казался искусственным. Вот мерзкое зеркало, какой досадный промах в глазах далеко не скупых постояльцев «Винтертур-армз»! Лея больше никогда не смотрелась в него, лишь машинально поправляла сзади прическу. Освещение в лифте было не из лучших, а качество зеркала так и вовсе плачевное…
Нет, она могла доверять только старинному зеркалу в своей комнате.