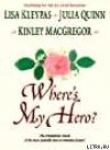Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 52 страниц)
Силы
Живот Леи, огромный, раздутый. На пятимесячном сроке казалось, будто она уже на сносях, и ребенок в любую минуту появится на свет. Какие странные беспокойные сны мучили ее, когда она полулежала, откинувшись на подушки. Мышцы ее ног теперь прятались в распухшей плоти, ее изящные лодыжки распухли, а глаза словно глядели внутрь, дивясь ее фантазиям, буйным и странным. Ее ли это фантазии или нерожденного ребенка? Она ощущала силу этого существа – в голове ее плавали сны, от которых она задыхалась и дрожала, они приводили ее в растерянность. Чувствуя этого ребенка, она мысленно глядела на него и не могла уразуметь, чего он хочет от нее, чего требует.
«Я должна выполнить некую миссию, – а часто думала она, сжимая и разжимая кулаки, ощущая, как ногти впиваются в ладони, в нежную плоть, горячую и мягкую, – я стану средством, способом, благодаря которому осуществится эта миссия», – думала Лея.
Но шли дни, и мысли исчезали, Лея была чересчур ленивой, чересчур занятой снами, чтобы размышлять.
Ее волосы падали на плечи, потому что плести и закалывать косу, даже позвать на помощь служанку требовало слишком больших усилий. Зевая и вздыхая, Лея откидывалась на подушки. Отекшей рукой она поглаживала живот, словно боялась тошноты и поэтому не желала двигаться: время от времени, когда она меньше всего ожидала, к горлу подступала волна, и это ее тревожило. Прежде желудок никогда ее не мучил, и она гордо причисляла себя к тем представительницам рода Бельфлёров, которые демонстрировали превосходное здоровье – в отличие от других, вечно жалующихся на здоровье.
Лея – лежащая тихо-тихо, будто прислушиваясь к тому, чего никто, кроме нее, не слышал.
Лея – с чертенятами в глазах, словно вкусившая запретной любви, с загадочной улыбкой на восхитительно пухлых губах.
Лея – в старом кресле-лежанке в своей гостиной, окутанная сонной негой: прекрасные глаза смежены, прикрытые тяжелыми веками, чайная чашка вот-вот выскользнет из пальцев. (Ее на лету успевал поймать кто-нибудь из детей, а иногда Вёрнон опускался на колени и осторожно вынимал чашку из ее руки.) Лея – дающая слугам указания новым голосом, пронзительным и резким, напоминающим голос ее матери, – впрочем, когда Гидеон опрометчиво упомянул об этом, она сердито запротестовала. Вот еще вздор – Делла круглосуточно только и делает, что ноет, она же всех родных извела своими несносными упреками!..
Лея – красивая, как никогда прежде, пышущая здоровьем, отчего остальные женщины ходили, как побитые (зима стирала с их щек краску, взамен награждая мертвенной бледностью). Во время беременности ее глубоко посаженные глаза, казалось, стали больше – темно-синие, почти черные, живые, с густыми ресницами, они блестели, будто от слез, вызванных, однако, не грустью или болью, а внезапно нахлынувшими чувствами. Смех Леи звенел беспечностью, ее по-девичьи радостный голос порой превращался вдруг в едва слышное журчание – такое случалось, когда ее переполняла благодарность (потому что люди – соседи, друзья, родные, слуги – заваливали ее подношениями, хлопотали вокруг нее, справлялись о здоровье, с непритворным благоговением глядя на ее округлившуюся фигуру). Лишь ее супруг был свидетелем удивительной упругости ее тела, все сильнее пугавшей его по мере того, как шли месяцы: ее чудесная, такая белая, алебастровая, просто изумительная кожа теперь обтягивала живот, всё плотнее и плотнее с каждой неделей, с каждым днем. Что бы ни росло у нее под сердцем, оно уже достигло поразительных размеров и явно готовилось вырасти еще больше, растягивая ее великолепный живот, как барабан, нет, еще сильнее, так что Гидеону оставалось лишь шептать слова любви, разглядывая – или нарочно отводя глаза от внушительного холма на месте ее лона. Неужто он станет отцом двойни или тройни?.. Или ребенка невероятных размеров – даже для семьи, где крупные младенцы были не редкость?
– Ты меня любишь? – шептала Лея.
– Разумеется, я тебя люблю.
– Ты не любишь меня.
– Я тебя до безумия люблю. Просто мне не по себе.
– Что?
– Не по себе.
– О чем это ты? Не по себе? Сейчас? Почему? Ты серьезно?
– Нет, не совсем так, – поглаживая ее живот, Гидеон наклонялся и целовал его, нежно прижимаясь щекой, – я просто млею от восторга. Ты меня конечно же понимаешь…
Осторожно прижавшись ухом к туго натянутой коже, он прислушивался – но что он слышал такого, отчего цепенел, а зрачки его превращались в булавочные головки?
– Что ты там бормочешь? Не слышу, Бога ради, говори громче, – прерывала его Лея и, хватая за бороду или волосы, заставляла взглянуть ей в лицо. Иногда в такие минуты она принималась беспричинно плакать.
– Ты не любишь меня, – говорила она, – я тебя в ужас привожу.
Во время беременности она и впрямь раздалась, а в последние два месяца укрупнились все ее черты: заметно увеличились рот, и раздутые ноздри, и глаза, точно к лицу приросла плохо подогнанная маска. Губы блестели, в уголках рта скапливалась слюна – признак лихорадочного возбуждения, питавшего ее красоту, а может, таково было странное свойство самой ее красоты, и Гидеон, пораженный, отводил глаза. Сейчас Лея стала одного с ним роста. А может, выше – босиком, стоя к нему вплотную, она смотрела ему в глаза, не запрокидывая головы, и улыбалась своей загадочной порочной улыбочкой. А ведь Гидеон отличался высоким ростом – даже в ранней юности он, заходя в чей-нибудь дом, как правило, наклонялся. Теперь Лея сравнялась с ним в росте или даже обогнала, этакая молодая великанша, одновременно красивая и жуткая, а он любит ее. И боится.
Той зимой Лея была бесспорной владычицей замка. Ее власть никто не оспаривал: Лили предусмотрительно оставалась на своей половине, пускай плохо отапливаемой и запущенной, и увещевала своих детей (которые обожали Лею и не слушались матери) не попадаться на глаза их деспотичной тетке. Эвелин в присутствии Леи все больше молчала и шла на уступки даже своему брату Гидеону. Тетушка Вероника появлялась на несколько минут по вечерам, если Лея еще не спала, или ненадолго заглядывала в ее уютную гостиную перед ужином, когда отблески пламени отражались в темных окнах, а огромный роскошный Малелеил дремал у Леи в ногах; она молча замирала, глядя на молодую жену своего племянника, и на ее по-овечьи простодушном лице отражался лишь вежливый интерес, хотя той зимой она подарила Лее множество мелких, но прелестных мелочей, а потом преподнесет крошке Джермейн старинную погремушку, когда-то принадлежавшую матери Вероники и весьма дорогую ее сердцу. Даже бабка Корнелия теперь уступала Лее и не отвечала на дерзости. А прабабка Эльвира, по слабости порой по нескольку дней не спускавшаяся вниз, постоянно справлялась о самочувствии Леи и то и дело передавала ей через слуг и детей советы и наставления. Чтобы провести с Леей последние недели перед родами, в усадьбу, несмотря на явное неудовольствие зятя, перебралась и Делла Пим. С ней приехала Гарнет Хект – не то чтобы служанка, скорее компаньонка. Сама Делла, молчаливая и неуступчивая, не перечила дочери в ее требованиях. И разумеется, все мужчины в усадьбе попали под власть ее чар. Как и почти все дети.
После пятого месяца Лея почти перестала двигаться. Подниматься по лестнице ей стало неудобно, поэтому теперь она проводила ночь в гостиной, выходившей в сад, где полулежала в старом шезлонге на набитых гусиным пухом подушках. Эти покои, которые домочадцы старшего поколения называли «комнатой Вайолет» (несчастную жену Рафаэля много лет назад поглотили воды Лейк-Нуар, и даже Ноэль и Хайрам, ее старшие дети, почти не помнили мать), отличались поразительной красотой: алые шелковые обои, дубовые панели на стенах, алебастровые лампы с круглыми белыми плафонами, а в углу стоял клавикорд, заказанный для Вайолет у молодого венгерского мастера – инструмент небольшой и изящный, однако весьма прочный, собранный из древесины разных сортов. На клавикорде с тех пор никто не играл, крышка его растрескалась, однако он оставался истинным сокровищем этой комнаты. (Лея пыталась играть на нем. Раскрасневшись, с упрямой запальчивостью, понятной в ее «положении», она не бросала попыток, несмотря на то что сохранила лишь смутные воспоминания об уроках игры на фортепиано, которые угрюмо и из-под палки посещала много лет назад в Ла Тур, – однако миниатюрная банкетка на тонких, облицованных дубовым шпоном ножках трещала под ее весом, а распухшие пальцы были слишком велики для изящных клавиш орехового дерева. Она пробовала наиграть «Вести ангельской внемли», и гамму до-мажор, и лихую безымянную кадриль, но звуки – резкие, металлические, визгливые – лишь раздражали ее. В конце концов, она с досадой ударила по клавишам, так что те тихо запротестовали, закрыла инструмент и запретила детям играть на нем, хотя Иоланда, касаясь клавиш нежно и благоговейно, почти научилась выводить узнаваемые мелодии.) Ковер здесь почти не утратил первоначальной толщины, расцветая прихотливыми узорами алого, зеленого, кремово-белого и темно-синего, почти черного. В гостиной Вайолет имелось множество старых стульев – причем некоторые, по старинной моде, были набиты со всей щедростью; конского волоса диван, на котором обожали прыгать дети, отделанный перламутром платяной шкаф с гравировкой родового герба Бельфлёров (расправивший крылья сокол и обвившая его шею змея) и камин из плитняка в семь футов высотой. Одно время над каминной полкой висел портрет Вайолет, но несколько лет назад его сменил темноватый, сильно потрескавшийся пейзаж неясного происхождения, который относили к эпохе итальянского Возрождения. Комната была набита любопытными вещичками, которые дети стаскивали сюда со всего дома: грозного вида тигр, выточенный из китового зуба (будто бы похожий на Малелеила), латунные подсвечники с допотопными свечками, не желавшими гореть, необычное кривое зеркало фута три высотой в аляповатой рамке из нефрита и слоновой кости – оно появилось в гостиной уже несколько лет назад, но никто не позаботился о том, чтобы повесить его, поэтому оно стояло, прислоненное к стене, и некоторые предметы в его странно искривленном стекле казались неузнаваемо искаженными, а другие вообще исчезали. (Однажды, жадно расправляясь с вишнями и орехами в шоколаде и позволяя ненасытному Малелеилу облизывать ей пальцы, Лея взглянула на зеркало и изумленно вздрогнула: в пространстве, втиснутом в раму из желтой слоновой кости и мутноватого нефрита, не было ни ее самой, ни Малелеила. Когда Рафаэль, сын Лили, наклонился к ней за конфетой, зеркало лишь подернулось дымкой. В другой раз в комнату вошел сияющий Вёрнон, и в зеркале появилась узкая, закрученная спиралью полоска света. А однажды, когда отражение Леи, Малелеила и близнецов было совершенно обычным, мимо них прошла тетя Вероника, после чего вся картинка стерлась и теперь отражался лишь угол комнаты.)
Здесь же стоял столик с паркетной столешницей, за которым Лея с детьми и Вёрноном играли той зимой и весной в карты, и кушетка – некогда невероятно красивое изделие с резными, красного дерева ножками и роскошным, расшитым золотом покрывалом, на котором бедняжка Лея все чаще отдыхала по мере того, как ребенок рос и становился тяжелее. Сперва Лея старалась скрывать округлившийся живот, особенно когда у них бывали гости – лучший друг Гидеона Николас Фёр, холостяк, давно (во всяком случае, по мнению Леи) к ней неравнодушный, Фэй Рено, подруга детства Леи, а сейчас замужняя женщина и мать семейства, старинные друзья Бельфлёров, соседи, – и она куталась в шали, палантины, пледы, а порой даже прикрывалась сонным Малелеилом, точнее, его громадным пушистым хвостом. Она не ленилась тщательно драпировать живот складками, одевалась в темные бесформенные балахоны и даже вешала на шею нитки жемчуга, а в уши вставляла крупные серьги – если верить бабке Корнелии, такие уловки отвлекали внимание. Ибо вид ее живота приводил в замешательство. Даже кузен Гидеона, Вёрнон, на год или два старше ее самой, так явно и болезненно плененный ею (в унылые дни зимы, когда солнце садилось в три часа дня или вообще не появлялось, этот нескладный бедняга больше всего на свете любил читать Лее стихи: Блейка, Вордсворта, некоторые из монологов Гамлета и вирши собственного сочинения, длинные, нескладные и патетические, нагонявшие на Лею приятное отупение; она лежала, смежив веки, сцепив распухшие пальцы на животе, будто защищая его, а рядом спал кто-нибудь из близнецов, чаще всего Кристабель), – даже Вёрнон с его страстной, но робкой улыбкой и полным надежды взглядом, с благоговейным трепетом читая или декламируя наизусть:
казалось, страшился ее нового состояния; и если Лея охала от внезапного приступа дурноты, или тревожно прижимала руку к животу, унимая постоянную пугающую боль, или даже без всякой задней мысли упоминала о своем положении, существенно усложнявшем некоторые привычные действия – например, мытье головы, да и вообще купание, – то бедняга тотчас вспыхивал и старательно, чуть вытаращив глаза, вглядывался ей в лицо, словно доказывая, что смотрит не туда, и улыбался своей по-детски растерянной улыбкой, спрятанной в бороде. Принадлежа к роду Бельфлёров, он тем не менее не понимал, когда Бельфлёры шутят и намеренно отпускают грубости, чтобы привести его в смущение, а когда – ведь порой случалось и такое – непритворно искренни.
Время шло, длинные зимние месяцы не спеша перетекали в холодную весну с моросящим дождем, и вот Лея, которую и прежде нельзя было назвать малоежкой, впала в обжорство. Под Рождество она прониклась любовью к ромовым пудингам и козьим сырам, затем воспылала неутолимой страстью к перетертым с сахаром абрикосам, тушеным помидорам производства «Вэлли продактс» и перченой ветчине, которую она, вызывая отвращение Корнелии, ела прямо руками. Затем, по мере того, как еще туже натягивалась бледная кожа на ее выпирающем животе, опухали ее многострадальные лодыжки и колени, а грудь, прежде не по фигуре маленькая и твердая, к несказанному огорчению Леи с каждым днем росла, ныла и сочилась молоком, располнела даже ее шея – не потеряв грациозности, по размерам она могла сравниться с шеей Юэна; Лея полюбила стейки с кровью и подолгу жевала их, наслаждаясь каждым куском. Вид же и запах еды, которую Эдна готовила для всех остальных домочадцев, вызывал у Леи тошноту – даже знаменитый торт с бойзеновой ягодой, хотя прежде Лея его обожала. А вскоре Лея повергла в изумление собственного супруга: она, всегда презиравшая неравнодушных к спиртному мужчин, да и женщин, поддавшихся этой порочной слабости, завела привычку выпивать после обеда бокал вина, а потом – две или три бутылки темного эля, любимого напитка Гидеона и Юэна, и немного шотландского виски; вечером, играя в шашки, парчиси[7]7
Настольная стратегическая игра с элементом случайности для 2–4 игроков на игровой доске с фишками.
[Закрыть] или кункен[8]8
Азартная карточная игра, возникшая в Мексике в XVII веке.
[Закрыть], – еще виски (вскоре она пристрастилась к этому любимому напитку Ноэля, и тот с радостью составлял ей компанию: Лея единственная женщина, у которой хватает мозгов понять шутку и посмеяться над ней! – часто повторял старик, окрыленный ее вниманием, вниманием по-королевски прекрасной, несмотря на объемы, молодой женщины, от чего он постоянно пребывал в чувственном опьянении), а совсем поздно, когда даже самые непослушные дети лежали в кровати, Лея кусками поедала горгонзолу, запивая ее старинным терпким бургундским, недавно обнаруженным в винном погребе Рафаэля, который уже давно считался опустевшим, пригубливала испанские ликеры, и мятный французский, и безымянный бренди, благородно переливавшийся золотом – так что к полуночи она впадала в сонливое оцепенение, из которого ее не мог вывести даже Гидеон, и оставалась спать в гостиной Вайолет. Лею укрывали пледами, пододвигали кушетку ближе к ка мину и приносили блюдце свежих сливок Малелеилу – кот обычно устраивался в изножье кушетки, хотя с наступлением весны все чаще покидал замок по ночам.
Она сделалась неряшливой – может быть, всем назло рассуждая: «С чего это я должна стыдиться? Да я горжусь тем, какая я есть!» И Лея махнула рукой на жемчуга и серьги, ведь те лишь раздражали ее, а будь она в состоянии стащить с располневшего пальца обручальное кольцо, она бы и это сделала; теперь на смену темным, неприметным одеяниям, похожим на те, что носила ее мать (Делла находилась в постоянном трауре по мужу, совсем молодым «убитому» Бельфлёрами), пришли яркие, пестрые наряды – причем носила их Лея не только в торжественных случаях, когда в усадьбе бывали Стедмэны, или Николас Фёр, или Фэй Рено, но и в будни. Были среди них платья длиной до пола, с широкими рукавами, расшитые бисером, украшенные перьями или испанским кружевом; другие – с глубоким вырезом, приоткрывавшие налившуюся умопомрачительную грудь, и Вёрнон, нерешительно заглядывая в гостиную с тетрадью с «каракулями» в руках (хотя и крайне тщеславный, своих стихов он стеснялся и читал их только Лее и некоторым детям, предварительно удостоверившись, что поблизости нет Гидеона, Юэна и его отца, Хайрама. Сами стихи представляли собой сумбурные перепевы его учителей – Блейка, Вордсворта, Шекспира и Гераклита (до бедной Леи с вечно затуманенной головой, сил у которой хватало лишь на то, чтобы лениво перелистывать какой-нибудь научный справочник Бромвела или незамысловатую книгу для чтения маленькой Кристабель, смысл его виршей не доходил, и она с трудом сдерживала почти неодолимую зевоту, когда Вёрнон декламировал их своим особым «поэтическим» голосом – пронзительным, тонким, патетическим), переплетенные с безысходными размышлениями о семейных легендах сомнительной достоверности о проклятье Бельфлёров и его истинном значении. О том, как Сэмюэля Бельфлёра искушали духи, живущие в самих каменных стенах и фундаменте усадьбы; о том, как на самом деле умер Рафаэль и почему настоял – что было не просто дико, но и в корне противоречило его убеждениям, ведь он всю жизнь презирал эксцентричные выходки, – чтобы после смерти с него сняли кожу, выдубили ее и натянули на барабан; почему замок населен призраками и что они вытворяли на протяжении веков (Лея была вынуждена признать, что они здесь и впрямь водятся, однако, как и все остальные, просто держалась подальше от самых жутких комнат и следила, чтобы они были надежно заперты, порой на амбарный замок – ведь любопытная ребятня любую тайну готова разнюхать, только дай); о судьбе Рауля – брата Гидеона (впрочем, в присутствии кузена Вёрнон не отваживался затрагивать эту болезненную тему); почему Авраам Линкольн предпочел провести свои последние годы в уединении в поместье Бельфлёров; что в действительности случилось с его прадедом (Плачем Иеремии); почему его собственная мать Элиза исчезла без предупреждения; и о других причинах, по которым их род был обречен. Однако к этому моменту стихи делались уж совсем замысловатыми, голос Вёрнона превращался в бормотанье, из которого Лея с трудом делала вывод, что спасение несет в себе Вёрнон и всё то, что он олицетворяет, а не прочие мужчины семейства и не то, что олицетворяют они. При этом сам поэт, трепетно жаждущий провести с ней час-другой после обеда – когда ни один мужчина, в частности муж Леи, здесь точно не появится, а рядом находятся только самые благонравные дети – Бромвел, Кристабель, Иоланда и Рафаэль, – да и те заняты книгами и играми или попытками, как правило, неудачными, привлечь внимание Малелеила его собственными очаровательными отпрысками, – войдя в покои Леи, смотрел на ее бюст, на гладкую белую кожу ее огромных грудей и, замирая и запинаясь, произносил слова приветствия, настолько бессильный, что даже краской заливался не сразу, а спустя минуту или две…
«С чего это я должна себя стыдиться? – сердито думала Лея, хотя на самом деле ей было стыдно, по крайней мере, она немного смущалась (потому что помнила, как в юности презирала саму мысль о детях и клялась, что никогда не позволит себе так опуститься). – Почему нельзя гордиться такой, какая я есть?»
– Вёрнон, Бога ради, – нетерпеливо восклицала она, сжимая его холодную вялую руку, – садись же, я тебя ждала. Такая скукота все утро, Гидеон уехал в Порт-Орискани и до завтра не вернется, у него там переговоры по такому сложному и нудному делу, что я даже не стала притворяться и вникать – кажется, что-то связанное с зернохранилищами. Или железной дорогой? Твой отец наверняка знает, но ты его не спрашивай, к чему вдаваться в такие пустяки! Лучше почитай мне, что ты успел сочинить со вчерашнего дня! Налей мне сперва немного эля, да и себе тоже, и будь любезен, передай орешки, если, конечно, дети их еще не все сгрызли, и сядь, прошу тебя, вот здесь, у камина. Ну же.
И, завороженный, Вёрнон Бельфлёр садился совсем близко от Леи, колени у него слегка подрагивали, дыхание сбивалось, он то и дело дергал себя за бороду тонкими пальцами. Начинал он, робея, чересчур громко, с нескольких строк Шелли, или Шекспира, или Гераклита (Этот космос, один и тот же для всего сущего, не создал никто из богов и никто из людей, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерно воспламеняющимся и мерно угасающим), которых, совершенно очевидно, считал своими духовными братьями, и если порой Лея едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться над его самовлюбленностью (для этого она была слишком хорошо воспитана), то в другое время бывала так растрогана, что по щеке у нее вдруг сползала крупная слеза, и маленький Бромвел с присущим ему недоумением исследователя спрашивал:
– Мама, почему ты плачешь?
– Понятия не имею, – бросала она, по-детски утираясь рукавом.
Гидеона вечно не было дома, он постоянно разъезжал по делам своего отца и дяди Хайрама, и поэтому к ней заглядывал Вёрнон (ведь красавцу Николасу Фёру, за которого Лея вполне могла выйти замуж – да, могла, раз уж замужество было неизбежно, – как и Итану Бернсайду, и Мелдрэму Стедмэну навещать ее было нельзя из страха пробудить в Гидеоне ревность); Вёрнон, такой женственный и в котором Лея души не чаяла, хотя порой ее вгоняло в дрему не только его чтение, но и беседы. Гидеон, узнав об этом, совсем не ревновал кузена. Может, чуть презирал его, но не ревновал.
– Садись же, – Лея подавила зевок, – и почитай мне, что сочинил со вчерашнего дня. А то все утро такая скукота, и голова тяжелая, и мне так одиноко…
Хотя Вёрнону еще не было тридцати, его каштановые волосы уже подернулись серебром, особенно заметным на висках, а жидкая бороденка поседела почти полностью. «Какая жалость, – думала Лея, – что у него нет жены. Нет и не будет. Иначе она взялась бы за него и брила ему бороду, и удаляла волоски из ушей, и следила, чтобы он не ходил пять дней подряд в одних и тех же мешковатых брюках и этой засаленной жилетке. Если бы его кто-нибудь целовал, он и выглядел бы свежее…»
Вёрнон, воюя с несоразмерно большими страницами бывшего гроссбуха, взглянул на Лею так – но нет, это невозможно, – словно ее взбалмошные мысли обладали даром проникать в него. Он долго смотрел на нее, и в комнате повисло тягостное молчание. Вдруг Лея вспыхнула, глядя на лицо молодого мужчины – вытянутое, с землистого оттенка кожей, на его чудные глаза (один голубой, другой бледно-карий – похоже, прямо смотрел только голубой глаз, карий же слегка косил влево), на гусеницы бровей, густых, как у Гидеона. Нос у Вёрнона был бельфлёровский – длинный и прямой, на самом кончике мягкий, как воск, однако все остальное рот и особенно глаза – Вёрнон унаследовал от матери. Годы угрюмых раздумий проложили на его узком, с залысинами, лбу глубокие морщины, возле губ залегли преждевременные складки, словно берущие рот в скобки, лицо же отличала почти треугольная форма: подбородок, особенно по сравнению с удлиненным лбом, казался слишком маленьким и в профиль выглядел так, будто стремится сжаться в точку. И тем не менее было в Вёрноне нечто притягательное, располагающее. Хотя мужественностью природа его обделила, и ни на Гидеона, ни на Юэна, ни на Николаса Фёра он не походил, Лея с твердой убежденностью считала его привлекательным именно по причине явной ранимости. Кроме того, молодой человек был застенчиво пылок и кроток, но, едва начав декламировать, он забывал обо всем вокруг, охваченный крепнущей страстью, так что его тонкий, пронзительный голос набирал силу и дрожал.
В поэзии Лея совершенно не разбиралась: в Ла Тур на уроках французского и английского им задавали учить стихи наизусть, однако даже тогда она понимала лишь малую часть, а по окончании учебного года тотчас всё забывала. Тем не менее она восхищалась упорной приверженностью Вёрнона творчеству вопреки сыпавшимся на него насмешкам. (Ох уж эти насмешки! Чего только ему не пришлось вынести с тех пор, как слова вскружили ему голову – не их смысл, даже не их звучание, но сам их вес и качество, – а случилось это в возрасте девяти или десяти лет, когда Вёрнон с головой окунулся в «классиков» – то были фолианты черной кожи в старинной библиотеке Рафаэля.) Лея была не в силах избавиться от легкого презрения к Вёрнону – это чувство испытывали и остальные его родственники: бедняга с позорным постоянством одну за другой проваливал возлагаемые на него Хайрамом задачи. Последний случай произошел на лесопилке в Форт-Ханне, где Вёрнон занял «руководящую» должность, однако, если верить слухам, пытался вести с рабочими дружбу, даже обедал с ними, а после работы водил их по кабакам, где дрожащим от восторга голосом читал им свои стихи, похожие на заклинания, сложенные из длинных ямбических строк и описывающие – кто бы мог подумать – самих рабочих лесопилки, необразованных или почти необразованных работяг, отцами которых были обедневшие фермеры, или батраки, или солдаты, не вернувшиеся с последней войны, – то есть тех, кто в воспаленном воображении Вёрнона воплощал «величие и тайны» честного физического труда, не омраченного размышлениями, не оскверненного одержимостью наживы, свойственной классу собственников. Всё это – прославление суровых бровей, крепких мышц под блестящей кожей, благородного Природного-Начала-в-Человеке – воспевалось в длинных, рифмованных поэмах, которые работяги не слушали и слушать не желали: кроме жалованья, им от Бельфлёров ничего не было нужно, и они предпочитали иметь дело с Юэном или даже с самим стариком – те хоть и не считали их за людей, но не смущали и не злили, сочиняя в их честь душещипательные стишки. В конце концов рабочие из Форт-Ханны выбранили беднягу Вёрнона и даже едва не намяли ему бока в одной таверне на берегу, но побоялись мести Юэна или Гидеона – Бельфлеры славились жестокостью в таких делах.
Став женой Гидеона и только поселившись в усадьбе, Лея едва замечала Вернона, считая его в первую очередь сыном Хайрама. Про случай с лесопилкой она знала, разве что без унизительных подробностей, и неоднократно думала о том, что, возможно, история эта вовсе не такая смешная, как все (в особенности Хайрам) полагают – скорее, печальная и даже трагическая. Она раздумывала, а вдруг Вёрнон потом спрятался где-то и плакал в уединении. Относится ли он к числу мужчин, не стесняющихся плакать?
Вёрнон все смотрел на нее, с чудаковатой полуулыбкой на губах. На лбу у него Лея разглядела мелкие капельки испарины.
– …ты спросила… плакал ли я? – неуверенно проговорил он.
– Что?
– Я не совсем… Я не расслышал, Лея. Ты что-то говорила о…
– Я ничего не говорила, – пробормотала Лея.
– Но как же – мне показалось, я слышал, как ты сказала…
– Ничего я не говорила! – выкрикнула Лея. Щеки у нее пылали. – Я сказала – садись, садись же и прекрати суетиться. И налей нам эля. А больше я ничего не говорила. Разве не так? Кристабель? Рафаэль? Вы тут всё время были – вы что-нибудь слышали? Разве я что-то сказала?
Голубой глаз Вёрнона неотрывно смотрел на нее, и Лее стало жутковато. Привычная уверенность покинула ее, и она вдруг поймала себя на том, что нервно теребит юбку.
– Что еще за глупости про плач! – Она рассмеялась. – Я ничего не говорила про плач.
– Не говорила, это правда, – медленно сказал Вёрнон, – но я… я, кажется, все равно слышал… слышал твой голос. Очень явственно, Лея. Но… но ты и правда ничего не говорила, знаю, – и он покорно умолк.
– Вот именно! Я тут умираю от жажды, пытаюсь сесть хоть чуть поудобнее. Рафаэль, милый, передашь нам вон ту вазочку с орехами? Я такая голодная, едва в обморок не падаю.
Вёрнон посмотрел на лежащую у него на коленях записную книжку так, точно никогда прежде ее не видел. Он был явно смущен, и Лея вдруг захотела, чтобы он исчез. Ох, Бога ради убирайся отсюда! Прочь из моей гостиной! Хочу одна есть орешки, хочу упиться элем, пока не отключусь, какого черта ты сидишь тут, дурак дураком! Я не люблю тебя, и ни одна женщина тебя не полюбит, ведь ты скоморох, пугало огородное, ты даже не мужчина, забирай свои идиотские стишки и проваливай отсюда!
Он вскочил так резко, что даже свои записи подхватить не успел.
Его лицо исказила гримаса – удивления, унижения, боли, – и сердце у Леи сжалось.
– Я… я… я ухожу, – его едва слышный голос срывался. – И не потревожу тебя больше.
– Но, Вёрнон…
Быстро моргая, он попятился. Даже его здоровый глаз отказывался смотреть на нее.
– Вёрнон, ради Бога, что случилось… Что с тобой? – с виноватым видом спросила Лея.
Пятясь, он наступил на доску для шашек, над которой склонились дети, и Кристабель с Рафаэлем сердито залопотали, потом он врезался в каминную заслонку, непрестанно бормоча извинения и уверяя Лею, что никогда больше ее не потревожит.
– Но, Вёрнон, я же слова не сказала! – вскричала она.
От волнения Лея даже умудрилась вскочить, отчего живот перевесил, и ее повело вперед. Она покачнулась и едва не упала, однако ее полные сильные ноги устояли: Лея слегка отклонилась назад и обрела равновесие. Впрочем, к этому моменту Вёрнон уже выскочил вон.
– Вёрнон, дорогой… Вёрнон! Я же не хотела… Я этого не говорила…
Но тот уже захлопнул за собой дверь.
Лея расплакалась. Как же неудачно все вышло, как нелепо, как немыслимо грубо она повела себя по отношению к мужчине, бесспорно обожавшему ее, но, в отличие от Гидеона, безо всякой надежды на обладание ею…
– Тетя Лея, почему ты плачешь? – изумленно спросил Рафаэль.
Ее собственная дочка тоже не сводила с нее глаз.
– Мама?..
Ах, она тоже, как и все остальные, стала чудаковатой! Вскоре дети будут хихикать и перешептываться у нее за спиной. Но не плакать она не могла. Дитя у нее под сердцем шевельнулось, надавив на мочевой пузырь.
– Я не плачу! – в сердцах бросила Лея.
Когда Гидеон вернулся, Лея начала было самым непринужденным тоном рассказывать, что она ужасно оскорбила бедного Вёрнона в его лучших чувствах, но Гидеон, измотанный поездкой и раздосадованный результатом переговоров, пробормотал в ответ нечто невнятное. Не раздеваясь, он лежал на спине, прикрыв локтем лицо. Лея снова весело защебетала, мол, накануне вечером с ней произошло нечто необъяснимое, и она обидела Вёрнона…