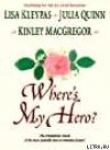Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 52 страниц)
Говорил Паслён немного, но уж если говорил, это был целый спектакль. Лея была у него мисс Лея, он произносил ее имя каким-то полуобморочным шепотом и склонялся перед ней, сгибаясь чуть ли не вдвое, что выглядело комично и в то же время – так думала она сама – трогательно. Он умел играть на губной гармошке, показывал простые фокусы с пуговицами и монетками, а в моменты особого вдохновения – даже с котятами, делая так, что они исчезали и появлялись из его рукавов или из темных глубин его ливреи. (Иногда дети с тревожным изумлением наблюдали, как в его руках появлялись вещи или котята – при том что исчезли совсем другие, точно другие! – это пугало их, и по ночам они не могли заснуть от тревоги за те, пропавшие вещицы.) Несмотря на то что обычно он был настолько молчалив, что сходил за немого, Лея была уверена, что он обладает выдающимся умом и она может доверять его суждениям.
Его раболепие, конечно, вызывало неловкость – это было глупо, раздражало, отвлекало, но, с другой стороны, и льстило – однако, если он чересчур усердствовал в своем обожании, стоило ей дать ему шутливый пинок, как он тут же унимался. Несмотря на свою жутковатую внешность, горбун обладал явным чувством собственного достоинства… Он импонировал Лее, и она ничего не могла с этим поделать. Ей было жаль его, он развлекал ее, ей была по душе его преданность – да, он ей очень нравился, несмотря на то что остальные Бельфлёры – даже дети, даже слуги – этого не понимали.
Просто непостижимо, нет, как это гадко и эгоистично, что они недолюбливают бедняжку Паслёна, думала Лея. А ведь должны бы пожалеть его! Как они могут не замечать его неустанной энергии, его доброго сердца, его готовности (и страстного желания!) работать в замке, не получая жалованья, лишь за ночлег и еду! Ее не удивляло презрительное отношение Гидеона – она всегда считала его глубоко ограниченной личностью, настолько же обделенной эмоционально, насколько Паслён был обделен физически, и любое отклонение от нормы вызывало в нем страх (она вспоминала, как он трясся и мучился при появлении на свет Джермейн, так что ей пришлось потом нянчиться с ними обоими); но ее удивляло, что остальные члены семьи так невзлюбили карлика. Джермейн, видя его, старалась убежать, дети постарше тоже, бабка Корнелия сразу отводила взгляд, а слуги, те вообще поговаривали (поддавшись сплетням суеверной дурочки Эдны, которую давно следовало гнать в три шеи), что он истинный тролль… Подумать только, тролль в доме Бельфлёров, в наше-то время! Но нельзя было отрицать очевидного: его никто не любил, и Лея решила, что не отступит – ни перед глупыми страхами Джермейн, ни перед вялыми, жалкими возражениями свояченицы (Лили не смела вступить в открытое противостояние с Леей – она была такая трусиха), даже перед отвращением Гидеона. Со временем, думала Лея, они полюбят его по-настоящему, полюбят не меньше, чем она.
Но в тот раз, когда его впервые увидела двоюродная тетка Вероника, Лею искренне поразило нечто не просто странное, но, казалось, необратимое в поведении старой дамы. Спускаясь вниз по широкой винтовой лестнице, держась одной рукой за перила, а второй, чтобы не споткнуться, придерживая и слегка приподняв тяжелые черные юбки, Вероника вдруг увидела, как Паслён (в тот вечер он впервые официально исполнял роль «личного слуги» Леи и был облачен в новенькую нарядную ливрею) придвигает стул своей госпожи ближе к огню; и вот, прямо так, с поднятой ногой в высоком ботинке на шнуровке, она замерла на месте, судорожно вцепившись в перила. С каким странным выражением глядела тетка Вероника на карлика, который, поскольку стоял согнувшись в три погибели, сначала ее не заметил. И только когда он начал пятиться назад, без устали кланяясь, то поднял глаза и увидел ее… и на какой-то миг тоже замер. А Лея, которая в другой ситуации скорее позабавилась бы, почувствовала почти неуловимую взаимную настороженность тетки и Паслёна; не то что они узнали друг друга, тут было сложнее – тут было другое (и это было почти невозможно объяснить): словно они оба почуяли своего. Словно то, к чему взывал и от чего бежал один, откликнулось в другом. (Позже Вероника сидела за ужином, как шест проглотив; она притворилась, что потягивает свой бульон и потом гоняла еду по тарелке, будто один ее вид пробуждал в ней тошноту (была такая манера у тетки Вероники – несмотря на свои внушительные объемы, она считалась большой привередой), сделала два больших глотка кларета, после чего извинилась и поспешила обратно наверх, чтобы «предаться отдыху» пораньше.
Не любили Паслёна и кошки. Ни Джинджер, ни Том, ни Мисти, ни Тристрам с Минервой; и в особенности – Малелеил, которого Паслён старался задобрить, предлагая ему свежайшую кошачью мяту (он носил при себе пучки разных трав, бережно завернутые в вощеную бумагу и завязанные ниткой, в нескольких кожаных мешочках и деревянных коробочках), но животное продолжало держаться на порядочной дистанции и не поддавалось на соблазны. Однажды Джермейн застала Паслёна в полутемной зале для гостей, обшитой тиковым деревом, когда он, склонясь еще ниже обычного и держа что-то в обтянутой перчаткой руке, повторял: кис-кис-кис-кис своим резким визгливым голосом – и в ту же секунду Малелеил, вздыбив шерсть на спине и распушив хвост, шмыгнул мимо карлика и выбежал из залы. Паслён постоял, потом понюхал пучок травы, что держал в руке и заковылял вслед за котом: кис-кис-кис, иди сюда, киса, кис-кис-кис-кис… – звал он терпеливо, безо всякой обиды.
Автомобили
В хорошеньком двухместном «бьюике» канареечно-желтого цвета с щегольскими спицованными колесами сбежали Гарт и Золотко, а в маленьком резвом «фиате» (подарок Шаффа на ее недавний день рождения) – красном, как пожарная машина, с кремовым откидным верхом и полированными колесными дисками – одним чудесным осенним утром улизнули Кристабель с Демутом Ходжем, и бегство их, веселое, отчаянно-лихое, проходило короткими перегонами со скоростью в сто миль в час даже по горному серпантину. Новомодный «оберн», матово-белый с серой обивкой и красующимися снаружи выхлопными трубами сияющего хромированного металла, тоже двухместный, уносил по лабиринтам анонимного европейского города – возможно, Рима – юную красавицу актрису Иветт Боннер в фильме «Потерянная любовь», который тайком посмотрела почти вся Бельфлёрова молодежь (обсуждая не только личность актрисы – ведь это, конечно, была Иоланда – или бывает столь удивительное сходство? – но и вероятность того, что в жизни ли, на экране ли, но у нее были пусть и дразняще туманные, но несомненно эротические отношения с молодым усатеньким французом, который столь дерзко и эффектно увозил ее героиню прочь).
Много лет назад (в подтверждение сохранились фотографии в сепии) прадед Иеремия, несмотря на свою незадачливость и душевную угнетенность, все же стал обладателем одного из первых авто в округе, яркого нарядного «пежо», в котором пассажиры (в том числе прабабка Эльвира в разукрашенной шляпе с широкими полями и надежно завязанными под подбородком лентами) сидели друг напротив друга. Отделкой машина напоминала конный экипаж – с открытым верхом, с колесами вроде велосипедных, со спицами, и одним-единственным фонарем. (А узоры, которыми был разрисован кузов, даже на неважного качества снимках выглядели изысканно-прекрасными и приводили Джермейн на ум стеганые одеяла тети Матильды.) Ноэль, Хайрам и Жан-Пьер какое-то время вместе владели прелестной малышкой «пежо-бебе», пока его не отобрали отцовские кредиторы; комфортно в машине мог устроиться только один человек, она ужасно шумела, была небезопасна, с почти до смешного безвкусной отделкой (бирюзовые кожаные сиденья, бирюзовый же обод на колесах; кузов полосатый, черно-золотой; и четыре громадные фары; а латунный клаксон издавал оглушительный, малоприличный звук, призванный отпугивать лошадей встречных экипажей) и имела славу единственного в штате автомобиля подобного класса. И если Хайрама уже в зрелом возрасте никогда не интересовали машины и он отказывался учиться водить (и терпеть не мог даже семейный лимузин, хотя водил его высоко квалифицированный шофер), то не потому ли, что он до сих пор вспоминал «пежо-бебе» с искренним восторгом, а первый «черный период», которым он время от времени был подвержен – когда ощущаешь вокруг беспросветный и безвоздушный мрак, – он испытал, когда машину продали на аукционе. («Зачем что-то любить, если тебя неизбежно ждет потеря, зачем любить женщину, – часто размышлял он, – если наверняка потеряешь ее…» Так что он не слишком всерьез, надо сказать, любил свою юную жену, и не испытывал особой любви к бедняге Вёрнону, чья гибель заставила его испытать стыд – ибо он всегда знал, что парень выставит себя шутом! – не в меньшей степени, чем отеческое горе.)
Очевидно, что «моррис булноуз» Стэнтона Пима вызывал у родни Деллы не меньше негодования, чем его дерзкое стремление жениться – и жить как ни в чем не бывало – на наследнице Бельфлёров; ведь, пусть «буллноуз» и был небольшим по размерам и стоил дешевле, чем любая машина в их тогдашнем семейном парке (шестицилиндровый «напье» и седан «пирс-эрроу»), но его спортивная элегантность и латунная фурнитура возмущала братьев и кузенов Деллы как неуместная и не подобающая младшему служащему банка в Нотога-Фоллз. (После смерти Стэнтона Делла незамедлительно продала ее. И Ноэль, и их кузен по имени Лорен предлагали Делле купить у нее машину – и за вполне приличные деньги, – но она отказалась. Уж лучше я съеду на ней в Лейк-Нуар и утону чем продам одному из вас.)
Жених двоюродной тетки Вероники, Ратнер Норст, называвший себя графом – не исключено, что с полным правом, несмотря на сомнения Бельфлёров (ведь, в конце концов, он был, по крайней мере, по его словам, ближайшим другом знаменитого графа Зборовского, того самого, который владел разнообразной собственностью в Нью-Йорке, развлекался напропалую в Париже и погиб в ужасной аварии на своем роскошном «мерседесе», участвуя в гонке на юге Франции), – водил изумительной красоты «лансию лямбда»: черную, как катафалк, осанистую, царственную, с несущим кузовом и независимой передней подвеской, и Бельфлёры ему завидовали, хотя подозревали, что Норст купил ее с рук: на дверях машины были странные царапины, как и на передних крыльях, а запах, исходивший от мягких сидений цвета металлик сильно напоминал вонь стоячего пруда, если не могильную.
На протяжении нескольких лет у Бельфлёров была только одна «солидная» машина – темно-розовый «кадиллак» со стальными спицевыми колесами, одно из первых произведений «Флитвуд Брогхамз» (в ней были удобные коврики для ног, лампа для чтения с регулировкой на шарнирах и малахитовая фурнитура – и это еще не всё!); именно этот автомобиль, явно нуждавшийся в покраске, получил Гидеон в качестве свадебного подарка, чтобы он мог с шиком повезти свою юную жену в укромный отель для молодоженов; но в то время Гидеон, по уши влюбленный в лошадей, впрочем, как и в Лею, не мог оценить по достоинству семилитровый восьмицилиндровый двигатель автомобиля, который вез их почти бесшумно, хотя неслись они, не всегда осознавая это, на предельной скорости. После позорного проигрыша лилового «пирс-эрроу» в Пэ-де-Сабль Гидеон приобрел через своего друга Бенджамена Стоуна (сына филантропа Уолтема Стоуна, который сколотил состояние на продаже стиральных машин), несколько уникальных автомобилей в Порт-Орискани: великолепную «испано-сюизу»; восстановленный «астон мартин»; «бентли» цвета зеленого бутылочного стекла (ею восхищался лорд Данрейвен); а несколько позже, как раз во время стачки рабочих-мигрантов, – белый «роллс-ройс купе» с практически беззвучным двигателем, ставший бессменным фаворитом Гидеона, по крайней мере, до той страшной аварии.
«Роллс», конечно, был выбран в качестве большого семейного автомобиля почти единодушно; а поскольку состояние Бельфлёров росло и росло, они также приобрели, под сильным нажимом Леи, шестиместный «сильвер-гост» в самом что ни на есть роскошном убранстве: кожаный салон, вручную крашенные приборные щитки, серебряные пепельницы, зеркала в серебряной оправе, фурнитура из золота, пушистые коврики для ног (из меха аляскинского волка – он тогда только появился). С каким потрясающим – и каким уместным – шиком притормозит он у ворот Государственной исправительной тюрьмы Похатасси, чтобы увезти домой Жан-Пьера, бедного, жалкого, с пепельно-бледным лицом, который получит в конце концов помилование губернатора штата. Но, разумеется, не «роллс-ройс» взяла Лея, когда в сопровождении своего слуги Паслёна, Джермейн и юного Джаспера (мальчик так бурно развивался, что, казалось, знал теперь о семейных финансах не меньше Хайрама и лишь немногим меньше, чем Лея) поехала на юг страны в бесплодной и крайне опрометчивой попытке догнать и вернуть обратно свою строптивую дочь Кристабель; в эту поездку Лея отправилась на скромном и практичном «нэше», который, по ее расчетам, не привлечет внимания ни к себе, ни к своим пассажирам. Впрочем, она так и не поймала Кристабель с ее любовником Демутом, а власти так и не нашли их «фиат», хотя Эдгар сразу же заявил об угоне. (Какой щедрый подарок с его стороны, ярко-красный автомобиль-купе с кремовым верхом и ослепительно сияющими дисками! – и все это, как горько сетовала старая мисс Шафф, для того чтобы обыкновенная шлюшка могла сбежать от мужа и семьи; кто знает, не этот ли самый «фиат» и навел ее на мысль завести интрижку и сбежать из Шафф-холла?)
В разные годы – не в строгом хронологическом порядке (потому что Бельфлёры, оглядываясь назад, безо всякого стеснения нарушали этот самый порядок, а на самом деле, по убеждению Джермейн, высокомерно презирали его) – Бельфлёрам принадлежали: лимузин «паккард», седан «пирс-эрроу», зеленый «штутц-биркэт» и некое авто под названием «скриппс-бут» (которое, казалось, никто и не помнил); судя по страховому полису, был еще «проспер-ламбер», очевидно, французского производства, с ацетиленовыми фарами и сиденьями из крашеной лайки. Еще были «додж» и «ла салль» и несколько «фордов», включая две модели «А» – самые неуправляемые из всех. Интерес к автомобилям у членов семейства отличался кардинально, да и у каждого из них на протяжении жизни варьировался; впрочем, Юэн заявлял, что его мало беспокоит, на чем именно ехать, лишь бы добраться до нужного места быстро и без лишних затрат. Так что он, пожалуй, обеспокоенно наблюдал за внезапным увлечением Гидеона машинами, которое, на его взгляд, было менее оправданно, чем его прежняя одержимость лошадьми – ведь теперь Гидеон был все-таки взрослым мужчиной, а не импульсивным мальчишкой.
Сам Юэн был вполне доволен надежным, солидным американским красавцем «паккардом», хотя для своей пассии (разведенки Розалинды Мэнкс, называющей себя поющей актрисой) он приобрел при содействии Гидеона и Бенджамена Стоуна щегольской голубой «ягуар» с обивкой из крашеного кролика и серебряной фурнитурой, который частенько мчался на дикой скорости даже по самым узким улочкам Нотога-Фоллз прямо под носом у дорожной полиции – и словно невидимый для нее. (Юэн был не против, чтобы Лили научилась водить, хотя и не поощрял ее в этом, но, конечно, у него не было времени ее учить, и он с облегчением и благодарностью выслушал мнение Альберта, который пытался учить мать вождению на «нэше» Леи – мол, дело безнадежное). У самого Альберта был «шевроле-каприс», который однажды войдет в боковое столкновение с пикапом одного фермера-арендатора, Альберт получит травмы, а фермер погибнет на месте; Джаспер водил удобный и практичный «форд», всего с парой царапин, а Мор-на получит на день рождения от молодого мужа хорошенький шоколадного цвета «порше». Бромвел же никогда не будет владеть машиной, ему даже не суждено было научиться водить.
Самым старым автомобилем, принадлежавшим Бельфлёрам ко времени появления на свет Джермейн, был черный двухдверный «форд», подарок Делле от доброго дядюшки (одного из братьев Эльвиры) – чтобы она могла при желании ездить по округе; но конечно, Делла так и не научилась водить, и машина стояла годами без дела – аккумулятор давно сел, на сиденьях свили гнезда ласточки – в старом каретном сарае за ее красно-кирпичным домом в Бушкилз-Ферри. Девочкой Лея безуспешно пыталась завести «форд»; она упрашивала Деллу отдать его в ремонт и привести в порядок: если машина будет на ходу, ее парень Николас Фёр обещал давать ей уроки вождения; ведь будет так здорово – разве Делла не согласна? – если они с ней будут кататься по воскресеньям вдоль реки или махнут на юг, на равнину, и даже заночуют там, чтобы сменить обстановку?
– С чего это ты вдруг решила сменить обстановку? – раздраженно отвечала на это Делла (у ее своенравной дочери был такой резкий, требовательный голос!). – Тебе здесь неприятностей не хватает?
И старый черный «форд» по-прежнему стоял в каретном сарае, брошенный, ненужный, будто в пятнах проказы, покрытый слоем пыли с голубиным и ласточкиным пометом – и томится там по сей день.
Демон
В горах, в стародавние времена бродил Иедидия Бельфлёр, кающийся грешник. И когда он увидел, что в хижине Генофера поселился демон, что демон насильно укрылся за покрытой седой порослью грудью старика и теперь дерзко смотрит на него через его стариковские глаза – дерзко и насмешливо, словно подначивая его, Иедидию: ну же, узнай меня! – то понял, что не позволит этой твари остаться в живых.
– Я узнал тебя, – прошептал он, наступая на него.
Демон заморгал и уставился на него. Лицо Генофера изменилось разительно, возможно даже, это было лицо уже мертвого человека, невероятно постаревшего. Хотя Иедидия провел на другой стороне горы всего один год – а может, два, три, – за это время Генофер превратился в дряхлого старика; наверняка именно старческая немощь и позволила демону пробраться в его тело.
– Ну конечно, ты меня узнал! – сказал демон.
– Это не его голос, – сказал Иедидия с улыбкой. – Ты не умеешь подделывать его голос.
– Его? Кого – его? О чем ты?
– Того старика. Генофера. Ты ведь не знал его, – отвечал Иедидия. – Поэтому и не можешь подделать его голос. Меня тебе не обмануть.
– Что ты говоришь? – сказал демон. Изображая испуг, он начал заикаться. – Я Мэк – ты знаешь меня, это я, Мэк Генофер. Ради Бога, Иедидия, ты что, шутишь? Но ты никогда не шутишь…
Иедидия оглядел опушку. Вот лошадь Генофера с провислой спиной, и мул; а его трусоватая гончая лежит, прижавшись животом к земле, и робко мотает хвостом, словно, заключив мир с убийцей своего хозяина, хотела теперь договориться и с его отмстителем.
На грубой деревянной перекладине у входа висело несколько шкур – в крови, с рваными краями, неузнаваемые – енота, выдры ли, белки или рыси? Он не ожидал их увидеть.
– Вот уж не знал, что ты капканами забавляешься, – сказал Иедидия, глядя на существо с язвительной улыбкой.
Настоящий Генофер разразился бы на это своим сипловатым оглушительным смехом, но демон, снова изображая страх, лишь уставился на Иедидию и бесшумно пошевелил губами. Возможно, он молился Дьяволу, но Иедидию это не отпугнуло.
– Ты не можешь оставаться на этой горе. Эта гора священная, – спокойно произнес Иедидия. – Наверное, Геннофер приютил тебя, возможно – я допускаю, – он пригласил тебя переночевать, чтобы было с кем выпить и кому рассказывать свои грязные, мерзкие истории – так? Он никогда не понимал предназначения этой горы и заслужил смерть. Но тебе – тебе нельзя здесь оставаться. Господь не допустит этого.
Губы Генофера приоткрылись в диковатой, растерянной улыбке. Это была не его улыбка, но демона, даже отдаленно она не напоминала улыбку старика.
– Ты нездоров, Иедидия, – произнес демон.
А потом предложил ему выпить – пригласил зайти к нему в хижину и выпить по стаканчику, – но в этот миг Бог наслал на него приступ кашля, и губы его увлажнились темной пеной.
Иедидия стоял на месте, он ждал. Хотя он не испытывал никакого страха перед Дьяволом, его внутренности дрожали от напряжения, и он едва сдерживался, чтобы тоже не зайтись в ужасном, лающем кашле, как старик Генофер.
Залаяла собака, обрубок хвоста болтался из стороны в сторону.
Интересно, подумал Иедидия, в ней тоже демон, собачий демон? Не затаился ли он внутри этого жалкого создания? Должен ли Иедидия убить и его? Или собака была чиста, потому что Князь Тьмы счел ее существом слишком ничтожным для своего прикосновения?
Хотя Бог по-прежнему не желал показать свой лик Иедидии, Он возвестил, что Иедидия есть инструмент, с помощью которого Он будут транслировать Свои послания. Челюсти пожирают, и челюсти пожираются. И снова, куда громче, соперничая с охотничьим рогом: Челюсти пожирают, и челюсти пожираются. Так рек Господь.
В качестве эпитимии за то, что он повысил голос на Священной Горе, Иедидия должен был скитаться неопределенное число дней, или недель, или месяцев – Бог даст ему знать точнее, – а лагерь его должен быть разрушен; если дикие звери разорят его огород и воры ворвутся в его хижину и разграбят ее и сожгут – то воля Бога будет исполнена. Челюсти пожирают, и челюсти пожираются.
В учении Бога был заключен парадокс. Потому что, хотя Иедидия и был избранным (опять же, трудно было различить гнев Господень и Его любовь), тем не менее ему было запрещено покидать горы; так, к примеру, он не мог покинуть Маунт-Блан. Ложась спать, а перед этим борясь со сном, сколько мог (это тоже было указание свыше), он должен был обратить лицо к горе; и тогда, проснувшись на следующее утро, первым делом он увидит гору: пусть это будет первый образ, проникший в его оцепенелое сознание. А в такие утра, когда великая гора была укрыта туманом, Иедидия лежал парализованный, лишь моргая в изумлении, будто, пока он спал, целый мир погрузился в небытие.
Он проповедовал немногим – тем, кого встречал на пути. Зверобоям, вроде Генофера; охотничьим компаниям (как роскошно они были одеты, как дорого, должно быть, стоили их дробовики, винтовки и прочее снаряжение! Они смотрели на Иедидию с жалостливыми улыбками, но все же с почтительным терпением, – но их проводник-индеец, толстопузый могавк, который носил шляпу белых и имел винтовку с серебряными накладками, награждал его взглядом, полным откровенного презрения); и жителям поселения на южном берегу Нотоги, недалеко от безымянного перепутья – всего четырем семьям (они хмурились, улыбались и в конце концов лопотали что-то в ответ, обращаясь к нему на чужом языке – он только знал, что это не французский и что он не сможет разобрать его без Божьего благословения). Еще он приближался к армейским частям, которые шли разрозненными колоннами по пыльным дорогам, но им было не до него, и их командир в шутку – впрочем, может, и не в шутку – целился из ружья в ноги Иедидии и велел ему убираться обратно в лес, «пока не стряслась беда». Не больше повезло ему и с группой рабочих, которые при помощи быков и мулов рыли канал, идущий с востока на запад, из ниоткуда никуда – какое нелепое кощунство в глазах Господа (ибо зачем рыть канал, когда горы буквально пронизаны озерами и реками? Зачем уродовать Божественный ландшафт по тщеславной человеческой прихоти?), – по большей части они не знали английского, а кто вроде бы знал, те не понимали Иедидию, и вскоре он наскучил им, и они стали прогонять его обратно в лес камнями и комьями грязи, выкрикивая непристойные ругательства. Все эти унижения Иедидия выносил ради славы Божьей, всей душой надеясь, что однажды Бог возблагодарит его. Ведь, в конце концов, он был Его слугой: все, чем был Иедидия, забрал себе Бог.
Челюсти пожирают, и челюсти пожираются. Но силы тьмы не желали, чтобы об этой истине прознали. Так что Иедидия знал о врагах Господа, и о врагах своего собственного отца, наблюдавших за ним из темных расщелин, из-за скал и жалких, полусгнивших хижин, которые с виду были давно заброшены, но к которым он страшился приближаться даже в самое лютое ненастье. Порой бывало неясно, кто есть враг Божий, а кто – его собственный: его отец (чье имя Иедидия на время забыл, но в своих беспокойных снах иногда видел порочное лицо старика так ясно, будто оно проплывало перед ним наяву) был, наверное, Божьим врагом, но в то же время он, казалось, настолько погряз в мирской тщете, был настолько занят, что ему было просто некогда задумываться о Боге и уже тем более – бороться с Ним; или это было лишь частью плутовского плана старого грешника? Это правда, что он отрекся от римского католицизма, когда отрекся от своей родины и от родного языка и обратил свои помыслы на запад, и так беспечно отвернулся от своей порочной, растленной Дьяволом религии, словно всего лишь умыл руки; и конечно, это должно было обрадовать Господа. Но место католической религии не заняла для него никакая другая, насколько было известно Иедидии. Он поклонялся деньгам. Да, политической власти, азартным играм, земельным спекуляциям, лошадям и женщинам, деловым предприятиям разного рода – Герофер много ему понарассказывал, а он запомнил так мало, – но в конечном счете только деньгам, ибо все мерил ими: деньги стали его богом. И не был ли этот бог близнецом самого Сатаны?
Но старик, этот порочный старик, хотел, чтобы Иедидия вернулся на равнину. Чтобы он женился и приумножил свой род; чтобы, подобно своему брату Луису, принес в этот мир сыновей и продолжил имя Бельфлёров и их поклонение деньгам. (Что было – но так ли это? – равнозначно поклонению Сатане.) Бывает, устало думал Иедидия, что эти золотопоклонники слишком увлечены борьбой между собой, пожиранием друг друга, чтобы думать даже о Дьяволе – да у них нет времени и на самого Мамону.
И все же враги были, враги, чьих лиц он никогда не видел, но чье присутствие ощущал; а иногда, в безветренные ночи, он даже слышал их дыхание. Тени по краям опушек… Ожившие тени, от которых испуганные куропатки и фазаны бросались врассыпную, и кролики в ужасе неслись прочь на глазах застывшего Иедидии… За любой из крупных сосен мог прятаться человек и с предельной осторожностью, когда Иедидия поворачивался спиной, выглядывать из-за ствола и наблюдать за ним. Эти шпионы, должно быть, были на жалованье у его отца. Потому что было просто-напросто нелогично, чтобы совершенно чужие люди настолько им интересовались; и даже если здесь водились демоны (впрочем, могло ли быть, чтобы на Священной горе, даже вблизи Священной горы, водятся демоны? – мог ли Господь потерпеть такое кощунство?), они, конечно, были бесплотны, во всяком случае, в представлении Иедидии, и им не понадобилось бы прятаться за деревом или скалой.
Что демон может вторгнуться в тело человека, поселиться в нем и творить зло изнутри человека – этого Иедидия тогда еще постичь не мог.
Он просто чувствовал их присутствие и бродил по ночам, чтобы запутать их, и прятался в течение дня, стараясь не выдать себя (но случалось, что на него нападал болезненный, лающий кашель, который, казалось, в клочки разрывал его легкие, и существа, следовавшие за ним, конечно, слышали это); и он старался всегда поддерживать жизнь в своем сердце постоянной молитвой Господу, которая беспрерывно слетала с его уст: Господь мой, Владыка мой и Повелитель, да будет свято имя Твое, и Царствие Твое, и воля Твоя, и да будут повержены ниц враги Твои…
Однажды некое существо – фея – стало шептать ему на ухо, горячо дыша и щекоча его ухо своим языком: однажды, Иедидия, знаешь, что случится? Они набросятся на тебя сзади и одолеют, как бы ты ни отбивался и ни вопил от ярости, и принесут тебя обратно в дом – возможно, привязав за руки за ноги к шесту, как выпотрошенного оленя, – и Ты очнешься лежа на полу, а они будут стоять вокруг и пялиться на тебя и хохотать, осторожно трогая носком ботинка: так это и есть тот самый Иедидия Бельфлёр, который взобрался к небесам в поисках Бога? Ну и зрелище, только поглядите! Тощий, захиревший, больной, вшивый (да-да, у тебя есть вши, одна прямо сейчас ползет у тебя по затылку!), с глистами (да-да, и глисты у тебя есть – пусть тебе и противно думать об этом и ты, конечно, не желаешь рассматривать свои жалкие кровавые испражнения, но тем не менее, дружочек, тем не менее!) – вот так зрелище, да разве хоть один уважающий себя Бог возжелает себе такого избранника! Да какая женщина захочет выйти за такого? И родить ему детей? Вот потеха! Да Бог, наверное, давился от смеха все эти восемнадцать лет! И она ускакала прочь, визжа от хохота, прежде чем Иедидия успел схватить ее.
В своих странствиях, прежде чем набрести на логово Мэка Генофера и увидеть, что там произошло, Иедидии пришлось лицезреть немало отвратительных сцен. Как-то раз, вступив среди ослепительно-белого дня под сень леса, что высился на болотистой упругой почве, он увидала индейца-каннибала, сидящего у небольшого костра скрестив ноги и с трубкой в зубах, всего покрытого змеиными шкурками – а вокруг него были собраны в небольшие горки человеческие черепа и кости. Да, человеческие, в этом не было никаких сомнений! А шкурки, с ужасом разглядел Иедидия, оказались самыми настоящими живыми змеями: мерзкие твари ползали и шипели, покрывая всё его могучее обнаженное тело. (Змеи заметили приближение Иедидии, но индеец – с пустым взором и бесстрастным лицом – лишь усердно затягивался своей трубкой и смотрел сквозь него.) Еще долгое время перед глазами Иедидии стояла эта адская сцена, еще долго вспоминал он аккуратные горки черепов, и толстых шипящих змей и, пожалуй, особенно – невозмутимость индейца, словно он был изваянием… Разве еще в детстве ему не рассказывали, что каннибалы среди племени ирокезов были истреблены или, по крайней мере, обращены в христианство? Да и как было возможно, чтобы индеец сидел, покрытый живыми змеями?
(Зло, существовавшее среди язычников-индейцев, пришло до появления белого человека – оно существовало до зла, как и до блага, принесенного белым человеком. Оно пришло в мир задолго до самой истории. Возможно, даже до появления Бога.)
А однажды он видел самку оленя, которую травили собаки, свора собак с фермы, заходившиеся в лае и визге, обезумевшие, в конце концов растерзавшие ее – олениху и ее огромное набухшее чрево, в котором она носила детеныша – он родился бы через неделю-другую; Иедидия увидел это и убежал прочь, зажав руками уши, беспрестанно бормоча молитву, которая невольно перерастала в крик: Господь и Владыка, Господь и Владыка, смилуйся…
Но самое необычное, что ему пришлось увидеть, склонившись над темными водами зацветшего пруда, поросшего по берегам рогозом, камышом и ивняком, это странное, бледное, плывущее лицо. Лицо незнакомца, глаза которого были столь бесцветны, что почти неразличимы; и подбородок, безбородый, уходивший в пустоту. Лицо человека – но, казалось, в нем было меньше плоти, чем на черепах индейца-людоеда. Странно было и то, что пруд казался таким непрозрачным, заболоченным, хотя глубины в нем было лишь несколько футов, а питал его подземный ручей. Но Иедидия не мог разглядеть дна. Он видел лишь плавающее, призрачное лицо с узким, словно исчезающим подбородком и беспомощными смазанными глазами – и отшатнулся, с отвращением, но и со страхом.