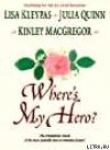Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 52 страниц)
Теперь, познав принцип красоты, воплощенный в вашем произведении (скажет Вайолет молодому человеку, когда он придет), я знаю, что должна сделать. Я должна переделать эту комнату, чтобы она соответствовала инструменту. Она должна стать подобием храма для него. И первым делом, конечно, велю снять этот безвкусный портрет!..
(Но, возможно, он замрет на месте от удивления. И не захочет, чтобы картину убирали. А спросит застенчиво, нельзя ли ему взять портрет себе. Чтобы повесить в своей комнате. Но где находится его комната? В крыле прислуги. Поднимется такой шум… Столько слухов и пересудов… А если узнает Рафаэль… А он непременно узнает, тотчас же…)
Взглянув на часы на каминной полке, Вайолет увидела, что уже довольно поздно, скоро полдень. Где же Томаш? Обычно в это время он был весь в работе. Через минуту-другую усердный слуга деликатно постучит в дверь и спросит Вайолет, не желает ли она выпить утренний кофе, и, если в то же время явится Томаш, момент будет непоправимо испорчен…
Может, он заболел? Вчера он выглядел таким изнуренным, усталым. И не только вчера. Он даже отказался выпить горячего бульону, что она принесла ему вчера, хотя ей думалось, что это может превратиться в ритуал, пустяковый и приятный.
Томаш!
Вы больны?
Вы выйдете?
Служанка постучала к ней, и еще раз, и Вайолет раздраженно отослала ее, велев найти Томаша. Было совсем поздно. О чем он только думает! Как опрометчиво, даже жестоко с его стороны умышленно заставлять ее ждать, ведь он прекрасно знал, что она будет не отходя сидеть у клавикорда, словно ребенок с новой игрушкой. Подобное жеманство, думала Вайолет, так не похоже на Томаша.
Но молодого человека в комнате не было. Его вообще нигде не могли найти.
– Что это значит? – в смятении спросила Вайолет. – Но вы искали его? Ну конечно, ищите его повсюду!
И его искали во всему замку, на всех этажах, даже в подвале; искали снаружи, во всех хозяйственных постройках; опросили всех слуг, и работников, и помощников по хозяйству, – даже приходящих, что жили у самого болота; потом Вайолет доложили, что Томаша нигде не нашли. Кровать в его маленькой комнате была, как всегда, аккуратно застелена, его одежда и туалетные принадлежности находились в полном порядке.
– Но он, конечно, оставил записку! – сказала Вайолет, вся дрожа. – Он… Мы… Но муж… Ведь он даже не получил плату за работу…
Его искали в лесу, с собаками-ищейками, – венгр постоянно пребывал в глубокой рассеянности (кроме того времени, когда работал над клавикордом), и вполне могло статься, что он пошел погулять и заблудился. Но и в лесу его не нашли; собаки даже не взяли след. Вайолет отправила телеграмму краснодеревщику в Нотога-Фоллз, у которого работал Томаш, но тот отвечал, что ничего не знает; более того, он заявил, что ничего не слышал о венгре, почитай, целый год.
«Как ты мог так поступить со мной!» – шептала Вайолет. Ее сердце билось, как бешеное, она думала, что лишится чувств. Она испытывала ужасную злость, и испуг, и унижение – словно ребенок, вдруг лишившийся своего любимого товарища по играм; а в эркере у окна стоял несравненный клавикорд, обладание которым она должна была разделить с ним, восторгаться им в его присутствии, играть на нем для него; но он исчез.
Исчез, как оказалось, навсегда.
С того дня Вайолет погрузилась в себя и по-настоящему оживала, впрочем как-то судорожно, лишь садясь за клавикорд. Пройдут годы, много лет, но Томаша так и не найдут, и больше о нем не будет никаких известий. Рафаэль полагал, что это происшествие выглядит крайне подозрительно. Он никогда не сталкивался с тем, чтобы мастер, торговец, плотник – или кем там себя называл этот глупый юнец – в один прекрасный день не предъявлял свой счет, и его годами жгла досада, что оказанная ему услуга осталась неоплаченной: так у Бельфлёров дела не делаются.
А Вайолет продолжала играть на клавикорде – сначала понемногу, час, а то и меньше, потом по два, три, четыре и даже пять часов кряду. Она отказалась сопровождать мужа в турне по штату в рамках его весьма амбициозной выборной кампании, и позже тот обвинял ее, совершенно безосновательно, в своем провале. У хозяйки замка Бельфлёров вошло в привычку утром первым же делом спуститься в гостиную – прямо в халате, с волосами, в беспорядке разметанными по спине, не думая о заботах по хозяйству и даже, довольно часто, забывая о присутствии в доме гостей, – сесть за свой инструмент и играть на нем часами, заперев дверь изнутри. Однажды, когда дверь оказалась не заперта, ее сын Иеремия, на вид уже взрослый мужчина, робко вошел в комнату и стоял, слушая игру матери, бурную, исступленную, на протяжении двадцати или тридцати минут, различая в ней (пусть и с трудом, потому что он не был музыкально одарен и никогда не учился), резкие и странные – легкие, воздушные, приглушенные, слабые – звуки неизъяснимой красоты. Клавикорд не такой уж простой инструмент, заключил Иеремия по исполнению матери: она часто извлекала глухие, дребезжащие звуки, мало чем отличавшиеся от всем известной лиры, или гитары, но вдруг откуда-то раздавался, с неестественной силой, некий голос, почти человеческий, или, может, эхо голоса – слабое, еле слышное, истонченное от боли, разлуки, потери. Как красиво, думал Иеремия. И тогда понимал, или почти понимал, одержимость матери.
Однажды, играя в присутствии Иеремии, Вайолет вдруг резко остановилась. Ее руки опустились плетьми, а голова безвольно упала на грудь. Иеремия не знал, следует ли ему подойти к ней; казалось, она беззвучно плачет. Но когда он прошептал: «Мама!» – она повернула к нему искаженное болью и гневом лицо и отругала за то, что он шпионит за ней. «Ты не понимаешь, никто не понимает, – сказала она, с силой захлопнув крышку инструмента. – Он был художник, он завершил работу и побрезговал просить денег, да как вы можете понять такое! Само ваше присутствие оскверняет его искусство».
Разумеется, Рафаэль был не настолько терпелив; он пригласил доктора Уистона Шилера, чтобы тот вылечил ее, потому что был убежден, что Вайолет страдает от какого-то нервного расстройства. (Воспаление мозга? Анемия? Женское недомогание, которому пока не найдено научного определения?) Но когда выяснилось, что доктор бессилен и даже не берется поставить сколько-нибудь ясный диагноз ее заболевания, Рафаэль прогнал его из дома – и пройдет немало лет, прежде чем прославленный эскулап примет извинения и вернется, по нижайшей просьбе Рафаэля, чтобы лечить его самого.
Почему она скрывается даже в самые чудесные летние дни, чтобы играть на этой проклятой штуковине? Почему игнорирует гостей, своего супруга, даже своего несчастного, потерянного сына? Рафаэль обвинял ее… в том… Он не знал, в чем именно, не знал, как это выразить. Что она неверна ему и демонстрирует это всем своим поведением, было ему очевидно – но все же… все же у него не было никаких доказательств, и когда он мыслил рационально, то спрашивал себя, что же именно так его раздражает. Он не отваживался обвинять ее, потому что, конечно, она будет все отрицать; возможно даже (ибо с течением лет его кроткая юная женушка стала проявлять характер) – посмеется над ним. Неверна! Ему! Сидя одна в запертой изнутри гостиной! Со своим клавикордом – да, именно, со своим! Да, скорее всего, она просто рассмеется, и он будет бессилен против ее презрения.
В конце концов, незадолго до того, как Вайолет «лишила себя жизни», утопившись в Лейк-Нуар, словно постаравшись неназойливо уйти (ведь тела так и не нашли – хотя озеро прочесали вдоль и поперек), клавикорд был непоправимо поврежден.
Однажды утром, стоя за дверью гостиной Вайолет, Рафаэль, как ему показалось, услышал там, внутри, голос какого-то мужчины – то ли поверх музыки, то ли приглушенный, то ли прорастающий в ней. Он распахнул дверь настежь и ворвался в комнату, где не было никого, кроме перепуганной Вайолет, но он рассвирепел и впал в такой раж, что с размаху опустил кулак на крышку клавикорда; тонкое дерево треснуло, порвались несколько струи, и из недр инструмента раздался отчаянный крик, резкий, сдавленный; и, хотя впоследствии его починили (Рафаэль искренне раскаивался и был устыжен тем, что так бездумно испортил свою же собственность), он уже был не тот, что прежде. Звук его стал глухим, дребезжащим и безжизненным – хотя сам по себе клавикорд оставался, сохранившись до времен Джермейн, изумительно прекрасным произведением искусства.
Лик Господень
Высоко в горах времена года менялись стремительно. Планета неслась то на юг, то на север. Северное сияние заполняло небеса, и всякий, кто глазел на него, пьянел как от вина; а то вдруг весь свет засасывало в воронку, и мир погружался во мрак – черный, окончательный, безмолвный, словно затянутый бездонной трясиной грехов человеческих.
Сколько минуло сезонов? Сколько лет?
Иедидия пытался сосчитать их на пальцах, онемевших от холода. Но при переходе от пяти к шести его разум потух и замер.
Облака неспешно плыли вдаль по ночному небу, ниже ледяных пиков, опускаясь все ниже и ниже, за частокол леса. Пар поднимался от потаенных, кипящих рек – от кишок земли, скрытых от глаза. Во всем было явственное божественное отсутствие, ибо являть Свой лик Господь отказывался. Хотя Его раб Иедидия ждал уже много зим и лет, коленопреклоненный.
Господи, не заставляй меня молить… Не заставляй простираться ниц…
Северное сияние, всегда как впервые в жизни. Застывшее неистовство света. Но какое отношение эта красота, точнее, эти неисчислимые мистические красоты имеют к Богу, с насмешкой думал Иедидия? В самом ли деле Бог обитал в них? В этих вот «небесах»?
Цветные огни погасли. В конце концов воцарилась смоляной черноты ночь – и стерла все воспоминания. Духи, скрытые туманом, носились на свободе. И делали что хотели. Кривлялись, глумились, осыпали друг друга ласками. Самыми сокровенными. Шептали неслыханные непристойности.
Был ли в них Господь? Во всем этом? В этих созданиях?
Он снова взобрался к небесам, после многих месяцев скитаний, в раскаянии. И всё, что он видел – все женщины и мужчины, которых он встречал и пытался убедить в божественной любви, все действия, которые он совершал по воле Господа, часто против собственных желаний, – все это было стерто и позабыто, ибо Святая гора не имела ничего общего с равниной. Память потухла. Прошлое запечатано навеки. Остался только Иедидия. И Господь.
Грех, как заметил Иедидия, более властно цеплялся за Господа, чем любовь. Грех требовал, чтобы Господь явил лик Свой, тогда как любовь, бедная любовь, лишь молила.
Грех. Любовь. Бог.
Но как раб Божий он не мог совершить грех. Господь не давал ему свободы. И Иедидия думал, стоя всю ночь на коленях в своей епитимье: неужели я неспособен на любовь?
Даже его ярость к демону, который вытеснил душу Генофера из тела, быстро сошла на нет. Потому что несчастный старик – в этом не было сомнений – сам согласился на это непотребство. Он был недостоин жалости. Позже демон, изгнанный прочь, наверняка скрылся в тени оврага или в бурной горной речке. Вскоре он найдет путь в другое тело и обретет дом. Обаяние зла, думал Иедидия. Тогда как я стою коленопреклоненный здесь, на обрыве. Умоляя. Мои сочленения закоченели, кости ноют, а желудок простреливают такие приступы боли, что хочется согнуться пополам и упасть ниц перед взором Твоим… Это потешило бы Тебя, верно?
… ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей… Боже, по великой благости Твоей, услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне: да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод; да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего… Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня. Приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня… [27]27
Псалм 68:8,9,14–16,18,19.
[Закрыть]
Не скрывай лица Твоего.
Не скрывай лица Твоего.
Вскоре после возвращения Иедидии на Маунт-Блан (хижина стояла нетронутой, как он отметил бесстрастно – у его недругов хватало ума, чтобы не соваться прямо в расставленные для них ловушки), в тишайший из сезонов, который можно было принять как за позднюю зиму, так и за позднюю осень, он принял на себя задачу, ради которой и удалился в горы столько лет назад, несмотря на насмешки своей родни: взглянуть на лик Господень.
Чтобы знать, любить и служить. Но в первую очередь – созерцать.
И вот он стал на колени на самом обрыве в столь пылкой молитве, что горные духи не смели приближаться к нему, а уж тем более хватать его подмышками, или между ног, или дуть ему в уши; он упал на колени, всплеснул руками и опустил голову долу – как и должно. И молился, и ждал, и молился, и ждал, и снова молился, всю ночь напролет, и ждал, ждал, молясь не переставая, ведь он в самом деле молился годами, не ведя счет смене сезонов, не различая времен года, – лишь молился и ждал, ждал и молился и молился, ведь он Иедидия, и он ждал, вечно ждал, так долго терпел, смиренный и в молитве и в ожидании, раб Божий, дитя Божье, истощенное, бородатое существо с запавшими глазами и смрадным дыханием, чье тело заросло коростой глубоко въевшейся грязи, счистить которую под силу лишь щетке с самой жесткой щетиной.
Той ночью – той жуткой ночью – Иедидия преклонил колени на краю обрыва своей горы и шепотом молил Господа явить лик Его, ибо то был последний раз, когда он намерен пресмыкаться перед равнодушием Его; и голос Иедидии возвысился, а желудок и низ живота острыми иглами пронзила незнакомая доселе боль, и его знобило, а потом обдавало потом, и опять знобило так внезапно и с такой силой, что он трясся всем телом. О Боже, мой Боже, простонал он, подавшись вперед, и стоял, упираясь обеими руками в скалу, пока боль не стихла. А потом начал с начала, спокойным голосом. Быстро, рассудительно. Словно ничего не потеряно. Словно беседуя, просто беседуя с Господом. С Тем, Кто и Сам был рассудителен и Кто слушал его с бесконечным терпением и вниманием.
И тут боль вернулась, только на этот раз она была, как один, а затем два, три камня размером с кулачище, что рвали и тянули вбок, влево его кишки.
Это была неслыханная боль. Превосходящая все мыслимые меры. С его губ сорвался крик, но то был крик искреннего изумления, ибо крика для этой боли не существовало.
О Бог мой…
Нечто узкое, как лезвие клинка, пронзило его живот, кромсая, прорвалось к низу живота и в самое надчревье, где все забурлило в агонии. Его нутро корежилось и корчилось, и бурно боролось за жизнь, а Иедидия лишь мог прижать живот руками, невидяще уставясь туда, где раньше было небо. Он не мог, он просто не мог поверить, что существует такая боль, теперь он скулил, как щенок, а тем временем что-то булькало и наливалось гнилым плодом в его кишках, распухая все больше, готовое вот-вот лопнуть. Что со мной такое?!. Что я должен сделать?!. Его онемевшие пальцы стали теребить растрепанный ремень и пуговицы ширинки на штанах, преодолевая муку, которая гнула его в три погибели, ведь это, очевидно, было проявление… обычной простуды… Внезапная диарея… Этот ужасный приступ, рвущий его тело изнутри, не имел с ним самим ничего общего.
О Бог мой, помоги же…
Он приспустил штаны как раз вовремя: его кишки опорожнились резко, обдав горячим содержимым священную гору, и волна резкой вони чуть не сшибла его наземь.
Он отполз подальше на корточках, штаны болтались у него на щиколотках, а все тело покрывала тончайшая, невидимая пленка жгучего пота. Невозможно, просто невозможно поверить… Но его желудок вновь терзало, там бурлило, и набухало нечто, вот уже размером с дыню, и он начал стонать от ужаса (ибо в нем кто-то жил – не он сам, но некое другое существо), а не только от боли. Пузыри, наполненные газами, толчками проходили по кишкам, прокладывая себе путь, и вот могучий поток вырвался наружу – еще более яростный и безжалостный, чем первый.
У него горело лицо: сквозь поры кожи словно прорывались язычки пламени. Каждый волосок на голове в ошеломлении встал дыбом. Господь мой, взывал он, что же это такое…
Иедидия попытался встать на ноги, разогнуться, чтобы наконец покинуть это оскверненное место. Но тело вновь пронзила конвульсия. Он прижал руки к животу и повалился на землю. И вот так, опираясь на руки и колени, с болтающимися на щиколотках штанами он прополз несколько ярдов – пока его не охватил новый приступ, так что оглушительно застучали зубы. Его трясло от холода, бил озноб, и в то же самое время словно обдавало страшным жаром, во рту вдруг стало так сухо, что он не мог глотать. Тут гнусная вонь исторглась из него, настолько неописуемая, что легкие его замерли; он не мог дышать.
Его нутро выло от боли. Его корчило, скручивало в узел. Он опустился на корточки, зажав голову в ладонях и стал раскачиваться взад-вперед в ужасных мучениях. И ждал. Но пусть он болен, болен несказанной болезнью, но отрава не покидала его. Боже, Боже! – молил он. Но ничего не происходило. Он просто ждал, вцепившись в пылающие щеки растопыренными пальцами. Ребенок, младенец, животное, обезумевшее от боли.
Ничто теперь не имело значения – только опорожнение; освобождение от лавоподобных масс, скопившихся в его нутре.
По лицу его катились слезы. Все его тело рыдало – и туловище, и бедра. Какая-то адская тварь вдруг зародилась в самой глубине его существа, и, будучи не в силах освободиться от нее, он покорился ей, униженно и трусливо, полуобнаженный, ожидая избавления. Он хотел бы воззвать к Господу, вот только мучения его были столь велики, что он больше не помнил слов; голос его издавал лишь простые, животные звуки. Он рыдал, скулил, кричал во всю глотку. Трясясь всем телом, покачиваясь на корточках.
Теперь боль охватила все тело. Душа покинула его, ужаснувшись. По телу струился пот – по груди, спине, ребрам, и по костлявым бедрам, и по тонким, с напряженными мышцами, ногам. Он должен был опорожнить свое нутро, но не мог. Бурлящая, распухающая боль нарастала, он чувствовал внутри чудовищное давление, но никак не мог опростаться, избавиться от него, преодолеть.
Давление вдруг стало невыносимым и с силой прорвалось наружу, безжалостное, невыносимо жгучее. И вновь священная гора была осквернена его гнилостными, водянистыми, мерзейшими испражнениями.
Обжигающе горячими и невообразимо вонючими. Никогда в жизни не ощущал он подобной вони.
Задыхаясь, он отползал прочь, двигаясь на ощупь. Давление ослабло, кишечник, казалось, был пуст, жар внезапно спал, и теперь он ежился от холода, его зубы стучали, он хотел вернуться к себе в хижину, но та осталась где-то позади, и он пополз к узкой речке, бегущей вниз по горе, чтобы обмыться – чтобы попытаться очистить себя.
Иедидия опустил руки в ледяную воду.
Теперь его трясло от холода, его пронзал такой страшный холод, что он трясся и все его тело распадалось на части. Ему нужно вернуться в хижину. Добраться до нее и поспать, в безопасности, в тепле очага, и тогда к утру он восстановит силы, и душа его вернется в тело…
Он собрал остатки сил. И попытался выпрямиться. Медленно. Пошатываясь. Но слабый укол боли, а может, лишь ожидание боли, испугало его, и он застыл в этой позе, в полупоклоне, согнувшись чуть ли не до земли, в позе животного. О нет, только не это. Господи, неужели это повторится!
Да, все началось сызнова. Новый спазм, выплеск диареи. Новое, опустошительное освобождение кишок, и на этот раз горячие, водянистые испражнения потекли по его бедрам, по ногам. А затем пошли большими мягкими лепешками. Спиралями. Потоками. Мерзость. Какая мерзость. И эта всепоглощающая вонь! Он был почти без сознания, еще один миг – и он упадет… Резкие, пыточные, острейшие удары боли, так что тело извивалось, как безумное, словно пыталось вырваться, убежать. Только это было невозможно, ибо ад заключался внутри.
Глаза его ослепли. Разум был выпотрошен, пуст. В нем не осталось ни единой мысли, ни образа, ни одного, даже самого слабого желания. Он превратился в сгусток ощущений, в существо, распластавшееся на вершине горы и полностью подчиненное зовам плоти. На том месте, где раньше был Иедидия, остались лишь потоки и кучки дымящихся экскрементов.
И так прошла ночь. Ночь, которой не было конца.
Час шел за часом. Сначала спазмы в желудке, потом накатывала слабость и дрожь, и он лежал ничком на земле, не имея сил, чтобы заползти обратно в свое укрытие. Потом новый спазм, новый выброс горячих жидких масс; его нутро сотрясает газообразный, омерзительный гром; все тело корчится от боли. И так час за часом. И нет продыху. И нет пощады. В редкие минуты просветления его воображение преподносило ему отталкивающие образы пищи, поглощенной и переваренной; поглощенной, переваренной и превратившейся в фекалии, которые ждали бешеного испражнения. Он-то воображал все эти годы, что непрерывно постится; что он подчинил своей воле достойные презрения нужды тела; но в действительности он обжирался, как любое животное. С жадностью набивал свое брюхо, стремясь обратить в жратву всё, что можно, и отправить в свое чрево. И теперь расплачивается.
…Снова внезапное сокращение внизу живота. Боль пронзает вспышкой молнии. Будь Иедидия способен на размышления, он бы поверил, что его убогое, истерзанное тело уже полностью опорожнено – но нет, оно исторгало всё новые неудержимые потоки…
Он задыхался. Рыдал. Прятал лицо в ладонях.
Адская боль. Адская напасть. Ужас. Вонь. Беспомощность. Стыд. Час за часом. Это и был он, истинный Иедидия, всегда. До него дошло, что вся его жизнь – не только долгие годы на Священной горе – были, в сущности, не более чем физиологическим процессом, непрекращающимся, беспрерывным, беспардонным и ненасытным: пожирание пищи, переваривание пищи и испражнение, с корчами, бурлением, кипением, по законам собственной свирепой жизни, а не его, человека; у этого даже не было имени, и все же ему было дано имя: Иедидия. Какая злая насмешка, что у этого бесконечного потока жратвы и экскрементов было человеческое имя! Сколько всего было в нем сокрыто. Мерзостное. Обжигающее. О, неужели у него в кишках завелись черви, не ползают ли под пленкой жидкого дерьма, которым он измазал всю верхушку горы, эти тонкие белые глисты?..
У него не хватало духу смотреть. Конечно, он смотрел на все это, но не видел. А в его фекалиях кипела жизнь. Ну конечно. Они и были его испражнениями. Были им.
Так проходила ночь. Приступы вновь и вновь сотрясали его, раз за разом. Без пощады. Пока тазовые кости арками не выгнулись на его бедрах, пока его живот, весь целиком, не превратился в сквозную дыру, а голову, что раскалывалась от боли, не овеял легкий прохладный утренний ветерок. Не осталось в ней ни слова, ни слога, ни единого звука! Тело, то есть он сам, не было мертвым, но не было оно и живым.
Так Господь явил лик Свой рабу Своему, Иедидии, и с той поры всегда держался на расстоянии.