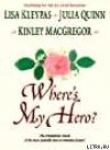Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 52 страниц)
Предательница
Именно тогда, в конце лета, началась, сначала втайне, а потом и в открытую, борьба между матерью и отцом Джермейн – за нее, ради нее, за нее в качестве награды.
– Кого ты больше любишь? – шептала Лея, крепко ухватив девочку за плечи. – Ты должна выбрать! Вы-би-рай.
А Гидеон, украдкой, присев на корточки и тоже ухватив ее за плечи (правда, не так больно), говорил:
– Ты бы хотела полетать вместе со мной, совсем скоро, Джермейн? На таком ма-аленьком, учебном самолетике! Тебе очень понравится, и совсем не будет страшно. Только ты и папочка – всего час, к Маунт-Блан и обратно, чтобы ты увидала все наши реки и озера и даже этот замок с высоты, а дома никто и не узнает!
Борьба была невидимой. И всё же – ощутимой. Настоящие качели: вперед – назад, в ту сторону – затем обратно, взад и вперед. Один хотел того же, что получал другой. А тот хотел еще больше. А за ним первый…
Это было очень странно, как сон, что никак не закончится, но все длится и длится, и начинается снова, как ты ни стараешься проснуться. Странно и противно. Так что бедная девочка (а в июне того года Джермейн исполнилось как раз три года и восемь месяцев) убегала прочь и пряталась в длинном узком шкафу в детской, где хранилась старая одежда и игрушки, или в дальнем конце сада, позади новой изгороди.
Она засовывала в рот пальцы, сначала один, потом два, три. Она научилась быть осторожной. Потому что однажды, изображая, что читает газету из-за маминого плеча, она и правда стала читать вслух, хихикая во весь голос, и Лея обернулась к ней в полном изумлении – кажется, не вполне радостном.
– Бог мой, – воскликнула она. – Ты умеешь читать… Ты умеешь читать!
Джермейн отступила назад и, всё еще в возбуждении, натолкнулась на один из кованых стульев. Лицо у нее горело.
– Но кто научил тебя? – спросила Лея.
Джермейн сосала палец и не отвечала.
– Кто-то же должен был учить тебя, – сказала Лея. – Может, дядя Хайрам? Или Лисса? Вида? Рафаэль? Или твой отец?
Джермейн отрицательно качала головой, вдруг словно онемев. Стояла – надутая, пристыженная, сунув два пальчика в рот, исподлобья сверля глазами изумленную и сердитую Лею и не отвечая на ее вопросы.
– Ты что, сама научилась, да? Листая старые книжки Бромвела? Или разные книжки в детской, да? – спрашивала Лея. – Нет, ты не могла научиться сама!
Джермейн сморгнула, не сводя глаз с матери.
– Или это я научила тебя, сама не подозревая? Каждое утро, которое мы проводили на террасе, и все эти газеты… – Лея потрясенно смотрела на дочку. Потом нащупала пачку с тонкими сигарами и вытряхнула одну на ладонь – хотя у нее развился кашель, и она дала себе слово бросить курить. – Почему ты молчишь? Почему смотришь так виновато? – продолжала она. – Это же не отец, правда? Ах, как будто у него есть на тебя время!
Так Джермейн научилась быть осторожной.
Доходяга, вот как его прозвали, шептала Лея. Прозвали женщины. Девчонки, за которыми он бегал. Доходяга! А кое-кто из них, помоложе, даже говорили «Старый доходяга». Подумать только! Гидеон Бельфлёр, с его-то гонором!
Рано утром в день свадьбы Морны все поднялись ни свет ни заря, и в доме стояла суматоха. Лея прогнала прочь одну из служанок, всю в слезах, потому что та не сумела укрепить шиньон так, как ей хотелось.
Она не могла решить, надеть ли Джермейн желтое шелковое платьице с бантом на воротничке (оно будет отлично сочетаться с ее собственным нарядом желтого шелка) – или же в мелкий горошек, в длинными белыми лентами на талии. И еще: оставить ли кудрявые волосы девочки как есть, чтобы они ниспадали на спину (хотя малышка, разумеется, терпеть не могла свои кудряшки) – или тщательно расчесать их и собрать в пучок на макушке, как у мамы, укрепив золотыми шпильками и приколов, как подобает, веточку ландыша.
– Ты представляешь – они смеются за его спиной и называют его Старым доходягой! – говорила Лея – Только, конечно, ты не должна никому говорить. Ты не должна даже спрашивать меня об этом. Наверное, зря я тебе рассказала – теперь у тебя останутся не самые радужные, скорее досадные воспоминания о твоем папочке, великом и могучем…
А за завтраком – на скорую руку, наклонившись к дочке, якобы чтобы поцеловать, она взяла и шепнула ей на ушко (и Гидеон вполне мог услышать): Старый доходяга!
Но почему?
Потом что он стал ужасно худой.
А почему он так похудел?
Авария, сотрясение мозга, их ссоры, беспорядочное питание, постоянное отсутствие, а теперь еще эта блажь, безумное, эгоистичное увлечение полетами… И я не удивлюсь (людям рот не заткнешь), если в этом снова замешана женщина. Там, в Инвемире. Очередная, очередная, очередная женщина.
Старый доходяга – желтоватая кожа, впалые щеки, ястребиный профиль; он вечно на взводе, так что просто не состоянии усидеть на одном месте, даже присесть – потому что в своем воображении он выруливает на взлетную полосу и взмывает в небо, взмывает вверх, все выше, и сердце его танцует от одной мысли об этом, он летит вслед за «Хоукером», преследуя его вплоть до тайного прибежища где-то к северу от озера Слеза облака. Он постоянно на взводе, так что бутылка бурбона в день стала привычкой, просто чтобы забыться сном после бурных впечатлений дня; но все же, все же случались дни, когда он чувствовал такое изнеможение, что был не в силах подняться и одеться, и тогда поздним утром, в одиннадцать, в полдвенадцатого мать робко стучалась к нему со словами:
– Гидеон! Гидеон? Как ты? Это Корнелия. С тобой все хорошо?
– Я возражаю, – сказал Гидеон по пути на свадьбу, когда они втроем сидели на заднем сиденье в лимузине и стеклянная перегородка между салоном и кабиной водителя была полностью задвинута. – Я решительно возражаю против этой твоей одержимости ребенком, болезненной одержимости.
– Что ты такое городишь! – рассмеялась Лея.
– Это нездорово.
– Ей всего три года, ей нужна мать, неразлучность матери и дочери в этом возрасте естественна, – выпалила Лея, глядя в окно. – Да и вообще, у тебя нет для нее времени.
– С Кристабель ты так не нянчилась.
– С кем? Ах, с Кристабель! Но у нее был Бромвел, это совсем другое, – быстро ответила Лея. – Они же были близнецы, и вообще… Это было так давно!
– Ты лебезишь перед ней и давишь на нее, – продолжал Гидеон. – Вот как сегодня за завтраком. И, как говорят мои родители, ты не даешь ей шагу ступить. Словно она совсем несмышленыш. Младенец.
Джермейн, которая сидела между родителями, делала вид что увлечена своей раскраской. Она рисовала радугу на своей вкус, фиолетовым, оранжевым, зеленым и красным карандашами – прямо поверху довольно шаблонного изображения фермерского дома с сараем, который должна была раскрашивать. Ей было тесно желтое шелковое платье с большим бантом на воротнике и жали модные новенькие лакированные туфельки, но она старалась сидеть спокойно, иначе мама будет браниться.
– Ей почти четыре года! И она прекрасна развита для своих лет, – сказал Гидеон. – Она – не младенец.
– Но ты ведь ничегошеньки не знаешь о детях, – возразила Лея.
– Я думаю не о себе, – спокойно проговорил Гидеон. – Я думаю только о ней.
– Ты не думаешь ни о ком, кроме себя.
– Это неправда.
– Даже все твои сторонние интересы – твои сторонние интересы, – сказала Лея с легкой, жесткой улыбкой, все еще сидя отвернувшись от мужа, – на самом деле направлены только на тебя.
– Об этом не сейчас.
– И никогда: меня это не интересует.
– Я в этом не одинок, – продолжал Гидеон. – Мои родители тоже беспокоятся, и даже Юэн заметил...
– Юэн! – воскликнула Лея. – Да он бывает дома еще реже, чем ты.
– И Лили, и Эвелин…
– О да, все Бельфлёры ополчились на меня! – рассмеялась Лея. Сами грозные Бельфлёры с Лейк-Нуар!
– И Делла.
– Делла? Это ложь! – гневно сказала Лея.
– По словам моей матери…
– По словам твоей матери! Им что, нечем заняться, этим спятившим старухам, только бы сидеть и перемывать мне кости!
– Ты расстраиваешь Джермейн своим постоянным вниманием, возней, даже твой взгляд порой… – говорил Гидеон, все еще спокойно, – такой взгляд напугал бы и меня!
Лея коротко, презрительно фыркнула.
– Тебя? Ну надо же!..
– Я вовсе не хочу сказать, что она не любит тебя. Конечно, любит. Она такая чудесная девочка, и обожает тебя… Но в то же время, Лея… Ты действительно не понимаешь, о чем я говорю?
– Нет.
– Правда не понимаешь?
– Я же сказала – нет.
– Твоя одержимость, почти болезнь…
– Одержимость! Болезнь! У тебя от твоих полетов в голове помутилось, ясно? Там, в небе, ты совершенно один и можешь предаваться своим эгоистичным, злобным мыслям безо всяких помех! Конечно, матери приходится любить дочь за двоих: ведь ее отец не испытывает к ней никаких чувств!
– Лея, это абсурд. Перестань.
– Тогда, может быть, спросим ее?
– Лея.
– Вот она сидит рядышком и притворяется, что ничего не слышит, погляди! Давай-ка спросим, как она думает, папочка любит ее? Или мамочка – единственный человек на всем свете, который ее любит?
Но Джермейн не поднимала голову. Теперь она начала рисовать красную полоску.
– Представь, что тебе нужно выбрать, – ласково сказала Лея. – Выбрать между папой и мамой.
– Лея, не надо…
– Джермейн, – продолжала Лея, трогая девочку за плечо, – ты меня слышишь? Ты понимаешь? Представь, что просто так, в шутку, тебе нужно выбрать. Папа или мама.
Но маленькая девочка не смотрела ни влево, ни вправо. Она сидела, согнувшись над своей раскраской и прикусив от старания нижнюю губку.
– Оставь ее, Лея, – сказал Гидеон и потянулся, чтобы взять ее за руку в желтой перчатке. – Пожалуйста, успокойся. Это не в твоем духе.
– Но это же просто игра, пойми! – сказала Лея, вырывая свою руку. – Дети обожают игры – у них потрясающее воображение, они придумывают целые миры! Но откуда тебе-то знать, ты ведь давно открестился от своих детей. Итак, Джермейн, скажи нам – наклони голову влево или вправо, кого из нас ты бы выбрала. Если бы пришлось. Если бы надо было выбрать, с кем из нас тебе жить всю оставшуюся жизнь.
Лея, в самом деле! – взволнованно сказал Гидеон. – Вот об этом я и толкую.
– Джермейн! Почему ты делаешь вид, что не слышишь?
Но девочка и правда не слышала.
Она продолжала рисовать, и даже когда красный карандаш сломался, она просто взяла обломок побольше и продолжила, не поднимая глаз.
Радуга стала уже очень широкой, просто огромной, она накрыла и дом, и сарай – весь мир.
– Ты ее расстраиваешь, – сказал Гидеон. – Вот о чем я говорю.
– Это ты начал, а теперь испугался, прошипела Лея. – Боишься, что она выберет не тебя.
– Но ей не нужно никого выбирать – как все это фальшиво, мелодраматично…
– Да кто ты такой, чтобы рассуждать о фальши! – рассмеялась Лея. – Кто угодно, только не ты!
– Напрасно я завел этот разговор, – в сердцах сказал Гидеон. – Благополучие Джермейн для тебя явно не главное.
– Конечно, главное! Конечно! Я сейчас даю ей право выбора, даю шанс, который есть далеко не у каждого ребенка. И каков же твой выбор, Джермейн? Просто наклони голову…
– Хватит, Лея. Ты же понимаешь, что вредишь ей. – Джермейн!
– Если хочешь, я велю шоферу остановить машину и выйду. Я могу поехать с родителями. Я готов оставить тебя в покое…
– Джермейн! Почему ты притворяешься?
Лея нагнулась и заглянула в личико дочки. И увидела, с каким упрямством девочка уставилась на рисунок: она не собирается смотреть на них.
– Плохая девочка! Какая плохая девочка, притворяется, что ничего не слышит! – сказала Лея. – Это как если бы ты солгала мне. Это то же самое, что ложь…
Но дочка ее не слышала.
Она выбрала новый карандаш, белый, весь запачканный и начала замарывать радугу быстрыми, жирными, неряшливыми линиями.
Позже, когда они остались одни, Лея склонилась к Джермейн и крепко схватила ее за плечи. Какое-то время она молчала, настолько была взбешена. Тонкие паутинки на ее лбу превратились в складки; лицо покрылось пятнами негодования. Теперь Джермейн невольно видела, насколько поредели волосы матери: сквозь них просвечивал череп, и выглядел он как-то чудно, весь в неровностях, словно кости срослись неправильно, и один слой наползал на другой. Перед ней была изможденная женщина, ни капельки не красивая, даже в этом желтом платье с ниткой жемчуга на шее…
– Джермейн – эгоистка! – произнесла Лея и встряхнула девочку. – Эгоистка! Злюка! Предательница! Поняла? Вот ты кто!
Пруд, который исчез
Но где же, волновались все, наш бедняжка Рафаэль?..
Этого хилого ребенка с бледной, вялой кожей, со скрытным и печально-ироничным выражением лица – сына Юэна (не может быть, что это мой сын, что это Бельфлёр!) – тем летом видели всё реже и реже, пока наконец в одно прекрасное утро не обнаружилось, что он… пропал.
Рафаэль! – кричали все. – Рафаэль!
Где ты прячешься?
На семейных приемах он всегда был рассеян и скучал, а еще чаще отсутствовал (к примеру, он не поехал на свадьбу Морны), так что прошло несколько дней, пока кто-то не хватился его. Да и то только потому, что одна из служанок со второго этажа сообщила Лили, что кровать мальчика пустует уже третью ночь подряд.
Разумеется, его отправились искать на Норочий пруд. Впереди шел Альберт, выкрикивая имя брата… Но где же пруд? По всей видимости, как ни странно, пруд тоже исчез.
К середине лета от него осталось лишь несколько больших, неглубоких луж, поросших осокой и ивняком; а к концу августа, как раз когда обнаружилась пропажа Рафаэля, на месте пруда находился лишь заболоченный участок. Точнее говоря, лужайка – часть большого луга с сочнейшей травой, простиравшегося ниже кладбища.
Но где же Норочий пруд? – в изумлении восклицали Бельфлёры.
Просто заболоченный участок чуть ниже кладбища, где ярко цветет горчица, и густая зеленая трава, и ивы. От земли исходит сильный, приятный запах влажности и гнили даже в самый жаркий день.
Должно быть, мы стоим прямо на нем, говорили они. Прямо там, где он когда-то находился.
Но, глядя под ноги, они не видели и намека на пруд: просто влажная земля.
Рафаэль! – кричали они. – Рафаэль!.. Куда же ты пропал? Почему ты от нас прячешься?
Их ноги уходили в пружинящую почву, и скоро обувь у всех промокла и покрылась грязью. Как холодно! Они шевелили пальцами озябших ног… Джермейн носилась вокруг, смеялась, поскальзывалась и падала, но тут же снова поднималась. А потом они заметили, что она вовсе не смеется – нет, девочка начала плакать. Личико ее скривилось.
Рафаэль! Рафаэль! Рафаэль!
Лили подхватила ее на руки, и девочка спрятала лицо, указывая ручкой в землю.
Рафаэль – он там.
После многочасовых поисков вверх по руслу Норочьего ручья (который обмелел, превратившись в струйку специфического ржавого цвета и отдавал железистым запахом), а потом вспять, через кладбище и в лес, Бельфлёры, поднявшись на пару миль в горы, снова вернулись к Норочьему пруду – точнее, к бывшему пруду – и увидели, что их следы уже успела затянуть сочная, свежая трава.
Рафаэль! Рафаэль!
Здесь в самом деле был пруд? – спросил один из гостивших родственников.
Да, он был здесь. Или, может, чуть поодаль.
Вон там, пониже кладбища.
У этих вот ив.
Нет – прямо рядом с теми пнями, куда слетаются дрозды.
Пруд? Прямо здесь? Но когда? Наверное, давно? Еще неделю назад!
Нет, месяц назад.
В прошлом году…
Они бродили по округе, выкрикивая имя мальчика, хотя понимали, что надежды нет. Он был такой слабенький, такой застенчивый, бледный, никто и не знал его толком – другие дети с ним не водились: Лили плакала оттого, что, наверное, любила его недостаточно – недостаточно, – а теперь он ушел жить под землю (после истерического «откровения» Джермейн Лили была безутешна, и никто не мог развеять ее иррациональную убежденность в этом) и уже не услышит ее рыданий.
– Рафаэль! – причитала она. – Куда же ты пропал? Почему ты от нас прячешься?
Юэн, узнав про пруд и про слова своей маленькой племянницы, сам отправился на поиски. Но пруд и впрямь исчез: никакого пруда просто не было. Он бродил там, коренастый, мускулистый, почти седой, с раскрасневшимся лицом, то и дело задыхаясь. Форменная офицерская рубашка из красивой серо-голубой ткани сильно обтягивала его выступающее брюшко; сапоги на каблуках уходили глубоко в хлюпающую почву. Он уже давно брил бороду (она не нравилась его любовнице, Розалинде), но сейчас его подбородок и особенно щеки покрывали неравномерные клочки щетины.
Какая нелепица, эта история с прудом. Здесь никогда не было никакого пруда! Он совершенно ясно помнил пруд позади яблоневого сада, где они с братьями плескались детьми – он наверняка до сих пор на месте, только у Юэна как-то не было настроения искать его.
Не было у него и настроения, что интересно, искать Рафаэля. Сначала Иоланда, потом Гарт…
Он глядел на влажную болотистую землю под ногами. Ведь это просто луг, идеальный для выпаса скота, с сочной травой и, по-видимому, плодородной почвой. Полвека назад его пустили бы под посев, скорее всего, для озимой пшеницы. Но теперь все изменилось, теперь.». Он потерял мысль.
Долгое время чудная дочка Леи и Гидеона (бабушка Корнелия говорила о ней с загадочной улыбкой: ничего страшного, могло быть и хуже!) отказывалась ходить по траве, даже в садике за стеной, где она всегда играла. Если кто-то насильно вел ее туда, она начинала плакать, даже кричать от испуга; по дорожкам она ходила безо всякой опаски, но лужайки наводили на нее ужас. Если возникала необходимость перейти через газон, тогда, что делать, – переносить ее приходилось Паслёну (который ничуть не возражал против такого поручения, напротив, он краснел от удовольствия, как гордый папочка).
Какая ты глупенькая, несносная девчонка, сердилась Лея. И все из-за этих небылиц про кузена Рафаэля…
Но девочка так часто плакала при одном упоминании имени кузена, что все остальные, даже Лея, вскоре перестали произносить его в присутствии девочки. А потом и между собой; казалось, юный Рафаэль просто исчез: никакого Рафаэля просто не было.
Лиловая орхидея
Вскоре после заключения контракта с «Интернешнл Стил» касательно богатых рудой земель вокруг Маунт-Киттери Паслён – кстати, подозрительно прибавивший в росте (по всей видимости, карлик просто потихоньку выпрямлялся: его позвоночник, хотя по-прежнему изуродованный и сильно искривленный на одну сторону, постепенно вытягивался), – однажды утром принес своей хозяйке коробку, присланную флористом, в которой находилась одна-единственная орхидея невероятной красоты. Кроме того, она была необычайно крупная, около фута в диаметре.
– Боже, что это? – вскричала Лея в изумлении.
– Если позволите, мисс Лея, – пробормотал Паслён, доставая цветок.
– Орхидея! – прошептала она. – Ведь это орхидея.
– И очень красивая.
Паслён произнес это с неожиданной страстью, как будто это он отправил загадочный подарок (к которому не было приложено ни карточки, ни письма; а посыльный, разумеется, понятия не имел, кто был заказчик).
– Очень красивая орхидея, – повторил Паслён. – Только взгляните.
Лея не сводила с цветка глаз. Она взяла его в руки. У него не было запаха, он почти ничего не весил. И был прекрасен: в нем играли лиловый, лавандовый, нежно-фиолетовый, насыщенно-чернильный, густо-лиловый; и еще фиолетовый такой глубины, столь исполненный ночного мрака, что казался черным.
Лея глядела на цветок так долго, что карлик, застывший рядом, у ее локтя, забеспокоился.
– Мисс Лея, – тихо проговорил он, – может быть, принести вазу? Или вы желаете украсить им волосы?
Лея, с цветком в руках, не слышала его.
– Цветок очень крупный, – произнес Паслён, глубоким, гортанным, дрожащим голосом, – но я полагаю, что он будет смотреться прелестно… совершенно прелестно… в волосах мисс Леи. Я бы мог, если позволите, приколоть его сам. Вам не нужно звать служанок. Мисс Лея?..
Лея вдруг стала бессознательно теребить нежнейшие лепестки ногтем большого пальца. Как прекрасны эти переливы – лиловый и лавандовый, и нежно-фиолетовый, такой бледный, что казался чуть ли не белым; и насыщенный густо-лиловый; и еще фиолетовый такой глубины, что мог показаться черным. Как нежны, чудо как нежны темные трепещущие тычинки в белой чашечке, они тянулись высоко вверх и рассыпались в пыль у нее между пальцами! Семь тычинок на семи тонких ножках; мгновенно раздавленные, смятые в прах.
– Ах, – вскрикнула Ли. – Что я натворила!
Она бездумно уничтожила чудесный цветок.
– Унеси эту гадость и выброси подальше, – сказала она через минуту-другую, – и впредь не беспокой меня до обеда, Паслён. Сам должен понимать.
Отмщение
И вот однажды, рассказывали детям, на главной улице Нотога-Фоллз появился всадник, одетый столь изысканно, на лошади столь великолепной грации и красоты, что каждый, кому довелось увидать его, застывал на месте столбом, а потом еще долгие годы вспоминал это зрелище. У мужчины был глубокий загар, возраст его определить было трудно, но точно не юноша. В замшевом костюме, влитую сидевшем на его высокой стройной фигуре, в черной фетровой шляпе с высокой тульей и широкими полями, с черным галстуком-лентой, в щегольских лимонно-желтых перчатках и кожаных сапогах с высокими каблуками; явно чужак, из другой части страны. Но каков красавец! На этом сходились все.
Узнал ли кто-то Харлана Бельфлёра, приехавшего, чтобы отомстить за убийство своих родных? Узнал ли Бельфлёров профиль, несмотря на ковбойскую шляпу, несмотря на то что он больше не говорил с местным акцентом?
Как бы то ни было, ему указали дорогу к Лейк-Нуар – к Варрелам. И ни один человек не стал вмешиваться, когда назавтра он хладнокровно (жадные газетчики взахлеб повторяли: хладнокровно) застрелил четырех из пяти человек, которых его невестка обвинила в убийстве его отца, брата и племянников.
Ну вот, дело сделано – так, по слухам, сказал Харлан с надменной улыбкой, когда последний Варрел, Сайлас, упал мертвым. С безупречным чувством стиля (ведь за ним действительно наблюдало много народу – десятки свидетелей) он развернулся и пошел прочь.
Это, объясняли детям, было отмщение. Не просто деяния, не просто убийства: нет, важно как это было сделано. Нет ничего более абсолютного, чем месть. Ничего более изысканного. Когда Харлан Бельфлёр въехал в город, нашел убийц своих родных и пристрелил их, одного за одним, как собак – о!..
Сам вкус этого слова. «Отмщение». Такой густо-медовый. Его не перепутать. Сердце рвется вверх, пьянящие, мощные волны крови наполняют вены, первобытный, требовательный, неуемный зов крови… Не перепутать.
(Но как же отвратительна месть. Сама мысль о ней. Животные, рвущие друг друга на куски. Первый удар, потом следующий, и еще… Предательская, до тошноты, дрожь в коленях, смоляной, горький привкус во рту… Так думал Вёрнон Бельфлёр, одинокий среди возбужденной детворы. Он-то и был среди них единственным ребенком; во всяком случае, искусно притворялся таковым. Тогда. В те далекие, уже неразличимые, растянувшиеся во времени годы. Месть! – шептали остальные и громко смеялись, сильно смущенные тайными мыслями. Ах, месть! Вот бы нам довелось жить тогда.)
Да, эта месть была изысканна, в самом деле. Несопоставима ни с чем. Ни одно другое человеческое переживание, даже страстная эротическая любовь, не шло с ней в сравнение. Потому что в любви (рассуждали наиболее саркастичные из членов семьи) никогда не возникает – да и не может возникнуть нечто большее, чем, пусть и всеохватное, чувство упоения самим собой; тогда как в мести есть ощущение упоения всей Вселенной. Справедливость, которая свершается через насилие одного человека. Свершается, вопреки желаниям рода человеческого.
Ибо месть, являясь разновидностью справедливости, всегда воплощается вопреки сиюминутным желаниям людей. Это – война против установленного порядка. Она всегда революционна. Она не может вершиться сама, ее необходимо сотворить; и непременно через насилие, насилие от рук самоотверженной личности, готовой погибнуть во имя своей миссии.
Итак, Харлан Бельфлёр, хищнолицый, краснокожий, как индеец, Харлан Бельфлёр в своем черном «стетсоне», на серо-гнедой мексиканской кобыле въехал в Нотога-Фоллз прекрасным майским утром 1826 года…
(У Меня отмщение[28]28
Второзаконие, 32:35.
[Закрыть], изрек Господь. Так подкрепляла свои слова Фредерика в спорах с Артуром. И Джон Браун был убийцей, не так ли, как бы он ни воображал себя лишь слугой Господа? И Харлан Бельфлёр точно так же. Он убийца в глазах Всемогущего.)
Об этом никак не мог знать доктор Уистан Шилер, да и сам Рафаэль Бельфлёр не мог бы объяснить связь этих событий (потому что был начисто лишен какого-либо ощущения внутренней жизни – он счел бы это проявлением постыдной слабости), – но, спустя примерно семьдесят лет после явления Харлана на длинноногой лошади, он и сам попал в плен циничных, безнадежных настроений и вследствие определенных событий, случившихся до его рождения, велел после смерти натянуть свою кожу на барабан.
Какую он испытывал ярость, какой стыд! При этом как будто вовсе ничего не чувствуя. Потому что у Рафаэля не сохранилось никаких стойких воспоминаний о рассказах (чьих – соседей? Одноклассников? Уж точно не родителей, они никогда не говорили о прошлом) про резню в Бушкилз-Ферри и суд и неожиданный приезд Харлана; у него вообще почти не было осознанных воспоминаний о своем детстве.
(Хотя он все-таки был когда-то ребенком – пусть и совсем недолго.)
Он годами раздумывал об этих событиях, отступивших в тень на фоне его невероятно насыщенной жизни: массовое убийство, спасение Джермейн из горящего дома, арест старого Рейбена и Варрелов, судебные слушания, обвинения, сам суд…
Но все затмевало унижение его матери.
Его мать, Джермейн, говорила запинаясь и все время смущалась, представая в суде день за днем, в конце зимы 1826 года, перед сотнями любопытных зевак. Ее унижение было в каком-то смысле даже невыносимее, чем сами убийства, ведь они-то произошли быстро. (Этот факт неизменно поражал: шесть человек убиты всего за несколько минут. Так быстро!)
Его мать Джермейн, в бесформенном черном платье, отвечающая на вопросы, мнущая и теребящая юбку…
Интересно, думал Рафаэль: смотрела ли она на ответчиков, прямо на них, на убийц своей семьи… Нет сомнений, что в безжалостном свете, проникающем в зал суда через высокие окна, они показались ей самыми заурядными людьми; как будто уменьшившиеся в росте – как из-за окружающей обстановки, так и из-за чувства вины. Или она упорно отводила глаза на протяжении всего времени, пока длился суд?..
Да, я узнала их, да, я знаю, кто они, убийцы моего мужа и моих детей. Да, они здесь, в этом зале.
Окружной суд Нотога-Фоллз занимал строгое здание с фасадом из песчаника и четырьмя греческими колоннами, окна которого выходили на красивую площадь и расположенную наискосок от нее старую окружную тюрьму. Это было довольно просторное здание для своего времени, и на заседании, известном как «дело Бельфлёров», или «дело Варрелов», или «дело Лейк-Нуар», в нем уместилось более двухсот зрителей. (Местность вокруг озера с ее бесчисленными нераскрытыми преступлениями – кражами, поджогами, убийствами имела дурную славу еще со времен первых поселений в середине XVIII века; и хотя убийство семьи Бельфлёров расценивалось как особо жесткое и отвратительное, потому что погибли дети, публика и газетчики из центральных штатов рассматривали его как типичное проявление беззакония, царящего в этой местности – да, случай зверский, варварский, но не удивительный.)
В зале суда в тесноте и вперемешку сидели друзья и соседи Бельфлёров, друзья, соседи и родственники Варрелов, просто окрестные жители, которые не знали, на чьей они стороне; а еще многочисленные приезжие – некоторые из них прибыли в Нотога-Фоллз на телегах, запряженных лошадьми, а кто-то в изящных экипажах. Кто победнее, привезли с собой еду и перекусывал снаружи, на площади, несмотря на холод; а кто побогаче – останавливались в «Нотога-хаус» или «Гульд-инн» или приезжали в город на один день из своих поместий на Лейкшор-бульваре, потому что им не терпелось увидеть вдову Бельфлёр и этих ужасных людей, которые зарезали ее мужа и детей. (Некоторые из богатых зрителей в свое время знали старика Жан-Пьера, хотя не спешили это афишировать.) Чтобы женщина стала участницей этого кошмара и все же выжила!..
Бедная Джермейн Бельфлёр.
Эта несчастная.
На зарисовках из зала суда можно видеть темноглазую, смотрящую прямо перед собой женщину в глубокой скорби, лет тридцати пяти – сорока, с крупноватой челюстью и преждевременными носогубными складками. По общему мнению, совсем не красавица. Возможно, и была когда-то хорошенькой, но сейчас нет; право слово, не сейчас: в ее поджатом рте, в чуть прищуренных глазах есть что-то упрямое, почти бульдожье, вы не находите? Когда ее вызвали на место свидетеля и она села на стул на высоком постаменте, то стала казаться меньше ростом; голос у нее был нетвердый, немного в нос, какой-то бесполый и решительно не мелодичный, что разочаровало часть зрителей. А когда она отвечала на нескончаемые вопросы обвинителя, а потом на нескончаемые, въедливые вопросы адвоката обвиняемых, все заметили, как она крутила и теребила пальцами край юбки своего грубого платья, глядя в пол, словно это она была преступницей… (Газетчики были разочарованы не только внешностью миссис Бельфлёр, которой недоставало женственности и грации, но и ее показаниями: они были явно отрепетированы. Ведь, без сомнения, истица, как, впрочем, и убийцы, и большинство свидетелей, не осмелились бы рта раскрыть в таком месте, перед судьей, присяжными и толпой зрителей, не вызубри они, как дети для урока, каждое слово; в результате чего, как остроумно заметил один корреспондент из вандерполской газеты, все они – миссис Бельфлёр, и обвиняемые, и их соседи – производили на сторонних наблюдателей впечатление одной большой недоразвитой семейки с интеллектуальным уровнем и манерами запуганных овец. Какие все они неотесанные!)
Деревенщина. Горцы. Белая голытьба. (Да, именно так – несмотря на безразмерные владения Бельфлёров и бесчисленные инвестиции Жан-Пьера.) Там был старый Рейбен с ввалившимися щеками и почти беззубым ртом, с лицом, как печеное яблоко, – Боже, ну и страшилище; и эти Варрелы, впервые в жизни надевшие костюмы и галстуки, Рубен, Уоллес и Сайлас, с виду совсем больной; и этот парень, Майрон, который выглядел не старше семнадцати и озирался в зале суда с потерянной полуулыбкой. Старый Рейбен, Варрелы, миссис Бельфлёр; разве все они не принадлежат к «народцу Лейк-Нуар» с его вечной кровной местью, с дикими нравами, да что с них взять?..
Жизнь, несколько, жизней, отнятых в течение часа.
Ужасное, изнурительное средоточие всех ее мыслей: словно и сама Джермейн лишилась жизни той октябрьской ночью, вместе с остальными. Словно ничего не существовало, помимо того отрезка времени: даже не часа, а нескольких минут.