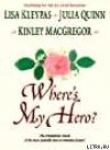Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 52 страниц)
Книга вторая
САД, ОБНЕСЕННЫЙ СТЕНОЙ
Сосуд с ядом
Ноэль Бельфлёр, дед Джермейн, в тайне ото всех почти всю жизнь, больше пятидесяти лет кряду, носил с собой небольшой пузырек, инкрустированный мелкими недорогими рубинами и бриллиантами (впрочем, возможно, это было крашеное стекло и горный хрусталь), – с цианистым калием. Об этом пузырьке не знал никто, даже жена Ноэля, даже его мать. Ноэль почти не расставался с ним, разве что на ночь, и тогда убирал его в комод рядом с своей кроватью. Когда на склоне лет они с Корнелией перестали делить постель, а потом и комнату (Корнелия винила в этом его ужасный храп), Ноэль завел привычку прятать пузырек под подушкой. Для пущей сохранности. Проснувшись ночью после беспокойного сна или маясь от бессонницы, он запускал руку под подушку и нащупывал его – пустячок, усеянный камнями, приятный на ощупь своей шероховатостью, согретый его присутствием.
Время от времени он отвинчивал крохотную крышечку и, закрыв глаза, принюхивался. Яд обладал упоительным терпким запахом – таким же стремительным и ошеломляющим, как нафталин, или нашатырь, или струя скунса, – все эти запахи, не слишком концентрированные, Ноэль в общем-то любил. Изредка он даже высыпал белые кристаллики из пузырька и всматривался в них. Разве не утрачивает со временем яд, даже такой безупречный, свою удивительную способность к убийству?.. Хотя он мог бы найти ответ на этот вопрос в одной из бесчисленных книг из дедовой библиотеки или справиться у своего внука Бровмела (Джермейн была еще совсем несмышленой, а мальчик уже успел собрать весьма внушительную собственную библиотеку, причем не спрашивая чьего-либо разрешения: он просто заказывал то, что хотел, с доставкой: все тома Всемирной энциклопедии, труды по биологии, астрономии, химии, физике, математике и даже разборный телескоп, который прислали на склад в Бельфлёре, и Гидеон поехал уплатить четыреста долларов, гадая, что же на этот раз приобрел его своевольный сынок); Ноэль запросто мог спросить об этом и доктора Дженсена, который частенько заглядывал к ним узнать о самочувствии Леи и ее маленькой дочурки, но все же помалкивал – яд был его священной тайной, и говорить о нем вслух было бы кощунством. Он лишь изредка обновлял содержимое склянки, подсыпая «свежего» цианида.
На склоне лет Ноэль Бельфлёр приобрел экстравагантную, крайне осторожную повадку и стал походить на морского ястреба, вынырнувшего на поверхность с бьющейся рыбой в клюве. Впечатление он производил человека скрытного и неопрятного. На носу у него имелась горбинка, щеки почти без морщин лоснились, а на лбу поблескивал полученный на войне старый шрам, напоминающий третий глаз – иногда казалось, что он более живой, чем собственно глаза: маленькие и рассеянные, они смотрели из-за стекол очков точно из-под воды. Он сильно и будто бы с нарочитой неуклюжестью хромал и одевался неряшливо – брюки, сползающие с усохших ягодиц и белые рубашки, которые он никогда не заправлял, и они свободно болтались, напоминая ночную сорочку или униформу прислуги. Даже на людях Ноэль появлялся не в самом чистом виде. Джермейн так и запомнит его: старик, похожий на крючконосую птицу в неопрятном гнезде. Никто бы не удивился, появись он с приставшими к одежде перьями. Если он удосуживался побриться – что случалось нечасто, – то результат был скверный, и за завтраком у него на лице краснело с полдюжины мелких порезов, однако к замечаниям близких Ноэль оставался безучастен или сердился. Раз в несколько месяцев в усадьбу приезжал парикмахер из Нотога-Фоллз, чтобы привести в божеский вид Ноэля и его престарелую матушку Эльвиру (та принимала парикмахера приватно, в собственной спальне). Если Ноэль походил на старого, жилистого хищника, осмотрительного и дерзкого, то его супруга Корнелия, скорее, на цесарку – это была сохранившая свою привлекательность женщина с красивыми, миниатюрными руками и ногами и белоснежными волосами, всегда тщательно причесанными и уложенными.
Точно птицы, эти двое порой клевали друг дружку, нетерпеливо и раздосадованно, но беззлобно. Прознай Корнелия о тайном пузырьке, она наверняка воскликнула бы: «Старый дурак мне назло это придумал, чтобы унизить меня! Он проглотит цианид, я останусь одна, и все вокруг будут показывать на меня пальцем: вон та, чей муж наложил на себя руки, так она ему наскучила!»
На самом же деле эта особенная вещица появилась у Ноэля, когда он, семнадцатилетний мальчишка, страдал – возможно, даже больше, чем Хайрам и Жан-Пьер, – от тягостной череды унижений, которые пришлось претерпеть его отцу: резкое уменьшение фамильного состояния, продажа земель, демонтаж построенной Рафаэлем железной дороги (хорошенькие вагончики и даже шпалы угодили в металлолом, а детали их интерьера никому не приглянулись, так что их сложили в пустой сарай, где они постепенно сгнили), отчаянная попытка быстро поправить дела, занявшись разведением лис… «Что теперь, что дальше…» – бормотал Хайрам, шумно вздыхая, и Ноэль, лишенный возможности проводить время возле лошадей, все больше болтался по замку – костлявый, нескладный парнишка, апатичный, охваченный свойственной Бельфлёрам неотступной хандрой, неспособный палец о палец ударить из-за потерянности и отчаяния. В те дни Жан-Пьер, получивший свое имя в честь того самого Жан-Пьера, был любимчиком матери, избалованный, капризный и смазливый – с черными кудрями и темными, по-щенячьи лукавыми глазами. Несмотря на бедственное положение Бельфлёров, он умудрялся почти каждый день играть в карты в Фоллз и в некоторых прибрежных тавернах с дурной репутацией. В свои двадцать простодушный и безгранично добрый, он, стараясь избавить младшего брата от «тоски», звал Ноэля составить ему компанию, однако тот всегда отказывался. Зато он согласился принять от Жан-Пьера подарок – маленький, украшенный драгоценными камнями флакончик, который брат выиграл в покер.
– Это для нюхательной соли или чего-то вроде, – сказал Жан-Пьер, сунув пузырек Ноэлю. – А может, для опиума. Мне он точно не сгодится.
– Для цианида, – тут же решил Ноэль.
– Что-о? – улыбнулся Жан-Пьер. – Что ты сказал?
Пузырек Ноэль спрятал и никому не показывал. Вскоре, наполненный ядом, тот зажил собственной, независимой жизнью – словно еще один странноватый член семейства – и, однако, в то же время безоговорочно принадлежал ему, Ноэлю. «Самоубийство!» – мечтательно восклицал он про себя на пороге двадцатилетия и потом тоже – мальчишка, чье воображение вибрировало от неистовых сексуальных фантазий; самоубийство, сама мысль об избавлении, почему она так заманчива?..
Нередко, сидя в гостиной или за обеденным столом, он совал руку в карман брюк и принимался вертеть пузырек в пальцах, продолжая как ни в чем не бывало поддерживать беседу с кузинами и тетками. Самоубийство, сама мысль о нем, заманчивая мечта – почему его лицо вдруг озаряла такая радостная улыбка? Разумеется, Ноэль никогда не пытался прибегнуть к цианиду. Никогда. Ему доставляла радость сама мысль о пузырьке с ядом, само ощущение обладания.
(В семье ходили легенды о «странных» самоубийствах. Взять, к примеру, утонувшего в Лейк-Нуар деда Ноэля… да и отца тоже, Плача Иеремии, покинувшего дом в жестокую бурю, хотя родные пытались отговорить его – разве это не самоубийство? А самой странной была разыгранная смерть, или так называемое «убийство» президента Линкольна, близкого друга Рафаэля – деда Ноэля (по крайней мере, по семейной легенде, которой Ноэль по определенным соображениям не доверял). Однако в семье считалось, будто Линкольн инсценировал собственное «убийство», чтобы таким образом избавиться от политических распрей и семейных неурядиц и провести последние дни в усадьбе Бельфлёров. Бедняга совершенно измучился от бремени, возложенного на него страной и собственными домочадцами, и тяготился совершенными преступлениями (война унесла тысячи жизней, и эту утрату нельзя оправдать никакой политической целесообразностью, а еще сотни мирных жителей угодили за решетку в Аризоне и других штатах, причем безо всяких судебных разбирательств, лишь по его высочайшему приказу). Говорили, будто Линкольн так измучился от жизни, что ему хотелось провалиться сквозь землю и навсегда исчезнуть… Поэтому в результате заговора (смысл которого Ноэль до конца не понимал), полностью оплаченного и продуманного Рафаэлем Бельфлёром, Линкольн-политик был «убит», а Линкольн-человек продолжал жить. Из всех видов самоубийства этот казался Ноэлю самым элегантным.)
На похоронах бедного молодого Фёра, столь нелепо погибшего на скачках, Ноэль, возможно самый хмельной из всех скорбящих (хотя его сын Гидеон тоже основательно нагрузился виски, и Ноэль с досадой думал: конечно, Гидеон еще молод и способен долго не поддаваться опьянению, этим даром и он сам обладал когда-то), поглаживал драгоценный пузырек и предавался мыслям о смерти.
Смерть. Как внезапно приходит она, когда ты совершенно этого не желаешь. И как нехотя приближается она, когда ее ждешь. Николас Фёр мертв: он неоднократно падал с лошади, дрался и вытворял Бог весть что, однако сейчас он мертв, а его несчастное тело изувечено. Были люди, кому Ноэль желал в свое время смерти – например, Варрелы, пока их всех не убили (в чем несправедливо обвинили Жан-Пьера); пара соперников – претендентов на руку и сердце Корнелии; проклятые враги его народа, против которых он воевал. Но он никого не убил. Ни единого солдата. По-настоящему он не желал никого убивать, не желал причинять смерть, и его беспокоило, что, возможно, когда придет время (а когда оно придет? Он уже немолод, зрение его подводит, лосося в озере не осталось, да и Фремонт стал прихрамывать), у него не хватит сил принять цианид, который он хранил столько десятилетий… Удивительно, что его дед Рафаэль прожил так долго. Вот же вредный старик. Богач и, однако, неудачник: и как политик, и как муж, и (по его собственному признанию) как отец. Конечно, ему хотелось умереть, все эти годы он прожил почти затворником, и компанию ему, наряду с книгами и журналами, составлял лишь Почетный гость (еще один незадачливый политик, с которым Рафаэль познакомился во время избирательной кампании, представитель той же партии, которому Рафаэль по причинам, ему одному известным, считал себя обязанным; по слухам, разумеется нелепым, этот бородатый пожилой мужчина был сам Авраам Линкольн!). Ведь ему наверняка хотелось умереть, думал Ноэль, только ему недоставало смелости или отчаяния, чтобы убить себя.
А вот ему, Ноэлю, смелости хватит. Когда придет время.
Но сейчас он смаковал виски и предавался воспоминаниям, и ему было недосуг даже уделить внимание Гидеону, хотя тот, похожий на ребенка-переростка, отчаянно нуждался в утешении. Ноэль сто раз сказал Гидеону, что случившееся в Похатасси – не его вина, в самом деле не его вина, и пусть он забудет об этом, а если забыть не получается (ведь Николас все же был Гидеону лучшим другом), то нужно вырвать из сердца это воспоминание – и прежде всего, он не должен чувствовать вину ни за эту победу, ведь она досталась им с Юпитером по праву, ни за то, что выиграл кучу денег. (Ноэль точно не знал размер выигрыша. Он подозревал, что Хайрам в тайне ото всех сорвал солидный куш, да и Лея в обиде не осталась. Сам же он выиграл скромную сумму – всего шесть тысяч долларов.) Однако потом Ноэль оставил Гидеона в покое и, не обращая внимания на ворчание супруги, пил виски, курил сигары, грубовато трепал по голове котят, щекотал им круглые животики и размышлял о прошлом, обо всем, что пошло наперекосяк. А ведь жизнь не только наперекосяк может пойти, удивлялся Ноэль, она умеет вязать узлы и складывать узоры, такие же причудливые, как на безумных лоскутных одеялах его сестры Матильды. (Ведь они и впрямь плод безумия. Все эти переплетающиеся, извивающиеся, рябящие в глазах расцветки! Его мозг просто не справляется с этим буйством. Ох, эти его сестрички – Матильда и Делла! Мысль о них причиняла боль. Может, ему вообще не стоит о них думать. Делла несправедливо обвиняла его в нелепой смерти своего мужа и даже спустя тридцать лет продолжала шипеть: «Убийца». Она – какова степень ее твердолобости! – даже обвиняла его в том, что Гидеон и Лея влюбились друг в друга и настояли на официальном браке, несмотря на то что были кузенами. А Матильда! Способная прекрасно поддержать беседу, беззлобная и даже благодушная, когда бы он ее ни навестил, однако совершенно точно тронутая – иначе почему она поселилась в этом старом охотничьем домике к северу от озера? Домик остался от кемпинга площадью пятьдесят акров, устроенного Рафаэлем для состоятельных гостей (один из них был член Верховного суда Стивен Филд, умудрявшийся сохранять эту должность за собой на протяжении трех неспокойных десятилетий, другой – промышленник Хейес Уиттиер, практически державший под контролем республиканскую партию. У него был умирающий от туберкулеза сын, которому исполнился двадцать один год, имевший при этом телосложение десятилетнего ребенка. И Рафаэлю пришло в голову, что северные леса – его северные леса – могут спасти юношу). Почему Матильда с упрямством фанатика-отшельника отстаивала свое одиночество, не принимала денег ни от Ноэля, ни от Хайрама, сама выращивала овощи и разводила тщедушных цыплят, выставляя себя на посмешище в деревне – деревне, носившей ее родовое имя! – скупая старое тряпье и продавая свои невообразимые одеяла, а иногда – яйца, домашний хлеб и овощи? Нет, он не станет о ней думать.)
Ох, может, разрешить себе думать о Жан-Пьере?
Во время судебного процесса над ним (нет – процессов, потому что первый закончился тем, что присяжные разошлись во мнениях) Ноэль не только сжимал пузырек в пальцах, но и вытащил его из кармана, раздумывая, не принять ли ему яд, если Жан-Пьера признают виновным, или передать пузырек брату… Но природная трусость не позволила бы Жан-Пьеру принять яд, как, собственно, не позволила бы убить десять или одиннадцать человек – он непременно разрыдался бы и, возможно, рассказал обо всем матери. А стыд, гнев и ярость, переполнявшие Ноэля после вынесения приговора, отбили у него желание умереть, ему не хотелось даже скрыться от позора, о котором трубили во всех газетах и который тешил многочисленных врагов семейства – пока Бельфлёрам задают жару, до правосудия никому нет дела. Умирать ему не хотелось, но само существование маленького пузырька вселяло в него спокойствие.
А ведь был еще его старший сын Рауль, управлявший одной из семейных лесопилок в Кинкардайне и связанный узами необычного брака – или, скорее, пикантными отношениями? (Ноэль был почти не осведомлен об обстоятельствах, а когда женщины начинали судачить об этом, он, питая отвращение к сплетням, тут же обрывал их.) Рауль никогда – никогда! – не приезжал к ним. Даже когда Корнелия несколько лет назад заболела и слегла. Даже той зимой, когда Ноэль сам свалился с желудочным гриппом и похудел на восемнадцать фунтов. «Мальчишка нас не любит», – обиженно говорил Ноэль. «У него своей головной боли хватает», – отвечала Корнелия. «Он нас не любит, иначе приехал бы, – отвечал Ноэль, – вот и всё».
Жан-Пьер, его привлекательный, элегантный брат, заключенный в тюрьму пожизненно плюс девяносто девять лет, плюс девяносто девять лет, плюс девяносто девять лет… И его старший сын Рауль, который, теша свое самолюбие, полагал Ноэль, так похож на него самого… И Делла, которая его ненавидит, и не нуждающаяся в нем Матильда (дородная, с красными и круглыми, точно спелые яблоки, щеками, она выгоняла из кухни цыплят, освобождая место для Ноэля, вежливо улыбалась и отвечала на его вопросы: как она справляется? Нужны ли ей дрова? Нужны ли продукты? А деньги? Нужен ли ей он?). И Корнелия, заманившая его в свои сети, но не уважавшая так, как полагается женщине уважать своего супруга. (Их брак сошел с курса еще во время медового месяца. Точнее, во время первой брачной ночи. Хотя о свадебном путешествии они не распространялись и доверили свои планы лишь нескольким близким родственникам, друзья Ноэля и его собутыльники настигли молодоженов в «Серных источниках», где те остановились на ночь, и принялись неистово «гудеть» – звенеть в колокольчики, бить в жестянки, поджигать шутихи и дудеть в рожки на разные лады, вопить и выкрикивать скабрезности. И Ноэль, последовав горным обычаям – с восторгом последовав горным обычаям, разумеется, пригласил эту захмелевшую публику внутрь и стал угощать выпивкой и сигарами и даже сыграл с ними несколько раз в покер. На следующее утро он с удивлением обнаружил, что его невеста оскорблена.) И его отец, Плач Иеремии, изнуривший себя до крайности в попытках вернуть утраченные семейные богатства, так и не переживший презрительного отношения собственного отца и это жестокое «новое крещение», совершенное с такой изощренностью. Бедный Иеремия сгинул в Великом потопе почти двадцать лет назад, тело его так и не нашли, и достойного погребения он не получил…
Живые и мертвые. Сплетенные воедино. Сотканные в одно полотно – бескрайнее, накрывающее несколько столетий. Ноэль запил в день гибели Николаса и не просыхал до осени – сидя перед камином, он заливал себя виски, усыпал табаком и пеплом… Живые и мертвые. Столетия. Полотно. А может, одно из затейливых лоскутных одеял Матильды, режущих глаз, но (если позволить ей все объяснить, растолковать сочетания) дающих, пусть и смутную, но разгадку?.. Ноэль оплакивал своего сгинувшего отца, и упеченного за решетку брата, и даже своего так и не получившего имени сына, умершего спустя три дня после рождения, давным-давно; он оплакивал милую молоденькую жену Хайрама Элизу, и своего сына Рауля, и других. Других. Их слишком много – не сочтешь. Многолетняя крепкая дружба с Клодом Фёром закончилась ссорой, никто из них так и не извинился, хотя, возможно, Ноэлю следовало сделать первый шаг, потому что он, Бельфлёр, более милосерден… Но он не извинился, и сейчас они обвиняют Гидеона в смерти Николаса, и все идет наперекосяк, затягиваясь в отвратительные узлы и петли, развязать которые можно, лишь хлебнув из драгоценного пузырька.
Вдоволь навосхищавшись младенцем, женщины замечали возле камина Ноэля и принимались тормошить его. Даже Корнелия. («Ты что же, не желаешь посмотреть на свою маленькую внучку! Ведь она настоящая красавица!») Даже Вероника, обычно не обращавшая на него внимания. (Принято было считать Веронику одной из сестер Ноэля. На самом же деле она была его теткой, и намного старше его, хоть и выглядела поразительно молодо – полное круглое лицо, которое пощадили морщины, грубоватые румяные щеки, близко посаженные карие глаза, спокойные и маленькие, а волосы такого теплого медового оттенка, что она наверняка их красила, причем красила мастерски. Ноэль как-то пытался прикинуть, сколько ей лет, но запутался в вычислениях и, махнув рукой, налил себе еще стаканчик.) Даже Лили, явно завидующая Лее, и та прибегала, чтобы убедить его пойти взглянуть на новорожденную – она же так быстро растет, еще чуть-чуть, и вырастет из младенца!
Он ворчал, требуя оставить его в покое. Всему свое время, всему на земле свой черед: черед рождаться и умирать… Черед убивать и врачевать, черед ломать и строить… Черед смеяться и черед плакать.
Тем не менее, однажды заглянув в приоткрытую дверь будуара Леи, Ноэль увидел… увидел Лею в зеленом шелковом пеньюаре, одна грудь, налитая и белая, словно воск, обнажена, а сосок вытянутый и удивительного розово-коричневого цвета. Он увидел, как одна из служанок передала ей младенца. Словно парализованный, Ноэль смотрел, как дитя (оно было крупным и резво размахивало руками и ногами) принялось сосать, слепо потянувшись жадным маленьким ртом к соску. Ноэль стоял и смотрел, руки в карманах, и колени его дрожали, а очки запотели. Боже мой… – подумал он.
Лея бодро окликнула его и пригласила войти. Почему он стоит, разинув рот? Он что, младенцев не видел? Не видел, как их кормят?
– Какая она сегодня прожорливая! – сказала Лея. Она поежилась и рассмеялась. Голос ее был полон ликования, и Ноэль пришел в восторг. – Вы только посмотрите! Ну не красавица ли!
Маленькие ручки сжимались и разжимались. От удовольствия дитя прикрыло глаза, а потом снова открыло их – чистые, ярко-зеленые, – будто испугавшись, что у него отнимут грудь.
– Ну прямо поросеночек, правда? – смеялась Лея.
– Очень… Очень здоровенький младенец… – едва слышно проговорил Ноэль.
– Да, она крупненькая. И растет с каждым днем.
Ноэль снял очки и принялся протирать стекла. С робостью, присущей жениху, он присел на диван. Никогда прежде его невестка не была такой красивой – белоснежная кожа лоснилась, синие глаза ликующе сияли, полные губы блестели. На ее шелковом пеньюаре расплывались молочные пятна, и от молочного запаха, теплого, спертого и сладкого, у Ноэля голова кругом пошла. Ах, если бы Лея и его могла покормить грудью!
Зачем он только прятался все эти недели, печалясь о том, чего неспособен был изменить, и по-стариковски сплевывая в камин?
Тем вечером он оставался у Леи до тех пор, пока она не выпроводила его. А на следующее утро вернулся и опять сидел и не уходил. Завидовать Гидеону или нет, он не знал: в последнее время Лея и Гидеон обращались друг с другом с деланной любезностью, они больше не скандалили на глазах у всей семьи и не награждали друг друга оплеухами; больше не держались за руки и не перешептывались и прекратили шумно целоваться. Гидеон привел в порядок бороду и усы и демонстрировал образцовое поведение. Ужасные черные недели, последовавшие за гибелью Николаса, миновали, Гидеон превратился в джентльмена, и Лея обращалась к нему с холодной рассеянной улыбкой. В бытность их молодоженами Корнелия возмущалась тем, что эти двое прилюдно лапают друг дружку… Однако дни эти, кажется, остались в прошлом.
И тем не менее Ноэль завидовал своему сыну. Потому что, несмотря ни на что, Гидеон был этой женщине мужем. Ее мужем и отцом этого чудесного младенца.
Раньше, когда кто-нибудь рассказывал о роде Бельфлёров, Лея отворачивалась, а если обсуждались их богатства – а такое случалось нередко, – то изображала вселенскую скуку. Но теперь ей вдруг захотелось узнать обо всем – обо всем, что Ноэль мог ей рассказать, вплоть до времен Жан-Пьера I, младшего сына герцога де Бельфлёр. О том, как Людовик XV изгнал его из Франции за «дерзкие идеи» о правах личности… О том, как Жан-Пьер без единого пенни в кармане приехал в Нью-Йорк и каким-то образом всего за несколько лет разбогател настолько, что сумел приобрести в семидесятых годах восемнадцатого века 2 889 500 акров земли по семь с половиной пенсов за акр… Лея радовалась, слушая, как этот удивительный человек одновременно стремился контролировать северо-восточные границы страны, получившей название Соединенные Штаты Америки (что предполагало контроль над судоходством и торговлей с Монреалем и Квебеком), и строил планы – неужели он всерьез надеялся! – удивлялась Лея – окончательно отделить свои владения от штата, даже от государства и утвердить свой личный суверенитет. Он собирался назвать свои земли «Нотога» и укреплять дипломатические и торговые связи с Французской Канадой.
«A-а, Нотога, – прошептала Лея, – ну, разумеется. Нотога. Так просто… Почти три миллиона акров, его собственные. Нотога».
Единственный оставшийся в семье портрет Жан-Пьера Бельфлёра представлял собой стершуюся гравюру на фронтисписе «Альманаха состоятельных персон» – брошюры, которую в 1813 году Жан-Пьер издал вместе с приятелем-книгопечатником, решив бесстыдно скопировать «Альманах» Бена Франклина[12]12
«Альманах бедного Ричарда», или «Альманах» Бенджамина Франклина – серия популярных книг о самых разных областях жизни, знаменитая и благодаря «крылатым выражениям», вошедшим в современный язык американцев.
[Закрыть]. На темной репродукции можно было рассмотреть блестящие глаза и кустистые изогнутые брови. Привлекательный мужчина в парике, с почти черной изящной бородкой. И с благородным бельфлёровским носом – длинным и тонким. Средних лет, еще не старый. Повернувшись к свету, Лея разглядывала фотографию.
Да, хорош – и в нем несомненно был налет благородства.
«Расскажите мне о нем – все, что знаете! – обратилась Лея к старшим членам семьи, а помолчав, храбро добавила: – Даже об обстоятельствах его смерти».
Шли дни. Осень, как и полагается, превратилась в зиму, солнце рисовало в небе коротенький завиток и скрывалось за горизонтом уже в три часа пополудни. А в некоторые дни вообще не показывалось. И тем не менее Ноэль Бельфлёр никогда еще не чувствовал себя таким счастливым.
– Что это ты напеваешь себе под нос? – подозрительно интересовалась Корнелия. – И почему ты улыбаешься?
А Эвелин спрашивала:
– Папа что, начал и по утрам виски угощаться?
Сама же Лея, источник его приподнятого настроения, предпочитала не замечать ничего необычного – волевой отец ее мужа всегда отличался несвойственной Бельфлёрам жизнерадостностью. Он готов был разговаривать с ней часами, без устали. И если он говорил: «Ох, Лея, я, наверное, давно утомил тебя этими бородатыми стариковскими историями» Лея непременно возмущалась. Да как ему такое в голову пришло – разве могут ей надоесть рассказы о Бельфлёрах?!..
Старый Жан-Пьер, невероятный человек. Нотога на заре своих дней. Старый дом на противоположном берегу озера, в Бушкилз-Ферри. (Там-то и случилась трагедия, но в подробности Ноэль не вдавался.) Империя Жан-Пьера, бурные годы его членства в Конгрессе, средства, вложенные в строительство отелей и постоялых дворов, покупку пароходов, развитие транспортных сообщений; «Альманах состоятельных персон» (который, несмотря на подражательный принцип, выдержал целых триста тиражей!); замысел перевезти в Чотокву Наполеона; старый клуб «Кокань»; прожекты по сбыту древесины; скандал с производством удобрений из навоза арктического лося; бесчисленные женщины или легенды о них… Ноэль рассказывал с увлечением. Его собственные дети никогда не слушали эти истории, за исключением одной – она передавалась без подробностей: о резне в Бушкилз-Ферри. Настоящее чудо, что именно Лея Пим, самая красивая из всех невесток за все существование их родового замка, загорелась таким жадным, таким неукротимым интересом. Ноэль сиял от удовольствия. Стоило Лее задать вопрос – и Ноэль на несколько часов погружался в прошлое. В эти ленивые вечера, позолочённые светом ламп, казалось, будто в комнате рядом с ними появляется сам старый Жан-Пьер Бельфлёр – вот, повернувшись спиной к камину и облокотившись на каминную доску, он раскуривает терпко пахнущую трубку и весело кивает…
Однажды в полдень Ноэль позвал детей прокатиться через Лейк-Нуар на запряженных лошадьми санях. Лед был крепкий – замечательно крепкий, – толщиной не меньше двенадцати дюймов. (Лед Лейк-Нуар! – явление, принимаемое местными жителями как данность, но неизменно приводящий в изумление приезжих. Разве возможно, дивились они, чтобы лед, то есть, по сути дела, всего лишь вода, и цветом, и даже текстурой так походил на оникс? Да еще и не таял под теплым апрельским солнцем, сохраняя прочность в пору, когда от льда освобождаются даже расположенные выше в горах озера и пруды… Вода озера казалась совершенно «обычной», ничуть не темной и не дымчатой, и в результате ее тщательного изучения под микроскопом малыш Бромвел ничего необычного не обнаружил. Но в самом озере вода теряла прозрачность и отсвечивала темным глянцем, как вороньи перья. Легенда гласила, что Бельфлёры не умирают, а опускаются после смерти на дно Лейк-Нуар, где продолжают жить дальше, и порой, если вглядеться в лед, их можно увидеть – но показываются они лишь тому, кому самому суждено вскорости умереть. Однако дети никогда не верили в эту легенду и рассказывали ее, только чтобы попугать друг дружку.)
Пока Ноэль катал по озеру детей – укутанные шерстяным одеялом на пуху, Кристабель, Луис и Вида устроились позади, – в голову ему вдруг пришла необычайная идея: он сунул руку в карман и нащупал пузырек. Да, пузырек лежал на своем обычном месте, где и всегда. Но успокоения больше не приносил. Он перестал казаться важным. Яд? Быстрая смерть? Саморасправа? Но зачем? (Ноэль представлял, как этот вопрос задает ему невестка – по щекам у нее разливается румянец, а прелестные глаза сияют.)
Ты – Бельфлёр! – в поисках успокоения трусливо примешь яд?
Он решил было выбросить пузырек, но такой толстый лед не разобьешь, а значит, пузырек кто-нибудь непременно найдет. Поэтому Ноэль снова спрятал его в карман. А так как в этот день они собирались навестить беднягу Джонатана Хекта (самочувствие у того ухудшилось, и все полагали, что до Нового года ему не дожить), Ноэль решил оставить пузырек старому другу. Ну конечно – Джонатану.
«Бедный, бедный старик», – думал Ноэль, и сердце его накрыла волна сострадания.