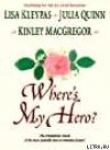Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 52 страниц)
– Присутствие я ощутил, причем нескольких персон, – сказал он, не сводя глаз с посыпанной гравием дорожки. – И… да, да, полагаю, его можно назвать посторонним.
Несмотря на ажурную решетку и чересчур роскошное убранство, да еще и это пугающе огромное зеркало и, разумеется, отказавшись от присутствия женщин (а в офицерском клубе дамы довольно часто скрашивали вечер, когда тот близился к концу), Сэмюэль с друзьями-гвардейцами решили провести ночь в Бирюзовой комнате за покером и разгадать ее загадку.
Два или три часа их мальчишеская радость скрадывала «постороннее присутствие» и ничего, что можно было бы счесть необычным, не происходило, разве что невесть откуда взявшийся ветер переворачивал карты и сдувал их со стола, а белое вино – очень сухое белое португальское из погреба Рафаэля – казалось, тут же ударило всем в голову, словно это было не вино, а кое-что покрепче. Затем, хотя Сэмюэль продолжал упрямо твердить, что ничего особенного не происходит и что им следует обуздать свое воображение, стало очевидно, что в помещении присутствуют некие невидимые существа: они все чаще вмешивались в игру, подносили невидимыми руками бокалы к губам игроков, проливали вино, крутили на столе золотые монеты, а один из призраков игриво потрепал Сэмюэля по голове. На обивке кресла появлялись вмятины, точно от чьих-то внушительных ягодиц. Зеркало помутнело. Шестиугольные хрустальные подвески на одной из люстр зазвенели. По комнате пополз запах плоти – не чистый, но и не отвратительный, запах высохших телесных выделений, смешанный с запахом земли, солнца, растений, нестираной одежды. Однако самыми мучительными были голоса, время от времени перерастающие в легкий глумливый смех. И хотя Сэмюэль – теперь излишне громко – убеждал приятелей, что все происходящее лишь плод их воображения: «Господа, вы что же, глупые девицы, в самом деле! Что за трусость!» – молодые офицеры один за другим под благовидными предлогами начали покидать замок. Когда последний из его друзей, пошатываясь, поднялся, Сэмюэль схватил оставшиеся от колоды карты и сердито швырнул их на пол, а сам вскочил и отвернулся, в приступе детского гнева скрестив на груди руки, а подняв глаза, понял, что стоит прямо перед зеркалом. И там, в его гладкой стеклянной поверхности, отражения друга попросту отсутствовало, да и комната отражалась будто в дымке, а сам он казался полупрозрачным, как медуза.
Сэмюэль обернулся – его друг по-прежнему стоял у него за спиной, что-то говоря и протягивая Сэмюэлю руку. Если он и заметил изумление Сэмюэляа, то вида не подал: он собрался уходить, и остановить его Сэмюэль был не в силах.
Друг ушел, оставив Сэмюэля в комнате, поначалу возмущенного – что за чертовщина? – странными колебаниями воздуха, бормотанием, смехом, временами нарастающим, – и этим запахом. Пошатываясь и отхлебывая из бутылки, Сэмюэль стал шагать по комнате. Почему они не показываются, неужели боятся его, кем они себя возомнили, чтобы вторгаться в чужую игру, прерывать ее – кто они такие, чтобы нарушать неприкосновенность усадьбы Бельфлёр. Он заметил в зеркале темную фигуру за своей спиной, обернулся, но никого не обнаружил. «Трус!» – прошептал он.
Золотая минутная стрелка на алебастровых часах над каминной доской начала двигаться в обратном направлении. Сэмюэль уставился на нее, и в эту секунду бутылка вина подлетела к его губам. Его душил гнев, страха он не испытывал и, глядя на наручные часы, сделал несколько больших глотков, так что вино потекло по подбородку. Отшвырнув бутылку, он бросился к часам и снова перевел стрелку вперед. Стрелка точно слегка сопротивлялась, однако он ее переборол и в запале все водил и водил рукой по кругу, вот только совершенно забыл, сколько сейчас времени… Наверное, около двух часов ночи. Или полтретьего. Но не больше трех.
Он снова обернулся – и увидел в подернутом дымкой зеркале группу людей; все они были темнокожими, а чуть в стороне стояла поразительной грации – поразительной для столь плотной фигуры – женщина. Безвольно опустив руки, Сэмюэль смотрел на нее.
В растерянности он принялся соскребать с передних зубов налет, хотя полагал, что уже давно избавился от этой привычки.
Темнокожая женщина, негритянка, но не рабыня, очевидно, что не рабыня, с толстыми лиловыми губами, табачно-бурого цвета кожей, чуть плоским носом с широкими ноздрями, волосами, наэлектризованными и оттого торчащими в стороны, мощными плечами, массивной, но длинной шеей, длинными ресницами и очень темными глазами – глазами, которые насмешливо смотрели на него. Сэмюэль неподвижно стоял в ожидании, что она заговорит – вдруг она назовет его имя, вдруг она позовет его! – стоял, засунув ноготь большого пальца между двумя нижними зубами.
Негритянка, африканка – и с какими вызывающими, отвратительными негроидными чертами! Сэмюэль не сводил с нее глаз, он никогда прежде не видел темнокожей женщины, не видел так близко, и, хотя зеркало затуманилось и фигура женщины была окутана дымкой, она казалась будто увеличенной – преувеличенной – и немного искаженной, словно изображение, отделившееся от своего предмета и застлавшее Сэмюэлю глаза, – видение, затмившее всё вокруг перед его изумленным взором. Но какая же она уродливая! Страшная, несмотря на свою красоту. Зрелая женщина, старше Сэмюэля лет на десять или больше, с тяжелой грудью, свободно покоящейся под бесформенным одеянием в темных пятнах пота, с выступившими на шее жилами, с желтоватыми зубами. У нее даже недоставало одного нижнего зуба… Уродливая, непотребная. И тем не менее она притягивала его, глядя так, будто его страх и отвращение вызывали у нее удивление. Отвратительная, непотребная – Сэмюэлю хотелось развернуться и убежать от нее, захлопнуть за собой дверь и запереть ее… Но все же он не двинулся с места, на лоб ему упал локон, воротник рубашки съехал набок, на жилете расползались разводы от вина, обессилевшие ноги подкашивались, а большой палец упирался в зубы.
– Но ты не имеешь права тут находиться, – прошептал он.
С той самой ночи Сэмюэль ходил сам не свой; даже те, кто прежде едва знал его, постоянно замечали, что он сам не свой. За ужином он рассеянно улыбался, ронял мимо тарелки еду, а говорил вяло и безразлично, чем неоднократно доводил до слез Вайолет, так что ее приходилось уводить из столовой под руки. Грубым он не был – напротив, вел себя с нарочитой учтивостью, однако в каждом его слове, в каждом жесте, даже когда он едва заметно поднимал брови, сквозило порочное, даже недоброе пренебрежение.
Они чувствовали исходящий от него запах женщины, ощущали его поглощенность эротическими переживаниями – это была чувственность глубокая, полновесная, которая огромным камнем давила на его душу и не позволяла ему участвовать в обычной беседе.
Рафаэль поначалу пришел в замешательство, затем рассердился, после растерялся (разве возможно, чтобы его сын предавался запретным утехам, не покидая усадьбу?), и в конце концов его охватил страх. Нет, он вовсе не требовал от своего сына блюсти целомудрие, он, разумеется, знал о весьма распутном образе жизни гвардейских офицеров, но пока не знает Вайолет – или делает вид, что не знает, – это не имеет особого значения. Однако подобного неприкрытого бесстыдства он не ожидал: ведь от Сэмюэля постоянно, даже в столовой за завтраком, исходил густой перезрелый запах, усиливающийся при каждом его движении и отравляющий даже самую невинную атмосферу. А ведь мальчик принимает ванну – само собой разумеется, принимает, раз в день, не реже.
Сэмюэль все сильнее отдалялся от семьи, и хотя Рафаэль был благодарен за то, что парень по крайней мере не прожигает жизнь на одном из этих плавучих казино и не влезает в долги, подобно юношам его круга – в конце концов, Сэмюэль просто уединяется в Бирюзовой комнате, прихватив с собой пару газет, что выписывал Рафаэль, ежегодный альманах и даже Священное Писание! – но тем не менее он не мог не замечать, что сын держится все более отстраненно, и тот, кто холодно смотрит на него глазами Сэмюэля, это вообще не его сын. «Сэмюэль, ты плохо себя чувствуешь?» – спрашивал Рафаэль, тронув сына за руку, но спустя несколько секунд сын убирал руку и с презрительно-безразличной улыбкой хрипло отвечал: «Я чувствую себя превосходно, отец».
Белье Сэмюэль теперь менял реже, а воротнички не застегивал. Когда за ним заезжали друзья, он отказывался к ним спускаться; строевые учения и выездку Ирода – жеребца, которому он прежде уделял столько внимания, он пропускал, мямля что-то про общую слабость. Вайолет, поплакав в объятиях Рафаэля, вдруг переменилась и стало яростно и быстро шептать про «шлюху», отравившую ее мальчика: нет, это не служанка, точно не служанка, служанку он не смог бы проводить тайком на третий этаж каждый день – но женщина у него есть, конечно же есть, грязная, мерзкая потаскуха, которой хочется одного, сломать судьбу наследнику Рафаэля! (Бешеный выпад Вайолет, как и брошенные ею ругательства, ошеломили ее мужа: он и не предполагал, что ей известны подобные слова, не говоря уже про то, что они обозначают.)
Когда Сэмюэль, словно в забытьи, выходил из Бирюзовой комнаты, его красивое лицо – еще более красивое, чем прежде, – блестело от пота. Щеки его горели, губы казались запекшимися и искусанными. Потерявшие фасон усы, должно быть, кололись. Однажды Вайолет сняла с его губы тонкий курчавый волос, чем вызвала недовольство сына. «Не трогай меня, мама». – Он отпрянул. Но, по крайней мере, в этот момент он посмотрел ей в глаза.
Конечно, в его отсутствие комнату осматривали – хотя бы в первые недели, когда он еще позволял входить туда, – но ничего не обнаружили, лишь смятые газеты, сдвинутый диван и отметины от пальцев на зеркале. Да еще минутная стрелка на часах была чуть погнута, а сами часы остановились. Запах несвежей плоти, запах – едва заметный – плотских утех, временами совсем слабый, временами всепоглощающий, так что Вайолет, начиная задыхаться, приказывала слугам распахнуть окна. Какой омерзительный запах! Какая вонь! И тем не менее, кроме запаха, придраться было не к чему: Бирюзовая комната по-прежнему блистала красотой, была такой же величественной, как и прежде, – покои, достойные особ королевской крови.
Сэмюэль проявил интерес к родительским тревогам – вскоре почти не заметный – один-единственный раз, когда Рафаэль заметил, что юноша просидел в комнате одиннадцать часов кряду. Тогда Сэмюэль, широко раскрыв покрасневшие глаза, ответил, что это невозможно: он пробыл там лишь около часа – ведь сейчас по-прежнему утро, разве нет? Содрогнувшись, Рафаэль ответил, что нет, уж никак не утро. Сэмюэль просидел в комнате весь день, он же не собирается опять ночевать там?.. Чем он вообще там занимается?! Сэмюэль принялся грызть ноготь большого пальца. Поежившись, он равнодушно взглянул на отца, будто прикидывая что-то. В конце концов, резко пожав плечами, он проговорил: «Время там другое».
Он отсутствовал всё дольше, по нескольку дней подряд, а за ужином сидел, зевая и запустив руку в волосы, пока еда на столе остывала. К пище он едва притрагивался – казалось, он должен был исхудать, но оставался крепко сбитым, как и прежде, а над ремнем даже появилась небольшая припухлость. Когда Вайолет потребовала рассказать, чем он занимается в Бирюзовой комнате, Сэмюэль озадаченно заморгал, словно не понимая, о чем она, и глухо ответил: «Читаю, матушка… Что… Что же еще?» – и на его вялых губах заиграла беспечная улыбка. Он закрылся в комнате на три дня, затем – на четыре, а когда замок взломали, Сэмюэля внутри не обнаружили. Однако тем же вечером он объявился внизу и снова удивился, узнав, что отсутствовал так долго. По его представлению, он всего два часа назад поднялся в комнату почитать газеты, остальные же утверждали, будто не видели его четыре дня.
«Кажется, я понял, – медленно проговорил он с уже знакомой слабой улыбкой. – Время – не едино, оно есть россыпь мгновений. Пытаться удержать его – все равно что нести воду в решете».
В конце концов, он так и сгинул в Бирюзовой комнате. Однажды вечером после ужина он зашел туда и больше не выходил. Он просто-напросто пропал. Окна были не просто закрыты, но заперты изнутри. В некоторых комнатах замка имелись потайные ходы (один из них вел в кабинет Рафаэля), но из Бирюзовой залы никаких тайных проходов не было. Молодой человек просто исчез, не оставив ни следа, ни прощальной записки, не сказав последнего слова. Сэмюэль Бельфлёр просто прекратил свое существование.
Однажды вечером несколько месяцев спустя Рафаэль, всё еще оплакивающий своего сына, прервал встречу с группой республиканцев, проходившую в пятистах милях от усадьбы, и вернулся домой, а там бросился наверх, в Бирюзовую комнату (запертую на ключ, ведь она, совершенно очевидно, проклята) и своей тростью с золотым набалдашником расколотил огромное зеркало. Осколки разлетались в стороны, осколки всевозможных размеров и форм: продолговатые и круглые, а некоторые, тонкие, будто иголки, впивались в его тело. Он же, ухватив трость обеими руками, всхлипывая и осыпая зеркало ругательствами, все колотил по нему тростью. Они забрали у него сына! Забрали его любимого сына!
Когда он остановился, от зеркала на стене осталось лишь несколько кусков. Перед Рафаэлем открылась покоящаяся на массивных итальянских колоннах плоская дубовая основа – простое дерево, ничего не отражающее, лишенное красоты, серьезно поврежденное ударами его трости.
Тирпиц
В свои многочисленные поездки – в Нотога-Фоллз, в столицу штата, в Порт-Орискани в далекий Вандерпоэл – Лея всегда, не обращая внимания на возражения Гидеона, брала с собой Джермейн, хотя девочка охотнее осталась бы дома, в саду за стеной, с Вёрноном и Кристабель или еще кем-нибудь.
– Я не могу поехать без нее, – говорила Лея. – она мое сердце, моя душа. Я не могу оставить ее.
– Тогда и сама останься дома, – говорил Гидеон, но Лея смотрела на него так, что он опускал глаза, – эти поездки вообще бессмысленны, – добавлял он, запинаясь. – Ты сама себя обманываешь… Все эти прошения нам не помогут.
Лея, зная, как мучает его самого неискренность этих слов и спрятанное за ними лицемерие, не видела смысла отвечать. Она лишь вызывала кого-то из слуг и принималась собирать вещи.
Лея занималась делом несправедливо заключенного в тюрьме Похатасси Жан-Пьера II, и ее первое ходатайство было отклонено; еще она искала партнера (как выразился Хайрам, «с неограниченными ресурсами») для ведения горнодобывающих работ к востоку от Контракёра – сейчас, когда добиться привилегий по вырубке сосновых лесов не представлялось возможным (хотя Лея никогда прямо не напоминала Гидеону и Юэну о постыдном провале их переговоров с Мелдромом, забыть тот случай она им не позволяла. Она говорила: «Теперь необходимо изменить план действий», или: «Теперь придется начинать с нуля»); Лея проводила ревизию принадлежащей Бельфлёрам недвижимости – внушительная ее доля была убыточной или приносила ничтожную прибыль; Лея поддерживала связи в обществе (как и Корнелия, она называла это «поддержанием дружеских связей»), потому что не за горами был день, когда у Бельфлёров будет много девушек на выданье (Иоланда, Вида, Морна, даже Кристабель, а теперь еще и Золотко); некоторое время, хотя Лея никому не признавалась в этом, она подыскивала подходящую партию для бедняжки Гарнет Хект (которая, к всеобщему или почти всеобщему удивлению, родила ребенка – очаровательную малышку с темными кудряшками и темными глазками-пуговками, пока безымянную, потому что мать не удосужилась придумать ей имя, но при этом вяло отказывалась от вариантов, что предлагала Лея). Так что дел у нее было по горло, она едва успевала вернуться в усадьбу и лечь в горячую ванну, как тут же принималась обдумывать следующую поездку, новые методы борьбы. Она нанимала адвокатов и вскоре увольняла – потому что, объясняла Лея, «они не в состоянии понять, что я имею в виду, пока им в лоб не скажешь». Она общалась с брокерами, банковскими служащими, бухгалтерами, счетоводами, налоговыми агентами, она сыпала именами, увлеченно рассказывая о своих планах, после чего эти имена навсегда забывались; она конечно же общалась с Бельфлёрами из других городов – часто они звались не Бельфлёрами (Зундерты, Сандаски, Медикки, Синкфойлы, Филари), которых требовалось – или не требовалось, в зависимости от их полезности – поощрять; она заводила знакомства с политиками – от губернатора Гроунсела и вице-губернатора Хорхаунда до так и не дождавшихся избрания партийных функционеров, подкупивших Лею своей ложной осведомленностью о том, что происходит, – и никто из родных, даже Хайрам, неспособен был раскусить их. Общим у этой разномастной компании мужчин было их знакомство с Леей: она полагала, что те могут оказаться полезными или, по крайней мере, выведут ее на тех, кто окажется полезным.
Ранее Лея перетянула на свою сторону дедушку Ноэля и дядю Хайрама: совершенно зачарованные ею, они сочли вполне разумной – даже, по словам Хайрама, «практичной» – идею восстановления, путем тщательно продуманных маневров, владений Бельфлёров по данным 1789 года. Да, времени потребуется немало, действовать придется изобретательно, изворотливо и скрытно (ведь если враги Бельфлёров прознают об этом плане, то примутся скупать землю, просто чтобы досадить им); понадобится усердие и такт (а Бельфлёры, к сожалению, за несколько поколений успели прослыть людьми крайне неделикатными) и в придачу обаяние. Поэтому если кто-то выражал недовольство идеями Леи, Ноэль и Хайрам бросались на ее защиту, а вскоре к ним присоединилась и прапрабабка Эльвира (по мере того, как приближался ее столетний юбилей, Эльвиру все чаще посещали апокалиптические видения: наводнения, пожары, озаряющие небо грозы с молниями – якобы предвестники ожидающего семью невероятного события), и даже Корнелия, обычно из принципа возражавшая своей невестке, признала, что в некоторых аспектах план Леи обладает определенными преимуществами… потому что и внуки, и внучки скоро достигнут брачного возраста, и она надеется… ах, как же она лелеет эту надежду… что новое поколение, делая выбор, будет отличаться большим благоразумием, чем предыдущее. В их спальне Гидеон запальчиво спорил с Леей, а при посторонних выслушивал ее с угрюмой вежливостью. Юэн же порой яростно возражал ей (особенное отторжение вызывала у него идея повторного судебного процесса над Жан-Пьером II: почему бы не оставить старика в Похатасси? Пускай себе спокойно доживает там свои дни. Он наверняка уже свыкся и завел приятелей, получаемого им от Ноэля ежемесячного пособия хватает, чтобы побаловать себя чем-нибудь приятным – так зачем баламутить воду и затевать вновь всю эту возню?), однако провожая Лею, глядя, как она забирается в старый двухдверный «пакард», проседающий от веса ее чемоданов, как она поворачивается и посылает всем собравшимся на мраморных ступеньках воздушный поцелуй, глядя на Лею в ее пурпурном дорожном плаще и такого же цвета шевровых ботинках, на ее белые перчатки с пуговками, на дымчатый плюмаж ее широкополой кремовой шляпы, на ее сияющее лицо (сейчас, спустя почти год после рождения Джермейн, Лея избавилась от набранного веса, и, по мере того как растаяла младенческая полнота Джермейн, едва заметная припухлость под подбородком у Леи тоже исчезла) – глядя на нее, Юэн невольно расплывался в улыбке. До чего же красивая женщина, разумеется, у нее всё получится! Если в этом столетии кому-то из Бельфлёров суждено преуспеть, то это будет Лея!
Благодаря полезному знакомству в генеральной прокуратуре Лея завязала дружбу с симпатичным мужчиной средних лет по фамилии Вервейн – торговцем мехами, который, не зная ничего о горнодобывающем деле, изъявил желание вступить в партнерство с Бельфлёрами, однако вскоре выяснилось, что необходимого Лее капитала у Вервейна не имеется. (К тому же его, богатого вдовца, чересчур опекали его родственницы, поэтому он не подошел и на роль супруга для бедняжки Гарнет – этой робкой и вялой дурочки, которая при надлежащем освещении выглядела даже хорошенькой, несколько недель назад – никто не понимал, как это могло случиться, – родившей прелестную девочку.) Однако именно в обществе Вервейна, сопровождавшего Лею с Джермейн на Всемирную выставку в Вандерполе, Лея познакомилась с П. Т. Тирпицем, банкиром и филантропом, прославившемся на весь штат своими пожертвованиями на благоустройство парков и озер, реставрацию усадеб и щедрой финансовой помощью всяческим перспективным организациям (в числе которых была и Церковь Христа-Ученого, в которой и сам, возможно, состоял). Ходили слухи, будто много лет назад отец Тирпица ссудил Рафаэлю Бельфлёру неопределенную сумму, но Лея не знала, случилось ли это до краха империи Рафаэля – иначе говоря, она не знала, вернули ли Тирпицу долг. Из вежливости Тирпиц не упоминал о прежних делах, связывавших его семью с Бельфлёрами, зато коротко, но лестно отозвался о былом величии Бельфлёров и их роли в «славной истории нашей нации».
Хотя в это время Тирпиц был уже в возрасте – маленьким, лысым человечком с неровным шишковатым черепом, напоминающим Лее о ее матери, и выщербленными зубами, которые делали его похожим на хитрого, проказливого мальчишку, – он производил впечатление мужчины лет пятидесяти или даже моложе. Однажды, гуляя по выставке, он настоял на том, чтобы понести Джермейн – девочка сказала, что устала, – и Лею этот жест приятно удивил. На протяжении всей своей жизни она восхищалась подобными проявлениями силы, даже когда поняла всю бесполезность таких поступков и стала считать их лишь трогательным пережитком бурной молодости – вспомнить, к примеру, ту ночь, когда ее дражайший кузен Гидеон забрался к ней в спальню и убил Любовь! – и тем не менее ее поразил этот человек, чье баснословное богатство и связь с церковью, которую сама Лея считала нелепой, не отразилось на его здоровье. Мышцы у него были небольшими, но крепкими, подняв тяжеленькую девочку, он лишь слегка замедлил ход. «Мистер Тирпиц, не следует вам поднимать Джермейн», сказала Лея, мило улыбнувшись из-под вуали. «Сущие пустяки», – ответил Тирпиц и, чтобы смягчить серьезность своих слов, подмигнул Лее.
(Позже она узнает, что последние пятьдесят лет Тирпиц тренируется каждое утро: делает приседания, отжимается и поднимает гантели. «Тело – это инструмент, помогающий нам приблизиться к Богу, – говорил Тирпиц, – причем единственный инструмент».)
Тирпиц пригласил Лею на ужин и велел одной из самых своих надежных служанок оставаться вместе с Джермейн в отеле, где жила Лея (и несмотря на это, она переживала – рождение этого удивительного ребенка превратило ее в почти заполошную мамашу; когда малышки не было рядом, ей казалось, будто у нее не хватает руки, или ноги, или, по крайней мере, пальца. К тому же Джермейн, просто глядя на Лею и улыбаясь, невероятно помогала ей); он возил Лею посмотреть на регату по реке Эден, сопровождал ее в оперу и на закрытый прием, состоявшийся на третий вечер выставки, во время которого губернатор Гроунсел вручил императору Трапопогонии памятную медаль (император, чье королевство располагалось к северу от Афганистана, разочаровал Лею: внешне он напоминал Хайрама, а по-английски говорил практически без акцента; впрочем, его комплименты ей льстили); Тирпиц устроил так, что у них троих появилась возможность обойти выставку рано утром в воскресенье, до того, как она открылась для посетителей, и осмотреть наиболее увлекательные экспонаты (двигатели, ракеты, вычислительные машины, Город будущего с его движущимися тротуарами, слугами-роботами, регулируемой температурой воздуха и красивыми людьми-манекенами; больницу будущего, где в распоряжении пациентов будет кровь, сперма, ткань, кости и все органы человеческого тела – в том числе, мозг), а закончили они осмотр в Павильоне Тирпица, – разумеется, его собственном. Этот павильон понравился и Лее, и Джермейн больше всего – пять квадратных акров всевозможных диковин: разрисованные и увешанные украшениями слонята; белый мраморный фонтан с сотнями струй, которые выплескивали водяную пыль, приобретающую самые причудливые формы; косатка по имени Беппо в зеленом прозрачном аквариуме; миниатюрный холмик, усаженный удивительно нежными и прекрасными орхидеями; египетские и месопотамские скульптуры; знаки зодиака из бриллиантов, выложенные на черном бархате; невероятно правдоподобный манекен, представляющий собой Авраама Линкольна натуральных пропорций, который мрачно, но с выразительной решимостью читал вслух «Прокламацию об освобождении рабов»; хищные растения из Амазонии с огромными – в ярд – лепестками и мощными челюстями, способные пожирать не только насекомых, но также мышей и птиц, которых скармливали им сотрудники… И другие экспонаты, их было не счесть – так много, что у Леи голова кругом пошла, словно она захмелела, хотя до полудня было далеко и она еще капли спиртного в рот не брала.
– Мистер Тирпиц, – Лея взяла его за локоть своей обтянутей белой перчаткой рукой, – чему посвящен ваш павильон? Как связаны все эти удивительные экспонаты?
– А сами вы, миссис Бельфлёр, не догадываетесь?
– Догадываюсь? Чтобы я – и догадалась? Я в этом не сильна, мистер Тирпиц. Мои дети намного сообразительнее. Если бы с нами сейчас был Бромвел – от него вы бы наверняка пришли в восторг! А я догадываться не умею. Так как же все они связаны?
– Да нет же, миссис Бельфлёр, – Тирпиц обнажил в улыбке выщербленный зуб, – я уверен, вы и сами догадаетесь.
Однако Лее это оказалось не под силу, а Тирпиц повернулся к Джермейн и, присев на корточки, спросил, не знает ли она ответ, и девочка – совсем кроха, с младенчески пухлыми щечками – посмотрела своими темными бронзово-зелеными глазами на пожилого мужчину и, словно заглянув ему в самую душу, ответила – кротко и застенчиво, но твердо:
– Да, знаю.
Тирпиц рассмеялся. Он выпрямился – чуть неловко, потому что у него потянуло в пояснице – и тут же переменил тему разговора. Взяв Лею и Джермейн за руки, он повел их дальше, твердя, что выставка вот-вот откроется для публики и надо спасаться, пока в павильон не хлынула толпа.
– В толпе мне вечно не хватает воздуха, а вам? – сказал он.
Как-то вечером, за день до их планируемого возвращения в Бельфлёр, Тирпиц пригласил Лею в свой личный номер на девятнадцатом этаже отеля «Вандерпол», пообещав обсудить с ней финансовое положение Бельфлёров, Совершенно случайно – он уверял, что действительно случайно, – Тирпиц немного знал о геологии региона Чотоква, о железной руде, о месторождениях титана к востоку от Контракёра (титана! – этого слова Лея прежде не слышала) и очень хотел бы обсудить перспективы различных горнодобывающих операций, о которых упоминала Лея. Его предложение привело ее в такой, почти детский, восторг, что она даже не обратила внимания на его заигрывания («Ох, Лея, мне страшно представить, сколько денег потребуете вы и ваша очаровательная дочка!» – притворно ужаснулся он, на что она быстро ответила: «Не мы потребуем, мистер Тирпиц, а нам потребуется», – а Тирпиц парировал: «На содержание вашего гигантского имения в горах и на дорогостоящее увлечение вашего мужа лошадьми?», на что Лея ответила: «Всех своих лошадей он продал, а усадьба сама себя содержит – почти». А он сказал: «Да разве же я поверю этому, дорогая миссис Бельфлёр!»), – и на то, как он отеческим жестом сжимает ей руку и потирает ее пальцами. (Как будто руки Леи, с длинными, сильными пальцами, требовалось согревать!) Она не обращала внимания даже на исходящий от ее пожилого друга запах – то неопределенный и едкий, какой бывает на чердаке, где на протяжении десятилетий гадили голуби, то терпкий и сухой, как старый пергамент, то (когда он здоровался с ней по утрам, только что покинув свой номер) сладковато-масляный – запах французского одеколона, которым Тирпиц щедро поливал себя.
Итак, Лея готовилась к встрече с ним на девятнадцатом этаже отеля «Вандерпол». Она оделась в свой самый сногсшибательный наряд (Тирпиц его уже однажды видел, но ничего страшного): кремовое шелковое платье с многослойной юбкой, черную бархатную шляпу с тремя пышными алеющими розами на полях, длинные черные перчатки с черными пуговками из искусственного жемчуга, кожаные туфли на высоком каблуке, специально сшитые на полразмера меньше (своих чересчур крупных рук и ступней она стеснялась и не верила Гидеону, в первые годы брака уверявшего Лею, что при ее классическом сложении миниатюрные пальцы и ступни смотрелись бы немного забавно), и прихватила гармонирующий с платьем шелковый зонтик. Малышку она оставила с неохотой, хотя мистер Тирпиц прислал ту же служанку, что и ранее, шотландку средних лет с легким характером, которая, по ее собственным словам, просто обожала маленьких девочек. Тем не менее Лея и впрямь задумалась, не взять ли Джермейн с собой… Странно, воистину странно, думала Лея, целуя на прощание Джермейн, что она так привязалась к этому ребенку и почти перестала беспокоиться о других детях (она с трудом вспомнила, как выглядят близнецы – впрочем, Кристабель и Бромвел были теперь совершенно непохожи), словно, глядя на Джермейн, она напрочь забывала обо всем… в том числе и о собственном муже… и обо всех остальных Бельфлёрах. Малышка точно питала ее своей силой, как недавно питала ее она, когда Джермейн с чувственной жадностью высасывала у нее из груди теплое молоко и даря ей наслаждение…
– Спокойной ночи, милая, засыпай скорей! Ох, как же я тебя люблю, – прошептала Лея, обнимая малышку и не обращая внимания, что та в восторге вцепилась в розы на шляпе и едва не оторвала одну. – Я вернусь к полуночи.
Джермейн принялась сучить ногами и хныкать, но Лея оставалась непреклонной:
– Сейчас же засыпай.
Уже выходя из номера, она услышала, как Джермейн заплакала, но уверенно зашагала вниз, на улицу, решив не дожидаться лифта, а там направилась к расположенному в нескольких кварталах отелю «Вандерпол». У входа Лею встретил молчаливый темнокожий мужчина в ливрее, который проводил ее до похожего на клетку лифта и поднялся вместе с ней в номер мистера Тирпица (этот лифт, не останавливаясь больше нигде, шел прямо на девятнадцатый этаж), а другой слуга, на этот раз восточной внешности, тоже в ливрее, провел ее в гостиную. Она громко ахнула: комната была заставлена вазами – с орхидеями всех мастей: белыми, лавандовыми, нежно-голубыми – такой красоты она еще не видела. Ее усадили в мягкое кресло, и молодой мужчина, тоже восточной наружности, принес ей на серебряном подносе бокал, который поставил на столик перед креслом. Лея схватила стакан и жадно отхлебнула. Бурбон, и, насколько она могла судить, хороший. Лея, в отличие от большинства Бельфлёров, знатоком не была, однако сейчас ее нервам именно такого напитка и не хватало.