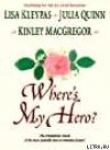Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 52 страниц)
Урожай
А потом, совершенно неожиданно, накануне трехлетия Джермейн (стояла тихая душная влажная ночь, температура скакала, как ненормальная, луна и звезды спрятались) произошло событие, которое изменило всё: стачка прекратилась; собиратели фруктов приступили к работе (безропотно, почти в полном молчании, по расценкам прошлого года); богатый урожай персиков, груш и яблок был собран; а Лея, после нескольких недель полной апатии, когда она словно утратила себя, – Лея очнулась от своей летаргии.
И всё – из-за Жан-Пьера II.
Когда бабушка Корнелия рано утром мельком посмотрела в окно своей спальни (еще не было семи; бедная женщина редко просыпалась позже) и увидела, как ее старый, немощный деверь нетвердой походкой направляется к замку по гравиевой дороге, идущей параллельно стене сада, примерно в двадцати ярдах, то сразу поняла – еще до того, как заметила, что он прижимает к себе запачканный кровью нож для колки свиней: что-то стряслось. Потому что на ее памяти он никогда не покидал замок. (Никто не отважился рассказать ей о появлении Жан-Пьера на вечеринке Юэна.) И что-то в самой его фигуре, в этом будто картонном силуэте на фоне зеленого росистого газона, облаченном в черный фрак, с торчащими во все стороны белыми волосами, поразило ее своей неестественностью.
Она тут же кинулась к Ноэлю и пробудила его от тяжелого забытья. (Накануне он нарочно напился, чтобы заснуть, потому что отчаянно переживал из-за травм Гидеона и пропадающего урожая.)
– Ты должен немедленно спуститься вниз. Говорю тебе. Сейчас же. Говорю же! Я не могу сказать почему, – шептала она, тормоша его и надевая на него очки. – Но кажется… Я боюсь… что твой брат, Жан-Пьер…
– Жан-Пьер? Что с ним? Он заболел? – вскричал Ноэль.
– Да, похоже на то.
Хайрам тоже увидел его, из окна своей спальни: на протяжении длинной, душной ночи бедняге удалось поспать лишь урывками. В его воображении громоздились горы гниющих фруктов, рисовались сцены публичного унижения его семьи (снова назначат аукцион, и чужие люди натаскают грязи в нижний этаж замка, и на этот раз будут проданы даже части здания – за бесценок) и гнездился ужас из-за смерти единственного сына, полностью осознать которую он до сих пор не нашел времени. (Заклятые враги Бельфлёров бросили мальчика в вонючую реку, связав по рукам и ногам, как собаку!) А теперь еще и Гидеон попал в больницу, в Фоллз, с многочисленными переломами и сотрясением мозга…
В одном белье, еще не побрившись, Хайрам выглянул в окно, приладил на нос очки и увидел бредущий силуэт в черном. Сначала он подумал, что это сомнамбула, его товарищ по несчастью: человек двигался неуверенно, словно на ощупь, откинув голову назад, словно его совершенно не волновало, куда ступать. (Он действительно шел, как слепец, то по гравию, то по траве, заступая на узкую грядку флоксов и гейхеры вдоль стены.) Не сразу Хайрам признал в нем собственного брата, Жан-Пьера. И тотчас, как и Корнелия, понял: что-то стряслось.
– Надеюсь, он не… Старый дурак!
Юного Джаспера разбудил испуганный скулеж собаки, спавшей у него в ногах, и он тоже увидел старика; и прабабка Эльвира, которая поднималась около шести утра и начинала возиться, чтобы приготовить на завтрак своему молодому мужу (она стала – про себя, тайно – называть его Иеремией, хотя обращалась не иначе как на «вы») свежие персики со взбитыми сливками, тост с медом и отличный черный кофе; и Лили тоже, когда подошла к окну, чтобы посмотреть, что же там, внизу, так привлекло внимание ее маленькой племянницы Джермейн (девочка со взъерошенными волосами выбралась из кроватки и теперь сидела на обитой бархатом скамье у окна, засунув пухлые пальчики в рот и поджав колени, и неотрывно глядела вниз на своего двоюродного деда, который направлялся к заднему входу в замок, горделиво откинув голову назад, а руке у него что-то блестело). Рафаэль тоже мог его видеть – в последние дни он спал тревожно, потому что его пруд – прекрасный Норочий пруд – оккупировали дети сборщиков фруктов; они обожали плескаться в нем и шлепаться в воду, и кататься на лодке, конечно, они не замышляли ничего дурного, но все-таки ломали камыши и цветущий рогоз, вырывали с корнем прекрасные, словно вылепленные из воска, лилии. Разумеется, Рафаэль в эти дни не ходил к пруду и даже не надеялся вернуться, пока нарушителям не запретят появляться там или пока они, наконец, не отправятся на работу, в сады. Старика, должно быть, видели и слуги. Кухарка, и Эдна, и Уолтон; хотя, конечно, они держали рот на замке и немедленно опустили глаза, когда узнали в старике Жан-Пьера и увидели, что он несет в правой руке, крепко прижимая к бедру. А Паслёну, как только он увидел его, еще в отдалении, хватило и ума, и отваги кинуться наверх в спальню своей госпожи: ей-то точно надо было сообщить.
– Мисс Лея! Мисс Лея! Проснитесь! Пойдемте, прошу вас! Господин Жан-Пьер натворил дел!
Маленький горбун продолжал умолять, чуть не плача, и в ужасном волнении, как одержимый, дергать ручку ее двери, пока наконец, по прошествии долгого времени. Когда он то хныкал, то чуть ли не грозил ей, перемежая слова судорожными всхлипами, дверь спальни распахнулась – в самом деле распахнулась! И перед ним стояла растерянная, удивленно моргающая Лея.
(Она вышла из своего чудовищного транса. Или – ее вывели из него. И вскоре она полностью позабудет – с благословенной легкостью – ощущение этого покоя одиночной камеры, этого тошнотворного умиротворения. Больше она никогда не вернется в столь противоестественное для нее состояние. Размышляя о нем позже, она будет повторять – хмурясь, так что между ее выразительных бровей появлялись резкие, глубокие складки, – что ее «меланхолия» была ничем иным, как предзнаменованием. Она не имела отношения к ней самой, к ее жизни, как и, разумеется, к семейным делам Бельфлёров вообще; она была связана лишь с этим невероятным поступком Жан-Пьера той августовской ночью. Лея чувствовала, что грядет нечто; она каким-то образом знала, что произойдет, но была не в силах это предотвратить – как Джермейн, ведь девочка тоже «видела» некие вещи, но никак не могла помешать им и даже понять; вот поэтому она, Лея, и впала в это мрачное уныние, от ощущения своей беспомощности. Но теперь она, безусловно, освободилась от него. Как только самое ужасное свершилось, как только все произошло наяву, чары немедленно рассеялись.)
Той ночью, а если быть точнее, в промежуток примерно с двух часов до шести утра Жан-Пьер II ухитрился – несмотря на тремор в руках и слабые ноги, невзирая на все трудности, которые поджидали его по пути, – добраться в беззвездную ночь до не знакомой ему части поместья и перерезать горло не только Сэму, его свите и еще примерно десятку страстных сторонников, но и восьмерым работникам, включая одну женщину. (Впоследствии было решено, что женщину он убил по ошибке, приняв ее – из-за крупного телосложения и легкого пушка на лице – за мужчину.)
Слабым, дрожащим, то и дело затухающим голосом Жан-Пьер сказал лишь, что работники – это зло… что они непокорны… и надо немедленно с ними покончить… не допустить, чтобы они оскорбляли своих благодетелей.
– Надо бы, полагаю, позвать Юэна, – сказал он, облизывая губы.
И тогда Джаспер – босой, полуголый, в одних летних белых брюках – побежал наверх, к комнате Юэна и начал громко колотить в дверь. (Юэн обычно не появлялся в своем служебном кабинете раньше десяти утра, поэтому спал до восьми и не любил, когда его сон прерывали.)
Когда Джаспер рассказал ему о случившемся – согласно их подсчетам и исходя из неразборчивого лепета старика, он убил как минимум шестерых человек, но, возможно, и все двадцать или больше, – Юэн резко вытянул вперед свою большую лохматую голову и вылупил полусонные, похмельные, в красных прожилках глаза; потом зажмурился и тут же уставился на сына снова.
Он попросил Джаспера повторить. Сколько?..
А после, с глубоким вздохом, произнес: «Я так и подумал, мой мальчик».
Все было, как и сказал Паслён: Жан-Пьер натворил дел.
Книга пятая
МЕСТЬ
Клавикорд
Вопреки слухам и несмотря на неустанные гневливые изобличения своего мужа, Вайолет Бельфлёр впала в состояние рассеянной меланхолии, а впоследствии, одной морозной субботней ночью, лишила себя жизни вовсе не из-за Хейеса Уиттиера (странное выражение: «лишить себя жизни» – словно человек лишает себя любимого предмета гардероба или незаслуженного, лишнего куска торта); причиной тому была даже не неврастения, вызванная или, возможно, обострившаяся из-за ее бесконечных беременностей и выкидышей. И даже не «порочность» несчастной женщины. (Это было любимое определение ее мужа. Чем дальше, тем чаще Рафаэль прибегал к нему, потому что оно позволяло объяснить и осудить и пристрастие его сестры Фредерики к этой нелепой протестантской секте; и непостижимое стремление его брата Артура к смерти – которую он и нашел в Чарлзтауне во время попытки похищения тела Джона Брауна для переправки на север, где повстанцы собирались оживить его с помощью гальванической батареи; и поведение его сыновей, Сэмюэля и Родмана; и политический климат эпохи; и колебания на мировом рынке хмеля – если они были благоприятными, то Рафаэль называл их «здоровыми», в противном же случае – «порочными».
…и даже не из-за любви. Во всяком случае, не в обывательском понимании этого слова. Потому что любовь между мужчиной и женщиной, не связанными родственными узами, должна носить неизбежно эротический характер; но в картине мира Вайолет не существовало никаких эротических чувств вне брака. А она, разумеется, была замужем. Более чем замужем. Девушкой, еще живя со своими родителями в Уорике, она и вообразить не могла, что можно быть настолько замужем.
Томаш тоже был женат, когда-то давно. Но он выглядел таким юным и вел себя так робко, так неловко! Говорили, что жена сбежала от него, как только их корабль прибыл из Ливерпуля в Нью-Йорк (а в Ливерпуль из Лондона, а в Лондон из Парижа, а в Париж из Будапешта, откуда они оба были родом); говорили, впрочем, что жена вообще отказалась с ним ехать и осталась на родине. А однажды Вайолет случайно услышала (она никогда никого не подслушивала, это было исключено, – и уж тем более служанок), что молодая жена ушла от Томаша к другому, потому что стыдилась его заикания. По другой версии, ничуть не более правдоподобной, заикание как раз и было вызвано ее предательством. Сама Вайолет замечала, не пытаясь как-то это осмыслить, что в ее присутствии речевые трудности у Томаша достигают такой степени, что он близок к удушью и лицо его заливается густой краской; ничего удивительного, что вскоре он совсем перестал с ней разговаривать, а когда возникала необходимость сообщить ей что-нибудь касательно инструмента, для создания которого он и бы приглашен в замок, то он оставлял для нее записки или передавал просьбы через слуг. Ему ни разу не пришлось разговаривать с Рафаэлем Бельфлёром, да и видел он его всего два или три раза, всегда издали, потому что тот, разумеется, нанимал его не лично. Можно предположить, что этот стеснительный молодой человек с сильно выпирающим кадыком, носящий слишком тесную одежду, да еще с сильнейшим заиканием (хотя семейный доктор Вайолет, доктор Шилер, полагал, что это дефект невротического свойства) при встрече с Рафаэлем впал бы в настоящую панику. Чтобы он, Томаш, позволял себе испытывать некие чувства – вполне очевидной природы – по отношению к его молодой жене; чтобы осмелился даже думать о ней, пока увлеченно работал над клавикордом!.. Такое было просто немыслимо как для самого молодого человека, так и для его заказчика.
Томаш отправился в замок Бельфлёров строить клавикорд для Вайолет по рекомендации Трумэна Геддеса, конгрессмена от республиканцев, человека, застрелившего последнего лося в горах Чотоквы (это случилось в 1860 году – но в то время, разумеется, никто не знал, что лось был последний или один из последних). Вайолет выразила желание, то ли в шутку, то ли всерьез, иметь музыкальный инструмент, на котором «несложно» играть. Тут Трумэн повернулся к Рафаэлю и сказал, что его жена и девочки получают огромное удовольствие, забавляясь с одной любопытной музыкальной штуковиной, в сущности, это клавиши со струнами, кажется, ее называют «клавикорд». Прелестнейшая вещица, произведение искусства, а построил его один венгерский парнишка, работающий у краснодеревщика в Нотога-Фоллз. Сам он, добавил Трумэн, не решился бы даже сесть за инструмент – слишком тот был хрупок, дамская вещица. И, при всей изысканности, инструмент не стоил бешеных денег.
Так Томаш оказался в замке, чтобы создать клавикорд для Вайолет, а заодно смастерить несколько комодов и шкафчиков в разных комнатах – тех, обстановка которых, по мнению Рафаэля, была еще не завершена. Впервые увидев Вайолет Бельфлёр, он принял ее за прислугу – или, возможно, гувернантку, – потому что она носила простые серые английские блузы с пышными рукавами и длинные юбки, на шее – лишь кулон с часами, а вела себя застенчиво, почти как ребенок. Фигура у нее была тонкая; лицо чересчур худощавое и слишком суженное к подбородку, чтобы счесть ее хорошенькой; зато глаза были очень выразительны, и над радужкой часто показывалась тонкая белая полоска. Она была явно и, возможно, неизлечимо, безнадежно больна, впрочем, в присутствии Томаша (собственно, как в присутствии всех слуг) она держалась с грациозной уверенностью, а голос ее, пусть и тихий, был тверд. Ее редко можно было увидеть вместе с детьми, хотя они уже подросли и вряд ли могли сильно утомить ее. После того как Томаш узнал, что хозяйка замка Бельфлёров – глубоко духовная личность, ему стало казаться, что он видит в ее лице, а может, вокруг волос (они были заурядного каштанового цвета, зато густые и блестящие, и она носила их по французской моде, забрав в узел, украшенный жемчужной или янтарной нитью, а иногда вплетала в прическу ландыши) некую благодать потусторонности, чего он никогда ни в ком не замечал – разве что на картинах Боттичелли или безымянных средневековых немецких живописцев.
– Хозяйка вечно хворает, – сказала ему экономка, с гадкой улыбкой. – И мы знаем, по какой причине.
– Что… что вы имеете в виду? – спросил Томаш.
– О, мы-то знаем.
– Но что?
– Эти дамочки, которые вечно жалуются на мигрени, трудности с дыханием и поэтому желают почивать в отдельной спальне…
Томаш резко отвернулся. И сказал, помолчав – от крайнего гнева его заикание будто улетучилось:
– Я не желаю слушать досужие сплетни.
После этого экономка, разумеется, прикусила язык.
Это нельзя было назвать романом в обычном понимании, да, возможно, никакого романа и не было.
Потому что дело было не в любви. Между Вайолет и венгерским юношей не могло быть любви, потому что эта мысль даже не посещала их; а не посещала она их потому, что не была облечена в слова.
Находясь в обществе молодого человека (а она часто наведывалась в мастерскую позади кучерского дома), Вайолет, должно быть, ясно чувствовала какой-то… дискомфорт, словно нарушен привычный порядок – и это вызывало невероятное волнение. Томаш почти не говорил с ней, что придавало ситуации особую пикантность. Безусловно, он был вежлив и обходителен, как любой человек ее круга, хотя избегал смотреть ей в глаза, а когда показывал чертеж будущего инструмента, то всегда стоял от нее на почтительном расстоянии, в четырех или пяти футах. Казалось, иначе что-то непременно случится: внезапный порыв ветра вдребезги разобьет стеклянную дверь, а то паук или таракан (увы, даже в великолепном замке Бельфлёров водились тараканы) вдруг пробежит по старинному гобелену. Вайолет безусловно чувствовала смятение Томаша, но не подавала виду и продолжала навещать его в своих строгих блузках, принося с собой аромат ландышей. Она с большим удовольствием наблюдала за работой его умелых рук (вовсе не изящных, как ей рисовалось – неужели она видела их во сне? – нет, это были сильные, крестьянские руки с квадратной формы концами пальцев с короткими голубоватыми ногтями); она следила за медленным созданием инструмента с незнакомой ей, потаенной радостью. Конечно, в замке были и другие музыкальные инструменты, и немало, в том числе элегантный рояль, на котором Вайолет могла сыграть с полдюжины знакомых ей салонных пьес; но клавикорд будет принадлежать только ей. Томаш попросил ее выбрать породы дерева (вишня для корпуса, береза для внутренней отделки; а изящные изогнутые ножки инструмента и скамеечка к нему будут облицованы дубом) и выразил, с трудом, в своей скованной манере, искреннее удовлетворение ее выбором материала для клавиш – не слоновой кости, но ореха. Это будет несравненное, уникальное произведение искусства. Желает ли она орнамент из слоновой кости, золота, гагата?.. Казалось, он был невероятно польщен, и даже взволнован, когда она отвечала, мол, пусть он делает всё на свое усмотрение – она так мало в этом понимает и желает того, чего желает он.
Когда Вайолет приходила к нему в мастерскую, ее силуэт возникал в залитом солнцем дверном проеме – фигурка четко очерчена, волосы сияют. Из-за того, что Томаш все время молчал, ей, вопреки обычной сдержанности, хотелось поболтать. Она говорила ему о своей любви к маленьким, тщательной выделки предметам, изготовленным такими мастерами, как он, из Европы, с уважением к красоте и пониманием ее святости. Не обращая внимания на то, что он отвечал ей лишь неразборчивым хмыканьем, она рассказывала ему о своем девичестве, о жизни в скромном отцовском поместье, об уроках музыки, которые она и ее сестры брали, несмотря на их дороговизну, – и ее восторг дилетанта перед Скарлатти, Бахом, Купереном, Моцартом, ноктюрнами Джона Филда и «легкими» пьесами Шопена. Как жаль, говорила она, что сам Томаш никогда не учился музыке, ведь, очевидно, у него столько любви, столько чувства к инструменту, который он создает… Каким хрупким, каким деликатным кажется клавикорд, и все же она видит, что он будет поразительно крепким для своего размера. Изумительная вещь. Какое чудо, в самом деле, что человек способен создать такой шедевр своими руками, самыми обычными руками!
Склонившись над верстаком, венгр замер, все так же не глядя на нее, и пробормотал нечто похожее на согласие. Его тонкие губы растянулись в застенчивой гримасе, без улыбки, но было очевидно, что он глубоко тронут.
Так шли дни, шли недели. И вот однажды Вайолет попросила, чтобы клавикорд – ведь он был почти совсем готов – перенесли к ней в гостиную и Томаш продолжил бы свою работу там, чтобы она могла лучше оценить звук и прочность инструмента в помещении, где будет на нем играть. Ей нестерпимо хочется, сказала она, видеть его именно там…
Томаш выпрямился, словно почуяв опасность. На его узком лице, слишком бледном в последнее время, ничего не отразилось. Немного погодя, он кивнул; «разумеется, с удовольствием». Было заметно, что он невероятно польщен этой просьбой, потому что его лицо и даже шею медленно заливал густой румянец. Крохотная отвертка выпала у него из рук и упала на кучку опилок на полу.
Клавикорд был почти полностью построен и установлен в эркере окна, выходящего на маленький сад, окруженный стеной, – и, когда его освещали лучи солнца, проникая сквозь старинное стекло с его едва заметной кривизной и микроскопическими пузырьками, инструмент излучал неземную, почти яростную красоту. Как сияло вишневое дерево! А ореховые клавиши! А золото и гагат! Томаш принимал потоки комплиментов, которыми его осыпали, с безмолвным, целомудренным кивком; а если бесчувственная экономка или кто-то еще из прислуги бросали, мол, он тратит на эту милую безделушку прямо пропасть времени, он отворачивался и не отвечал. В самом деле, в последнее время он будто решил не говорить вовсе. И, несмотря на свое искусство, на способность работать без устали (бывало, что на протяжении двенадцати часов без перерыва), было ясно, что чувствует он себя неважно. Его кожа стала почти прозрачной и блестела, словно от сильного жара; он заметно потерял в весе, так что одежда буквально висела на его высокой сутулой фигуре; когда он оставлял работу над клавикордом, руки его тряслись. Слуги на кухне посмеивались, мол, у парня совсем нет аппетита, и они точно знают причину.
Он поднимался на рассвете и немедленно шел в гостиную Вайолет, где в освещении струящегося с юго-востока света стоял клавикорд в сиянии своей красоты. Он был не более трех с половиной футов в высоту, так что скамеечка тоже должна быть низкой и обладать такой же деликатной прелестью, а ее изогнутые ножки, обшитые дубом, будут увиты изящной резьбы виноградной лозой… А еще позавчера он вдруг осознал, заметив украдкой, какие у его заказчицы миниатюрные руки, и, рассчитав их растяжку, что необходимо переделать всю клавиатуру: каждая клавиша (в нем вдруг проснулось честолюбие, даже дерзость!) должна быть немного сужена и укорочена, чтобы она могла достать не до седьмой клавиши, но до десятой. Не одна неделя скрупулезной работы, но это необходимо.
Когда Вайолет получила от него это известие в тщательно составленном письме, то встревоженно посмотрела прямо ему в лицо. И сказала, вдруг сама начав заикаться:
– Но, но… Но я думала, Томаш… что мой клавикорд почти закончен… Я… я полагала, что он будет готов уже на этой неделе…
Вспыхнув, он нетерпеливо потряс головой.
Она глядела на него во все глаза. Какое-то время она даже не знала, что сказать: венгр, обычно такой покорный и мягкий, склонявшийся над своей работой с такой сосредоточенностью, что каждый понимал, насколько это нечеловеческая, почти священная задача, теперь был будто взбешен. Его кадык дергался, он постоянно сглатывал, облизывая пересохшие губы, а на его высоком бледном лбу блестел пот. Он помотал головой.
Нет, нет, нет. Нет. Нет.
– Но я… Я ведь не профессионал… Я играю лишь для собственного удовольствия… – пролепетала Вайолет, всплеснув руками, словно умоляя его. – Кроме того, у меня вовсе нет настоящего таланта – я просто люблю… Люблю музыку… люблю играть ради чистоты… Если я не достаю до ноты, то просто пропускаю, перепрыгиваю через нее, понимаете, для меня нет никакой разницы – право, нет… Да я и не собираюсь играть для кого-то, кроме себя. Даже для близких друзей…
Томаш заговорил, но слова его сливались в кашу, глаза вращались и чуть не вылезали из орбит, а под ними темнели глубокие тени; он снова замотал головой, непреклонный, как преподаватель, чьи ученики расшалились.
– Но, Томаш, ведь клавикорд прекрасен!.. Мне так хочется поиграть на нем… Да и как я объясню мужу, который уверен, что он почти…
Томаш взял письмо из ее дрожащих рук и написал на листке четкими, слишком большими буквами: СОВЕРШЕНСТВО. БЕЗ КОМПРОМИССА. ИНАЧЕ – ПОРУБИТЬ НА ДРОВА!
И Вайолет согласилась, ничего не сказав Рафаэлю. Так началась работа над новой клавиатурой.
Прошло много времени. Новая, уменьшенная клавиатура была готова, такая же красивая, а может, даже красивее, чем прежняя; а после того, как каждая клавиша была установлена и настроена, Томаш попросил Вайолет сесть к инструменту и поиграть на нем, чтобы он мог определить с точностью, где должны быть установлены металлические зажимы. Вайолет думала, что нужно будет пригласить профессионального настройщика и теперь сумбурно выразила свое удивление, удивление и радость от того, что он может настроить инструмент сам. Очевидно, у него был абсолютный слух.
Она уверенно пробежала пальцами по клавишам. Конечно, это было не фортепиано, поэтому, если она не ударяла по клавишам изо всей силы, то не раздавалось никакого звука, или он был невнятный, приглушенный. Так что она сыграла несколько пассажей, с девчоночьим восторгом, в неровном темпе, а Томаш начал возиться с зажимами.
– Прелесть! – воскликнула Вайолет. – Какая же прелесть! Не знаю, как вас благодарить…
Но Томаш не обращал внимания на ее болтовню. Он натягивал струны с такой сосредоточенностью, что капля пота скатилась по его тонкому, словно восковому носу и долго висела на самом кончике, прежде чем сорваться вниз.
Он слушал ее весьма лихорадочную игру из разных углов элегантной комнаты, даже от двери и из коридора. Он был такой мрачный, напряженный, словно у него легкий жар. (Ведь он так мало ел и страшно похудел, и у него теперь, увы, неприятно пахло изо рта; но Вайолет старалась не обращать внимания.) Иногда он спешно подбегал к ней, чтобы нажать клавишу самому. Он опускал свой длинный бескровный палец и нажимал клавишу с такой силой, что кровь отпивала от кончика пальца, и под ногтем появлялся розовый полумесяц. В такие моменты Вайолет поеживалась от исходящей от него пылкой настойчивости; она ощущала ее, чувствовала, как он излучает ее, и это ее пугало, и волновало, как ничто не волновало прежде. И она не знала, что чувствует – разочарование или облегчение, когда Томаш бормотал сквозь зубы, почти не разжимая их: «Не то. Не mol»
Он взял за обыкновение бродить ночью по дому, и часто направлялся через крыло прислуги и главную залу в гостиную Вайолет. Там он задергивал тяжелые бархатные шторы (словно боялся, что сторож, или привратник, или одна из собак заметят свет и выдадут его) и часами, никем не тревожимый, работал над клавикордом. Однажды утром его застала здесь в своем утреннем наряде сама Вайолет и с изумлением увидела, каким бледным стал молодой человек и как странно выглядит: весил он теперь, должно быть, не больше ста фунтов, волосы прилипли ко влажному лбу, тонкие губы сжаты так крепко, будто он едва сдерживается, чтобы не закричать. Он вскинул на нее свои запавшие, безмерно усталые глаза и сделал попытку улыбнуться; но было ясно, он не здоров.
– Томаш! – вскричала Вайолет. – Что вы задумали? Зачем вы губите себя?
Он отвернулся, правда, не без учтивости, и продолжил прилаживать что-то внутри инструмента.
В то утро Вайолет почти заставила его съесть бульон с тостом и жареным беконом, который принесла ему в гостиную сама, на серебряном подносе; она тщательно закрыла за собой дверь, чтобы какой-нибудь любопытный слуга не вздумал подглядывать. Томаш все съел, правда, без аппетита. Было ясно, что он делал это, чтобы не огорчать ее; и все время посматривал на клавикорд (который в сиянии утреннего света выглядел еще великолепнее), а пальцы его непроизвольно дергались. Вайолет спросила, что с ним – почему он так часто выглядит несчастным… печальным – может быть, из-за тоски по родине?.. Или по жене? (Она говорила тихо, почти шепотом, дрожа от собственной смелости. Но Томашу, казалось, было все равно, или он просто не слушал. Родина? Жена? Несчастье? Он лишь пожал плечами, и взгляд его скользнул обратно, к клавикорду.)
– Ах, как же он красив! – воскликнула Вайолет.
Она поднялась, робко подошла к инструменту и взяла аккорд, наудачу, пальцами обеих рук. А потом еще раз, и сердце ее бабочкой затрепетало в груди.
– Какая красота, вы произвели на свет чудо! – прошептала она в экстазе.
Когда она оглянулась, Томаш смотрел на нее и на клавикорд с выражением чистого, немого обожания. По его впалым щекам текли то ли капли пота, то ли слезы, и сейчас он был, она видела это, в полном ладу с собой. Он буквально светился от тихого, безыскусного, священного восторга.
И вот в один чудесный, ясный, солнечный майский день Вайолет вошла в свою гостиную и увидела, что клавикорд закончен. Она знала, что это так, потому что Томаш положил на скамеечку вышитую зеленую подушку, на которой Вайолет собиралась сидеть во время игры.
– О, какая прелесть! – сказала Вайолет, подходя к инструменту.
Она нажала клавишу, и раздался тихий звук, точно колокольчик, невыразимо красивого тембра.
Она села и сыграла пассаж-другой, а потом часть простого рондо, из детского репертуара, – она знала его наизусть. Ей показалось, что клавикорд звучит еще прекраснее, чем накануне. Что такое сотворил с ним Томаш за одну ночь?.. Она низко наклонилась, чтобы ощутить аромат полированного дерева, и не удержалась, чтобы прикоснуться к нему щекой. Уникальный мастер создал этот шедевр для нее. Он высоко ценил ее вкус, раз предложил самой выбрать породы дерева и материалы для отделки; сделал клавиатуру специально для ее маленьких рук. Ни один из дорогостоящих подарков Рафаэля (соболиное манто, новая коляска, бриллианты, жемчуга, рубины, да и сам замок) не значили для нее столько, сколько значил клавикорд Томаша – а ведь это вовсе не был «подарок» венгерского юноши (ведь, разумеется, оплачивал его Рафаэль).
Прямо в шелковом домашнем платье с широким, как у кимоно, поясом, Вайолет уселась за миниатюрный инструмент и стала играть пьесу за пьесой. Томаш может войти с любую минуту. Она почти видела: вот он идет через крыло прислуги… потом через главную залу… Вот, взявшись за ручку, останавливается перед дверью в гостиную и слушает нежную, простенькую мазурку… завораживающую танцевальную мелодию, написанную Шопеном в еще юном возрасте. Она не вполне подходила для клавикорда, да и тонкие пальчики Вайолет играли недостаточно бегло, но тембр, тембр!.. Он был так прекрасен, что на ее глазах выступили слезы.
Когда Томаш войдет в комнату, она поднимется со скамеечки и протянет к нему руки. Они будут смотреть друг на друга долго-долго. А потом он тихонько закроет за собой дверь и…
– Какие у меня грубые пальцы! – воскликнула она вслух.
Боже, какая досада, что она недостойна этого несравненного изделия. Но она будет играть больше! Она будет почитать инструмент, как чтил его Томаш, и всегда помнить, что клавикорд – предмет из вышнего мира, лишь вверенный, так сказать, ее рукам. Пройдет время, и она будет играть на нем не только легкомысленные пьесы времен ее детства, но и сложные, блестящие, потрясающие произведения Скарлатти, Куперена, Баха, Моцарта; возможно, она даже устроит настоящий салон, куда будет приглашать образованных, культурных людей – только не знакомых Рафаэля, не его презренных политических союзников! А Томаш будет почетным гостем – он может жить в замке сколько пожелает, – он прославится по всему штату как создатель клавикордов и клавесинов, выдающийся мастер, инструменты которого стоят невероятно дорого, но, по всеобщему признанию, более чем оправдывают свою цену: ведь он построил клавикорд Вайолет Бельфлёр, а в мире больше нет предмета столь изумительной, неописуемой красоты…
Вайолет прекратила игру, услышав странный звук. Она обернулась, но в комнате никого не было. Естественным местом, куда перекочевал ее взгляд, был ее собственный портрет над мраморным камином, написанный несколько лет назад неким светским профессиональным художником; но сейчас же отвернулась, устыдившись его приторных, елейно-розоватых черт; Бог знает, что думал Томаш, проведя в этой комнате столько месяцев, когда, стоило ему оглянуться, волей-неволей утыкался взглядом в эту пошловатую мазню! Томаш, который сам был истинным художником. Очевидно, он втайне презирал не только этот портрет и парный ему портрет Рафаэля (висящий в главной зале), но и большинство предметов искусства в замке.