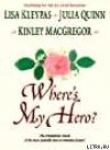Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 52 страниц)
Книга четвертая
ЖИЛИ-БЫЛИ…
Божественный хронометр
«Прозорливость» и «Благословление», «Канун Дня всех святых», и «Чудотворное провидение», и «Божественный хронометр» таковы были названия огромных стеганых одеял, с подкладкой из пуха и перьев, которые мастерила Матильда, тетка Джермейн. Каждое разрасталось на глазах у девочки постепенно, очень медленно, квадрат за квадратом, и, пока Матильда вела разговоры с ней и с Ноэлем, ее мозолистые пальцы трудились не переставая. Шли месяцы, проходили годы. Возникли «Террариум» и «Гироскоп», «Танец» (точнее – «Танец веселых скелетиков»), затем «Бестиарий», «Черное болото» и «Ангелы». Каждое одеяло росло кусок за куском, постепенно растекаясь по полу и скрывая ноги тети Матильды.
– Зачем ты таскаешь с собой Джермейн в дом этой женщины? – недовольно ворчала бабушка Корнелия. – Матильду не назовешь хорошим примером, правда же?
– Примером для чего? – спросил Ноэль.
– Лея этого не одобряет.
– У Леи нет времени, она даже не узнает.
Они часто отправлялись туда, в кемпинг Рафаэля Бельфлёра – с полдюжины бревенчатых домиков на берегу озера, довольно далеко от замка. В семье говорили, что Матильда переехала туда много лет назад в пику остальным: ей не удалось стать «настоящей» Бельфлёр, не удалось найти достойного жениха, вот она и удалилась в глухомань. Но дедушка Ноэль сказал Джермейн, что это неправда: Матильда уехала жить за озеро, потому что ей так захотелось.
– А можно мне тоже здесь жить? – спросила девочка.
– Мы можем приезжать в гости, – отвечал дедушка. – В любое время.
И Джермейн трусила на своем новом пони, Лютике, а Ноэль на норовистом, но ленивом старом жеребце Фремонте. Они ездили туда почти в любое время.
Тетя Матильда, на самом деле – двоюродная бабушка Джермейн, была женщиной широкой кости, за работой она пела, и еще имела привычку разговаривать сама с собой. (Иногда Джермейн слышала, например: «Да куда же я положила ложку!.. И когда это, вы негодники, забрались на этот стол!») Если она и страдала от одиночества, то никак этого не проявляла: напротив, по мнению Джермейн, она была самая счастливая из всех Бельфлёров. Она никогда не повышала голоса, никогда не бросала в гневе вещи и не выбегала из комнаты в слезах. В доме тети никогда не звонил телефон – его там просто не было, письма ей приходили редко, и, хотя остальные члены семьи порицали Матильду, они оставили ее в покое. (Она была «странная», «себе на уме», говорили ее родственники. Настоящая «упрямица» – ведь она настояла на том, чтобы жить одной и зарабатывать на жизнь шитьем одеял и плетением ковриков. Семейные торжества ее не интересовали – даже свадьбы и похороны, и она упорно носила брюки, сапоги да куртки, а когда-то в молодости, будучи дочерью Плача Иеремии, даже выходила в поле вместе с батраками; подобную эксцентричность женская половина семейства простить не могла. Ей надо было родиться мужчиной, говорили они с презрением. Каким-нибудь нищим фермером по ту сторону гор; она не заслуживает носить имя Бельфлёров.)
Но они оставили ее в покое. Возможно, потому, что побаивались.
И она шила свои одеяла, всем довольная в своем уединении, и дядя Ноэль с Джермейн приезжали к ней в гости и проводили вместе чудесные дни: Джермейн было позволено помогать Матильде в работе, а Ноэль устраивался у огня, сбросив сапоги и блаженно шевелил пальцами ног в одних носках, зажав в зубах трубку. Он обожал перемывать косточки родственникам: «Ох и прожекты у нашей Леи! Она просто гений…» Он рассказывал сестре о выходках Юэна, о неприятностях Хайрама, и что там Эльвира высказала Корнелии, и чем занимались подрастающие детишки Лили; о, все эти дети растут так быстро! Матильда посмеивалась, но почти не говорила. Она с головой погружалась в работу. Ноэль жаловался на то, как бежит время, но она не соглашалась. «Иногда мне кажется, что время почти остановилось, – говорила она. – Во всяком случае, по эту сторону озера».
Одеяла, эти гигантские волшебные одеяла! – их Джермейн будет помнить всю свою жизнь.
«Прозорливость»: шесть на шесть футов, лабиринт синих лоскутов, такой хитроумный, что хотелось смотреть и смотреть на него, не отрывая глаз.
«Благословление»: мозаика треугольников, красных, ярко-розовых и белых.
«Чудотворное провидение»: словно галактика переливающихся лун.
Сшитые для чужих и проданные чужим людям, которые, очевидно, заплатили за них неплохую цену. («А почему мы не можем купить одно из них? – спрашивала Джермейн своего деда. – Почему мы не можем привезти одно из них домой?»)
«Божественный хронометр» был самым огромным, но Матильда шила его для себя – не на продажу; на близком расстоянии одеяло выглядело воплощением хаоса, потому что было ассиметричным, а квадратные куски отличались не только цветом и узором, но и фактурой. «Потрогай этот кусочек, а теперь другой, – ласково говорила Матильда, беря девочку за руку, – а теперь вот этот – видишь? Закрой-ка глаза». Колючая шерсть, мягкая шерсть, атлас, кружево, мешковина, хлопок, шелк, парча, рогожа, крошечные обрезки с плиссировкой. Джермейн крепко зажмуривалась и трогала ткани, «рассматривая» их кончиками пальцев, словно читая. «Ты понимаешь?» – спрашивала Матильда.
Ноэль жаловался, что от «Хронометра» у него в глазах рябит. Надо было отойти на несколько шагов, чтобы увидеть задуманный узор, но даже тогда он казался слишком затейливым – у бедняги просто раскалывалась голова. «Неужели нельзя смастерить что-нибудь попроще, маленькую атласную вещицу, – ворчал он. – Что-нибудь небольшое, миленькое».
– Я делаю то, что делаю, – бросала Матильда.
Бывало, что, находясь в замке, Джермейн зажмуривалась и представляла себя в домике Матильды. Как наяву она видела белых кур-леггорнов, копошащихся в пыли, и единственную тетину молочную корову с белой мордой, и Фокси – ярко-рыжего кота, ласкового, не то что замковые кошки. (Там повсюду бродили, путаясь под ногами, отпрыски Малелеила – и, хотя все они были поразительно хороши собой, но даже женские особи обладали вредным нравом. Нельзя было удержаться и не погладить одну из них – уж больно велик соблазн, – но ты рисковал получить царапину.) Еще у Матильды был ручной кардинал, он жил в плетеной клети, щебеча и треща, словно обычная канарейка. Джермейн живо представляла себе его ярко-красное оперенье и короткий и мощный оранжевый клюв. У самой ограды садика при кухне росла мальва. А для стирки в сарае стояло деревянное корыто с пестом – длинной оловянной ручкой с широким основанием. Еще там была каменная маслобойка с деревянной палкой-толкушкой. И веретено. И ткацкий станок, на котором Матильда плела свои коврики в ярд шириной из мотков крашеных ниток. (Ткать было нелегкой работой, тяжелее, чем шить одеяла. Особенно трудно было подобрать точное количество мотков для полоски каждого цвета.) В главной комнате стояли старинная железная дровяная печь и кровать Матильды, накрытая вместо покрывала одним из одеял ее работы – самая обычная: с балдахином с белыми оборками, с матрацем, набитым кукурузной шелухой, с пуховой периной. На высоко взбитых подушках гусиного пера красовались белые накрахмаленные наволочки, отделанные по краю кружевом ручной работы. Джермейн часто дремала на ней, а Фокси сворачивался рядом.
– Почему нам нельзя переехать к тете Матильде насовсем? – обиженно спрашивала Джермейн.
– Ты что же, хочешь бросить папу и маму? – сердился дедушка Ноэль. – Что ты такое говоришь!
Джермейн засовывала палец в рот, потом еще один и еще, и начинала сосать их с остервенением.
Паслён
Бельфлёры посуевернее называли Паслёна троллем (как будто кто-нибудь из них хоть раз встречал настоящего тролля!), но было куда разумнее полагать, как делали Лея, Хайрам, Джаспер, Юэн и другие «просвещенные» члены семьи, что он – просто карлик. Не совсем обычный карлик, каких можно встретить где угодно, – потому что Паслён со своим горбом, с широким и тонким, почти безгубым ртом, тянувшимся, казалось, от уха до уха, был, безусловно, особенным. Во-первых, он был удручающе уродлив. Может, кому и хотелось бы подружиться с ним, даже просто пожалеть – но его чересчур крупное, покрытое морщинами лицо с бесцветными глазками-осколками и отчетливой вмятиной на лбу (словно, как заметил кто-то, его ударили в детстве обухом), и эта вечная безумная безрадостная улыбка во весь рот были настолько отталкивающими, что люди в испуге отворачивались и у них учащался пульс; а всякая всячина, что он всегда носил при себе в бесчисленных кожаных мешочках и коробочках (по слухам, это были кусочки высушенных трупиков животных, но, скорее всего – лишь лекарственные травы: окопник, черноголовка, белокудренник, барвинок и, собственно, паслён), источала тошнотворный запах, который усиливался во влажную погоду. Бромвел вычислил, что, выпрямись Паслён во весь рост, в нем было бы около пяти футов. Но его тело было так жестоко деформировано, позвоночник так изогнут, а грудь так сильно вдавлена, что сейчас его рост составлял лишь чуть больше четырех футов. Вот бедняга, говорили люди, увидев его впервые; вот так урод, бормотали они под нос, встретившись с ним еще и еще раз; чудовище, настоящий монстр, наконец заключали они, когда ни самого уродца, ни Леи не было поблизости. (Одной из самых постыдных тайн Бельфлёров станет огромное влияние карлика на Лею. Ведь было очевидно, что ему удалось, как раз к четвертому дню рождения Джермейн, обрести для нее беспрецедентную ценность, а кроме того, завоевать ее полнейшее доверие – которое, увы, хотя никогда не переходило границу искренней привязанности между хозяйкой и ее слугой-фаворитом, тем не менее вызывало среди черни самые разнообразные циничные, дурацкие, грубые, непристойные кривотолки.)
Паслён обрел свое место в замке Бельфлёров благодаря чистой случайности – точнее, благодаря цепи случайностей.
После трагической гибели маленькой Кассандры мужчины Бельфлёры, к которым время от времени присоединялись друзья, соседи и гостившие родственники (например, Дейв Синкфойл и Дэбни Раш), уходили – с дробовиками, винтовками и даже с легким полуавтоматическим ружьем Юэна – на поиски Стервятника Лейк-Нуар, который, по легенде, жил в самом сердце Черного болота; но их вылазки были бесплодны. Они подстреливали – или, в своем вполне понятном раздражении, оставляли умирать десятки других животных: оленей, рысей, бобров, скунсов, зайцев и кроликов, енотов и опоссумов, ондатр и крыс, дикобразов и змей (гадюк, гремучек, щитомордников), даже черепах, даже летучих мышей; и несметное количество птиц – в основном цапель, ястребов и орлов, которые отдаленно напоминали ужасного Стервятника, – но всегда возвращались домой изнуренные, недовольные и с пустыми руками. Гидеон, который в последние годы не слишком интересовался охотой, был полон особенной решимости прикончить чудище и возглавлял почти все походы на болото; даже когда после змеиного укуса у него случилась лихорадка, он все равно пошел на охоту вместе со всеми. Он никогда не упоминал имени Кассандры, и уж тем более Гарнет, но зато постоянно твердил о Стервятнике Лейк-Нуар, о том, как выследит птицу и не успокоится, пока не убьет. (Бромвел повторял отцу, что, несомненно, существуют и другие птицы этой породы, несмотря на легенду об уникальности этого представителя пернатых – иначе как, вопрошал неизменно аккуратный в формулировках мальчик, он размножался бы?) Но все охотничьи экспедиции заканчивались неудачей, и тогда Гидеона охватывала бессильная ярость. Однажды он предложил забросать все болото целиком, а это шестьдесят или семьдесят акров, бомбами-зажигалками: не может ли Юэн (только что избранный, с минимальным отрывом, шериф округа Нотога) раздобыть необходимые боеприпасы? Но Юэн только рассмеялся на эти слова, приняв их за шутку. В конце концов, мы прикончим эту тварь, сказал он. Не бойся, от нас не уйдет.
И все же шли недели, а Стервятника Лейк-Нуар никто даже не видел, не говоря уж о том, чтобы пристрелить его.
По удачному совпадению как раз в то время в замок вернулся после многолетнего отсутствия (никто не помнил точно, сколько времени его не было – даже Корнелия) брат Гидеона Эммануэль, который отправился в горы Чотоква, чтобы составить их подробную карту; ведь даже самые современные карты были крайне приблизительными и ненадежными. В один прекрасный день он материализовался на кухне в своей куртке из дубленой кожи и горных ботинках, с видавшим виды рюкзаком на плече, и попросил у кухарки что-нибудь поесть. Та (недавно живущая в замке, нанятая после катастрофы с празднованием дня рождения прабабки Эльвиры) понятия не имела, кто он, но углядела «Бельфлёров нос» (а у Эммануэля был длинный и прямой «клюв» с необычайно маленькими ноздрями), и у нее хватило ума подать ему еду молча и не поднимая шума. Он был чрезвычайно высокого роста, наверное, с Гидеона, его посеребренные каштановые волосы падали на плечи, загорелая, высушенная кожа слегка отсвечивала – солью, слюдой ли, а продолговатые узкие глаза были лишены выражения, и зрачки напоминали головастиков, даже имели крошечные хвостики. Трудно было определить, сколько ему лет: кожа на лице так задубела, будто не имела возраста и была неподвластна времени; возможно, он был почти одних лет с Гидеоном и Юэном, но выглядел много старше и в то же время – почти неприлично молодым. Один из слуг побежал сообщить его матери, и вскоре весь дом стоял на ушах, в кухне столпилась чуть ли не вся семья, а Эммануэль продолжал есть свое рагу, тщательно прожевывая каждую ложку, лишь улыбаясь и кивая в ответ на их сбивчивые вопросы.
Сразу стало ясно – к вящему удивлению родственников, – что он вовсе не вернулся домой насовсем; он планировал пожить в замке две-три недели. Его картографический проект еще не был закончен. Как он мягко сказал, выслушав бурные восклицания Ноэля, проект далек от завершения и потребует дальнейших многолетних исследований… «Многолетних! – воскликнула Корнелия и хотела взять его ладони в свои, словно пытаясь согреть. – Что ты такое говоришь, ради Бога!» Эммануэль отшатнулся, не меняя выражения лица. Если кому и казалось, что он смотрит на всех высокомерно, с вечной полуулыбкой превосходства, то виной тому были его удлиненные, миндалевидные глаза; губы же его оставались неподвижны. Он спокойно объяснил, что проект, который он взвалил на себя, очень труден, даже беспощаден, и, хотя он уже заполнил своими зарисовками и заметками сотни листов бумаги, он и на шаг не приблизился к концу – во-первых, потому, что ландшафт постоянно изменяется, реки меняют русла, даже горы меняют облик из года в год (и даже день ото дня, рассказывал он родным со всей торжественностью: ибо они разрушаются; например, высота Маунт-Блан составляет теперь лишь девять тысяч футов и теряет сотую долю дюйма каждый час), а добросовестный картограф не имеет права ничего принимать на веру, пусть однажды со всем прилежанием и занес на бумагу всё, что увидел. «Но какой в этом прок, – перебил его Ноэль, с нервным смешком, – подумаешь, дюйм-другой!.. Пора бы тебе, сынок, задуматься о женитьбе, остепениться и занять свое место здесь, среди нас…» (Возможно, именно в этот момент Эммануэль решил не оставаться в замке на срок, который назвал вначале; но, когда он слушал отцовские наставления, лицо его ничего не выражало. И покинул он родной дом на четвертое утро своего пребывания, сказав одному из слуг, что в замке слишком тепло, он не может здесь спать, а низкие потолки угнетают его. И некий овраг у озера Слеза облака не дает ему покоя – он вдруг, ни с того ни с сего, вспомнил, что зарисовал его неточно.)
Но пока Эммануэль жил в замке, он успел ответить на расспросы Гидеона о Стервятнике Лейк-Нуар. Достав из своего тяжелого брезентового рюкзака бумажный свиток, он осторожно развернул его и разложил на столе, объясняя, что это грубая и, на самом деле, совсем приблизительная карта, на которой должны были появиться очертания самого болота и безлюдной местности вокруг него к югу от Маунт-Чаттарой, которую он впервые обошел еще мальчиком (кстати, ведь именно Гидеон сопровождал его в одном из походов!), а потом обошел снова, несколько лет назад, но был отнюдь не уверен, что полностью изучил эти места. «Однако, – продолжал он, указывая пальцем (с причудливо изогнутым наподобие орлиного когтя ногтем), – я имею все основания полагать, что птица, которую ты ищешь, обитает вот в этом районе». И он обвел область с обилием рек и островов милях в двадцати к северу от замка Бельфлёров.
Гидеон стоял, склонившись над картой, стараясь – ибо его брат относился к этому с крайней щепетильностью – не прикасаться к ней. Замысловатый узор линий немного кружил голову; Гидеону никогда не приходилось видеть таких карт: те немногие слова, которые были на ней начертаны, были индейскими названиями, более не употребляемыми, стертыми из памяти… Но я могу, думал он, добраться до логова Стервятника без особого труда… Ясно, что они недооценили, насколько далеко от озера он скрывается.
Гидеон выпрямился, широко улыбаясь. Он хотел было сжать брата в объятиях, крепко-крепко, но сдержал свой порыв. Эта чертова птаха, эта дьявольская тварь, это сучье отродье. От нас ему не уйти.
Если бесславный финал нескольких вылазок не остудил пыла Гидеона, а, напротив, лишь разжег, то его товарищи – особенно Юэн, который всерьез погрузился в свои новые обязанности, – постепенно подрастеряли боевой дух; да и погода становилась день ото дня суровее. (После периода аномальной жары в конце августа с гор к озеру снизошла волна холодного воздуха, принеся преждевременные заморозки уже в первый день сентября.) Таким образом Гидеону удалось залучить на очередные поиски только Гарта, Альберта, Дейва Синкфойла да еще нового друга по имени Бенджамен (разделявшего страсть Гидеона к автомобилям).
Они взяли на ферме грузовик с открытым кузовом и проделали на нем миль пятнадцать к северу по грязным дорогам и просекам, пока наконец им не пришлось бросить машину и продолжить путь пешком; в эту самую минуту началась легкая ледяная морось, хотя небо было безоблачным. Гидеон давал товарищам щедро отхлебнуть из фляжки с бурбоном, но сам почти не пил. Он с какой-то отчаянной решимостью все рвался вперед. Сначала остальные старались следовать за ним, но постепенно сдавались и отставали. Гарт был единственным из них, кто видел Стервятника Лейк-Нуар: ему было двенадцать, когда он однажды заметил в небе вроде бы похожую птицу во время охоты на белохвостого оленя. Альберт же никогда не видел Стервятника, но пылко верил в его существование. А молодежь, Дейв Синкфойл и Бенджмен Стоун, очевидно, не имели ни малейшего представления о том, кого ищут: они только знали, что эта тварь унесла и растерзала младенца и ее нужно прикончить. Гидеон уверял их, что видел огромную птицу много лет назад, но ее образ в его памяти был призрачен и смутен, этакое мифологическое существо с горящим красным глазом и клювом-клинком. Это настоящее чудовище, и они должны убить его. В конце концов, оно похитило ребенка Бельфлёров… его, Гидеона, ребенка.
Без устали отмахивая мили длинным шагами, Гидеон сам не заметил, как далеко оторвался от товарищей. На охоте это опасно – но он ничего не замечал. Вдруг где-то рядом он услыхал престранный звук: в первый миг ему в голову пришла мысль о боулинге (он был завсегдатаем придорожных баров с кегельбанами, где за долгие месяцы завел новые интересные знакомства); но потом он решил, что, должно быть, это гром, низкий, рокочущий, нет, наверное, грохот водопада. Он стал карабкаться на пригорок; по правую руку от него располагалась болотистая местность, и, видимо, немного выше течет небольшая речка или ручей. Ему почудилось, что там и вправду находится водопад – он припоминал, что однажды, много лет назад, охотился в этих местах.
Громоподобный треск то нарастал, то стихал, то совсем прекращался. Но источник его был явно неподалеку. Задыхаясь, Гидеон взобрался на вершину пригорка, где солнце припекало неожиданно сильно, по-летнему. От болота, оставшегося справа, исходил стойкий дурманящий запах гниения, высокие заросли бледных, похожих на овсяные, колосьев, сквозь которые он пробирался, отдавали влагой и жаром. Гидеона вдруг охватило радостное предвкушение – теперь он услыхал смех, так что поднял ружье и слегка прижал дрожащий палец к спусковому крючку.
И вот, стоя там, на вершине холма, в густой траве, он увидел совершенно поразительную картину: в низине, прямо под ним увлеченно играли какие-то дети. Трава на лугу была короткая, ярко-зеленая, такая обычно бывает на пастбище – но Гидеон был уверен, что на этих землях никогда не пасли скот. Дети вели себя до странности злобно, кричали друг на друга, издавая визгливый, пронзительный смех. Они действительно играли на траве в шары, по всей видимости, это был школьный поход, – но по какому праву они вторглись во владения Бельфлёров? Кто они вообще такие? И где учитель? Стук клюшек по деревянным шарам (величиной с крикетные) был несоразмерно громким, словно все происходило в закрытом помещении, и эхо отдавалось от низкого потолка. Гидеона передернуло. Писклявый детский смех тоже был неестественно громким. И хотя Гидеон любил детей, вообще детей, он вдруг осознал, что эти ребятишки ему не по нутру, и ему захотелось побыстрее прогнать их со своей земли.
Так что он побежал вниз по холму, издали крича на них. Те обернулись с искаженными яростью лицами, и он увидел, что это вовсе не дети, а лилипуты, их было человек пятнадцать – двадцать. Или это были (да – у всех слишком большие головы, а тела изуродованы горбом и сильно вдавленной грудной клеткой, у некоторых почти до комизма) карлики?.. Но почему они вторглись на его владения – и откуда они взялись?..
Гидеон безрассудно бросился к ним, хотя заметил, ощутив укол беспокойства, что они не отступают в испуге, а глазеют на него, не меняя выражения своих жутковатых лиц – до того ненатуральных, что, казалось, это невольные гримасы, что их лицевые мышцы застыли в спазме: прищуренные или полуприкрытые в зловещей глумливой усмешке глаза, мерзкие улыбочки огромных ртов с тесно сомкнутыми тонкими губами, словно туго натянутыми на зубы. И все же он продолжал спускаться к ним, бегом, скользя и спотыкаясь, при том что на его ружье не было предохранителя, и в целом его поведение было до крайности неосторожным.
Сила удара первого шара, угодившего ему в плечо, была такова, что чуть не повалила его; от боли и неожиданности он даже выронил ружье – но через мгновенье, действуя на чистом инстинкте, подхватил его. Однако уродцы уже набросились на него. С криками, лопотанием и писком, словно взбесившись, хотя на их лицах была все та же замершая мерзкая гримаса, они вдруг заполонили весь пригорок, словно стая диких псов – именно стая диких псов, один вцепился ему в бедро, другой взобрался на него и вцепился в волосы, повалив наземь весом своего тела (а оно, несмотря на недоразвитость и малый рост, оказалось поразительно тяжелым), и, не успел Гидеон позвать на помощь, как чьи-то зубы впились ему в мягкую часть ладони, потом он получил ужасный, парализующий удар в пах, от которого чуть не потерял сознание; не стихающий почти ультразвуковой визг напомнил ему писк землероек, поедающих добычу или себе подобных; однако даже в горячке своего отчаянного сопротивления (ведь он так хотел жить – о, как он жаждал жизни!) Гидеон знал, что сейчас убьют его – его, Гидеона Бельфлёра, убьют эти гнусные жалкие твари!..
Но, разумеется, этого не произошло – по следам Гидеона шел Гарт и, увидав эту безобразную сцену, просто взял и пальнул в воздух; человечки тут же в ужасе слезли с Гидеона. Несмотря на потрясение от происходящего, Гарт оставался искусным охотником и метил в цель как можно дальше от дяди: времени оставалось только на один выстрел, так что он повернулся и выстрелил в карлика, который прыгал на месте чуть поодаль этой свары, дергая себя за черные космы в пароксизме возбуждения. Выстрел картечью угодил уродцу в правое плечо и руку, и тот рухнул на землю.
Остальные карлики убежали. Паника паникой, но они тщательно собрали свои шары и клюшки – позже на лужайке не нашли ни одной улики; но трава была так истоптана, что было нетрудно поверить – здесь играли в какую-то замысловатую игру… Когда, тяжело дыша, к ним прибежали Альберт, Дейв и Бенджамен, карликов и след простыл – остался лишь один, подстреленный Гартом. Он стонал, извивался, из множества ранок у него текла кровь, уродливая голова моталась из стороны в сторону, пальцы-крючья цеплялись за траву. Мужчины в ошеломлении смотрели на него. Они никогда не видели подобного существа… Бедный человечек был не просто горбуном; позвоночник у него был искривлен столь безжалостно, что подбородок упирался в грудь. Гидеону пришло на ум точное сравнение, несмотря на то что он еле стоял на ногах из-за боли и усталости: карлик был похож на свитый в тугую спираль росток молодого папоротника в апреле, глядя на который не верится, что он вскоре развернется и превратится в растение исключительной красоты… Но как же бедняга уродлив, как отвратителен! Плечи у него были невероятно мощные, а шея – толщиной с ляжку взрослого мужчины; волосы жесткие, нечесаные и лишенные блеска, в отличие от лошадиной гривы; на лбу отметина, очень глубокая, видимо оставленная в самой кости, поэтому и череп такой ассиметричный. Широко, словно в улыбке, открыв рот, он хныкал и подвывал и молил о пощаде (его причудливая речь напоминала то индейское наречие, то немецкий, то английский и была совершенно неразборчива); безо всякого преувеличения можно было сказать, что рот человечка тянулся поперек лица, от скулы до скулы, от уха до уха. Потом он перевернулся на живот и двинулся ползком к участку более высокой травы, словно раненая черепаха. Вид его маслянистой крови на земле ударил Альберту в голову; он вытащил свой длинный охотничий нож и стал умолять Гидеона позволить ему перерезать уродцу глотку. Из чистого сострадания! Да просто чтобы не слышать этой белиберды! Но Гидеон ответил: нет, не следует этого делать…
– Но ведь он посмел поднять на тебя руку! – возразил Альберт. – Он тронул тебя!
Он подбежал, пританцовывая от возбуждения, к тому месту, где улегся, лихорадочно скребя пальцами по земле и траве, карлик, и, схватив за волосы, рывком поднял его голову.
– Гидеон, прошу тебя! – просил он. – Гидеон. Гидеон! Один-единственный раз. Гидеон, прошу тебя!..
– Нет, не надо, – сказал Гидеон, оправляя свою одежду и припав ртом к укушенному месту. – Все-таки он как-никак человек.
Его прозвали Паслёном, потому что в тот день он отполз именно в заросли лилового паслёна, и мужчины поразились, с какой прилежностью и знанием дела он давил листья и ягоды растения в руке и втирал сок в раны на теле. Через каких-то несколько минут кровотечение даже из самых глубоких ран прекратилось. Кроме того, сок паслёна оказался настолько чудодейственным, что впоследствии у горбуна не возникло ни одного воспаления, а через неделю-другую, он, похоже, вообще позабыл о полученных травмах.
По прошествии времени Гидеон очень пожалеет, что не позволил тогда племяннику перерезать Паслёну горло; но, с другой стороны, он же не мог предвидеть будущее, да и как, говоря серьезно, он мог обречь на смерть живое существо, пусть и столь мерзкое? Убийство в пылу борьбы – это случайность, но при подобных обстоятельствах это было бы преступлением… «А ни один Бельфлёр еще никогда не совершал хладнокровного убийства», – сказал Гидеон.
Поэтому они и принесли калеку домой, сначала совершив мучительный переход в пять миль и неся его на ветке клена, которую держали за оба конца Гарт и Альберт (карлику смазали запястья и щиколотки и привязали к суку, и он нещадно болтался туда-сюда, словно безвольная туша); потом его положили в кузов грузовика. Он уже давно был без сознания, но всякий раз, когда они проверяли его слабый пульс (конечно, если бы он умер, было бы проще бросить тело в ближайший овраг), обнаруживалось, что он все еще жив и, по-видимому, будет жить… «Вот же тяжелый, сукин сын!» – восклицали мужчины.
Гидеон спас ему жизнь, вследствие чего внушал Паслёну почтительную робость, и уродец, вероятно, стал бы обожать его так же, как Лею, если бы не чувствовал его стойкого отвращения, – и поэтому весьма предусмотрительно старался исчезнуть, если вдруг оказывался у Гидеона на пути. Но, впервые увидев Лею – она стремительно вошла в комнату, с растрепанными волосами и, видимо, была не в духе или не вполне владела собой, – Паслён издал сдавленный стон, бросился на пол и стал целовать его, ведь по нему прошла женщина, в которой он угадал хозяйку замка Бельфлёров.
Лея уставилась на карлика, отступая назад под напором его безумных и страстных поцелуев; она смотрела, губы ее раздвигались в улыбке, и лишь через несколько минут она подняла взгляд на мужа, который наблюдал за ней со спокойной и угрожающей полуулыбкой.
– Что… Что это такое, – прошептала Лея, в явном испуге. – Кто…
Гидеон слегка пнул уродца ногой и уперся каблуком сапога в его горб.
– А сама не видишь? Не догадываешься? – спросил он. У него был вид триумфатора, а на лице играл румянец. – Он пришел издалека, чтобы служить тебе.
– Но кто он… Я не понимаю… – проговорила Лея, продолжая отступать.
– Это же твой новый любовник, сама взгляни!
– Новый любовник… – Лея посмотрела на Гидеона, и ее рот скривился, словно она попробовала какую-то отраву. – Новый! – прошептала она. – Но ведь у меня нет ни одного…
Со временем (на самом деле, почти сразу) Лея решила, что Паслён – просто подарок судьбы, и он стал для нее чем-то вроде слуги, ее собственного слуги, ведь бедняга был совершенно без ума от нее. Эта огромная трясущаяся голова, маленькие глазки, противный горб, зажатый между плечами, – у него был такой жалкий вид, что отвергнуть его было бы просто жестоко. Кроме того, он обладал неимоверной силой. Он мог поднимать тяжелые предметы, двигать их, откручивать пальцами гайки, мог с завидной сноровкой вскарабкаться по приставной лестнице, чтобы починить труднодоступный механизм; без подмоги приносил в дом весь багаж какого-нибудь гостя, казалось, безо всякой натуги, не считая едва заметного подрагивания в ногах. Лея нарядила его в ливрею, а сам он где-то раздобыл к своему костюму ленты, ремешки с пряжками, маленькие кожаные мешочки и деревянные коробочки, и все вместе это придавало ему причудливый, почти сказочный вид. (Хотя, разумеется, он был никакой не тролль, как приходилось не раз повторять Лее, часто со смехом и возмущением; формальное определение, данное Бромвелом, гласило, что он карлик – значит, карлик, и точка.)