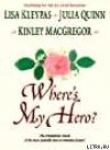Текст книги "Сага о Бельфлёрах"
Автор книги: Джойс Кэрол Оутс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 52 страниц)
Кот играл на нервах деда Ноэля, неслышно подобравшись сзади и уставившись на него широко расставленными темно-желтыми глазами, словно готовясь заговорить. С неприкрытым бесстыдством он приставал к прислуге на кухне, требуя еды: даже если кто-то из слуг кормил его, Малелеил ластился к следующей жертве, а потом выискивал еще кого-нибудь, хотя никогда не мяукал, как свойственно голодным кошкам, и никогда не снисходил до прямого попрошайничества. Вскоре он превратился в своего рода домашнее чудо.
– Как же так, – удивлялись дети, – только что Малелеил спал в гостиной возле камина, а стоило отвернуться – его как не было?
Альберт и Джаспер божились, что видели Малелеила на высокой сосне за лесовозной дорогой в полутора милях от усадьбы. Сосна была высокая, с голым стволом длиной футов семьдесят пять, а то и больше – а Малелеил якобы сидел на самом нижнем суку, совершенно неподвижный, серый, не сразу заметный, накрыв роскошным хвостом лапы. В его умных глазах горел хищный огонек, отчего он напоминал сову, готовую вот-вот броситься на добычу. Мальчики ужасно удивились, как такому крупному коту удалось забраться на дерево. А вдруг у него просто не получается спуститься? Они звали его, однако кот взглянул на них так, словно никогда прежде не видал. Мальчики попробовали стряхнуть его с дерева, но безуспешно.
– Малелеил, ты там с голоду умрешь! – кричали они. – Давай спускайся к нам!
Смеркалось, поэтому мальчики побежали домой за фонариком и какой-нибудь снедью, чтобы приманить его, но, вбежав в кухню, увидели там Малелеила – он сидел у камина и тщательно вылизывал свои большие лапы. Они спросили, когда же он вернулся.
– О, да только что, – ответила Эдна.
– Но он же был в лесу – сидел на дереве и не мог слезть! – недоумевали они.
Малелеил был великолепным охотником – женщины Бельфлёр даже знать не желали, сколько древесных крыс притащил он в своих крепких зубах на порог кухни, и тем более – какого размера. Лея единственная отважилась войти в столовую, когда одним прекрасным морозным утром Малелеил приволок откуда-то крупного зайца-беляка, чью тушку нещадно погрыз – вообще-то он уже почти сожрал шею своей жертвы. В пасти Малелеила поблескивали окровавленные заячьи мышцы, а в глазах мелькнула почти человеческая усмешка. Сам же кот растянулся на отполированном столе красного дерева, который Рафаэль в свое время выписал из Валенсии.
– О Господи, Малелеил! – воскликнула Лея. От вида полусъеденного зайца, окровавленной морды своего любимца и его зеленоватых, будто подернутых инеем глаз с расширенными черными зрачками ей стало дурно. Ощущение это ее напугало: она словно падала со скалы. Однако даже в этот момент, в дурноте и полуслепоте, Лея надеялась, что, возможно, беременна. Ведь дурнота – симптом беременности.
Вскоре Малелеил завел привычку по вечерам подниматься вместе с Леей в спальню и ложиться в изножье их с Гидеоном огромной кровати. Гидеону это досаждало: а вдруг у зверюги блохи?
– Это у тебя блохи, – огрызнулась Лея. – А Малелеил – существо чистое.
Чтобы умаслить жену, Гидеон притворялся, будто обожает кота. Он даже гладил Малелеила по голове и терпел его надменность, не в силах подавить в себе раздражение из-за того, что мурлыкать в ответ кот отказывался.
А вот Лею кот не только награждал этим звуком – он переворачивался на спину, позволяя чесать свой розовато-серый живот, а зубами и лапами, точно котенок, хватал ее за руку. Что, если кот забудется, выпустит когти и вопьется зубами в ее руку?.. Откинувшись на подушки, Гидеон безучастно наблюдал, как Лея в шутку дразнит Малелеила, а огромный кот уворачивается, рычит и, взмахнув пышным хвостом, внезапно набрасывается на нее. Гидеон не раз представлял, что если кот поранит его жену, то Гидеон немедленно отправит его на тот свет, если понадобится, голыми руками. Ружья в этой комнате он не держал. И ножей тоже. Лея делала вид, будто подобные предметы ей отвратительны. Но руки у Гидеона Бельфлёра сильные, пальцы длинные и ловкие, и ему ничего не стоит придушить эту тварь.
– Осторожнее, Лея, – говорил он, – ты слишком неосторожна.
Лея отдернула руку, кот сунул лапу в рукав ее шелкового пеньюара, и на запястье появилась едва заметная, с волос, алая полоска.
Гидеон, это всё твой голос, – раздраженно проговорила Лея. – Нас тут только трое, ты не можешь говорить потише?
Вскоре Малелеил перестал довольствоваться изножьем кровати, сворачиваясь на бирюзово-кремовом парчовом покрывале (уже с налипшей на него кошачьей шерстью и следами грязных лап), и ночью с удивительной для такого крупного зверя осторожностью прокрадывался по постели, устраиваясь между Леей и Гидеоном. Отследить, когда именно Малелеил перебирался ближе, у Гидеона никак не получалось, но это явно происходило во время фазы крепчайшего сна, так что, проснувшись на рассвете, он обнаруживал, что лежит на самом краю кровати, куда его вытеснил проклятый котяра.
– Сегодня ночью он пойдет спать на кухню, – заявлял Гидеон.
– Нет, он будет спать здесь, – говорила Лея.
– Его место – в сарае, со всей остальной скотиной!
– Его место здесь, – не отступала Лея.
Они то и дело спорили и препирались, но Малелеил по-прежнему спал с ними, оставляя свою разноцветную шерсть повсюду – Гидеон, к своей ярости, находил ее даже у себя на ресницах и в бороде. Однажды он вынужден был покинуть совещание, на котором присутствовали его отец, дядя Хайрам, Юэн и банковский служащий из Нотога-Фоллз, потому что в глаз ему что-то попало, отчего глаз заслезился и по щекам потекли слезы. Разумеется, это была кошачья шерсть.
Он вспоминал ту ненастную ночь, когда Малелеил впервые появился в усадьбе. Ну вылитая крыса. Опоссум. С уродливым облезлым хвостом. Он же мог пристукнуть тварюгу прямо там, в холле, Лея не остановила бы его, и никто бы ему ни слова упрека не бросил. А сейчас уже поздно: теперь, если Малелеил исчезнет, Лея начнет убиваться от горя. (В эти дни она ходила сама не своя – уже несколько месяцев она ходила сама не своя, – могла на пустом месте заплакать, разозлиться или впасть в уныние.) Разумеется, Лея догадалась бы, что это дело рук Гидеона, и никогда не простила бы его.
Малелеил по-прежнему ночевал у них в спальне, и по утрам, проснувшись и открыв глаза, Гидеон натыкался на невозмутимый кошачий взгляд. Зверь сидел дюймах в шести от его лица. Глаза его были золотисто-зелеными, прекрасными, словно драгоценные камни. Было в них нечто завораживающее, хотя Гидеон отлично понимал, что животные не осознают, как они выглядят, в конце концов, они не сами себя создали, и тем не менее он был не в силах отвести взгляд от глаз этого создания. Шелковая шерсть, мягкая и дымчатая, в луче света расцвечивалась самыми неожиданными оттенками – не только прозрачно серым и желтовато-белым, но и темно-оранжевым, красновато-коричневым, золотым и даже зеленовато-лиловым; в слоях шерсти прятался чуть заметный рисунок – полоски, слегка напоминающие тигровые, разной ширины и оттенка; нос кота был лиловым, вздернутым и плоским, с четко очерченными ноздрями (настолько четко, что даже вблизи казалось, будто кто-то обвел их тонко очиненным пером, окунув его в черные чернила); серебряные усы, длина которых, если верить сыну Гидеона Бромвелу, составляла девять дюймов, всегда бодро топорщились и сверкали от чистоты. По утрам кот часто лежал, в полной неге, высунув – совсем чуть-чуть, на долю дюйма – кончик язычка, влажный и розовый.
На людях Гидеон сохранял по отношению к коту супруги равнодушие и безучастность: ведь сам он, подобно своему отцу, был лошадником, так что даже лучшие в усадьбе охотничьи собаки не вызывали у него умиления. Поэтому, находясь на первом этаже, он не обращал на Малелеила внимания. Но иногда, оставаясь с ним наедине, Гидеон почти восхищался зверем… Он смотрел в холодные кошачьи глаза, немигающие и загадочные, а кот, высунув кончик языка, смотрел на него. Иногда его огромные лапы будто принимались пританцовывать, сжимая и разжимая пальцами подушку, на которой лежал Гидеон.
Однажды утром Гидеон проснулся совсем рано и увидел, что Лея сидит на кровати, а ее длинные волосы рассыпались по плечам, свисая неприбранными прядями на грудь. На кровати между ними дремал кот – огромная, источающая жар тень. Гидеон не успел заговорить, как Лея схватила его за плечо, а потом за предплечье. Хватка ее оказалась поразительно сильной. Гидеон боялся услышать ее слова. Но новость оказалась такой, что лучше не придумаешь: Лея была уверена, она не сомневалась, что беременна.
– Я чувствую – там что-то есть. Я не выдумываю. Я что-то чувствую. Это даже не так, как в прошлый раз – сейчас всё иначе, так явственно. Я беременна, я это чувствую. Я знаю.
Она действительно была беременна. Джермейн суждено было родиться.
Иедидия
Иедидия: 1806 год. Юноша отправляется в паломничество в горы. На двадцать четвертом году жизни. Если понадобится, я стану проводником, сказал он негодующему отцу. Я проведу в полном одиночестве целый год, сказал он скептически настроенному брату, прошу, не тревожьтесь за меня, не думайте обо мне вообще.
Иедидия Бельфлёр, младший из трех сыновей Жан-Пьера и Хильды (в 1790-м сбежавшей от мужа и жившей теперь на Манхэттене вместе со своими состоятельными пожилыми родителями, затворницей), отличался довольно хилым для Бельфлёра телосложением – особенно для того, кто намеревался в одиночку исследовать западный горный хребет. Ростом он был чуть выше пяти футов, да и то если надевал кожаные ботинки на толстой подошве. В начале своего пути отшельника Иедидия весил около ста тридцати фунтов. (А когда он вернулся – а он вернулся! – то едва дотягивал до ста. Однако произошло это намного позже.) В отличие от братьев, Луиса и Харлана, и своего одиозного отца Иедидия был тихим и необщительным. Его замкнутость порой принимали за высокомерие, даже за спесь. Узкое треугольное лицо юноши обрамляли пряди непослушных темных волос, вечно торчащих в стороны, будто им не давали покоя его неугомонные мысли. Жан-Пьер с раннего детства заставлял его ездить верхом, и во время злосчастного происшествия, когда его сбросила лошадь (обычно кроткий мерин унюхал на чьей-то одежде кровь и взбрыкнул – дело было в ноябре, когда закалывали свиней), Иедидия сильно расшибся и после всю жизнь слегка прихрамывал. Если он и обиделся (хотя он, разумеется, не обиделся), если и затаил на отца обиду, то никогда не выказывал ее: юноша рано уяснил правило – никогда не делиться с отцом своими тайнами.
Впрочем, Иедидия решил покинуть вовсе не отца. И даже – в этом он был убежден – не юную жену собственного брата, которая полностью завладела его мыслями. Если бы он намеревался сбежать от Джермейн, то мог уйти куда угодно, и подвергать себя таким лишениям было вовсе не обязательно. К тому же сейчас Иедидия вообще едва «видел» свою сноху. Он перестал замечать ее после свадебной церемонии и последовавшего за ней торжества, которое опрометчиво устроили в «Форт-Ханна Инн», злачной и шумной таверне на берегу реки – Жан-Пьер даже вложил в нее кое-какие средства. Таверна эта идеально подходила для ночных пьянок, с которых рано уходили лишь гости скучные и уважаемые, и там были всегда рады индейцам – точнее, индианкам. На это заведение словно не распространялись законы штата и округа, касавшиеся мест, где продавали алкоголь. А спустя несколько дней молодожены отважились устроить прием по случаю новоселья (несмотря на то что на свадебном гулянии отец жениха позорно напился и рвался затеять драку с владельцем таверны – по его словам, тот утаивал от него «тысячи долларов барыша»; впрочем, отличился и отец невесты, ирландец Брайан О’Хаган, сколотивший состояние на бобровом промысле и спекуляциях с землей – он считался невероятным богачом, однако слухи о его богатстве распускали как раз те, кому не терпелось избавиться от своей земли); они поселились в красивом деревянном доме с просторной верандой и несколькими сложенными из плитняка каминами – это был свадебный подарок старика Бельфлёра. После этих событий Иедидия и перестал «видеть» Джермейн. Ее образ он с легкостью обреченного носил с собой повсюду, и в самые неподходящие моменты – в спальне, преклонив колени в молитве, или с трудом седлая маленькую, но поразительно крепкую чалую кобылу, на которой собирался отправиться в паломничество, или когда умывался на рассвете, брызжа ледяной водой в согретые сном глаза – он ощущал присутствие Джермейн, будто она безмолвно стоит рядом и вот-вот дотронется до его руки.
Джермейн О’Хаган было шестнадцать лет. Луису – двадцать семь. Ростом с ребенка, живая, смуглая, изящная и очень хорошенькая, она застенчиво копировала «приличные» манеры взрослых дам, за которыми наблюдала в церкви, а в присутствии Бельфлёров выпрямлялась и скрещивала руки под грудью. Глаза у нее были большие, темные, волнующие. Чересчур дерзкие любезности Жан-Пьера не покоробили, а скорее удивили ее: преувеличенно пышные комплименты женщинам звучали в его устах издевкой, а те, что он отпускал жене, и были издевкой, причем жестокой; он был напыщенным позером и часто пускался рассказывать выдуманные истории о «приграничных случаях», которых наслушался в частных клубах Манхэттена и на Уолл-стрит, заседая за столами красного дерева в эпоху своего «взлета». С правящими семьями страны он держался с панибратской бесцеремонностью, как и с вашингтонскими политиками, которых считали в большинстве своем людьми ничтожными, не отрицая при этом их дьявольского обаяния, похожего на то, каким обладал он сам, Жан-Пьер Бельфлёр, – герцогский сын, как ни крути. Нет, его «любезности» не покоробили ее и даже не насторожили, ведь ее собственный отец – ах, да, ее собственный отец! – который по-прежнему пытался продать Жан-Пьеру наделы вдоль реки Нотоги; так вот, он принимал ванну дважды в год: в мае, а затем в сентябре, перед первыми морозами.
Не прошло и двух месяцев после свадьбы, как она забеременела.
Забеременела – девочка шестнадцати лет, которой даже вблизи не дашь больше двенадцати.
Иедидия планировал, свое отшельничество много лет, он мечтал о горах, о высокогорном озерном крае, об уединении среди бальзамина и лиственниц, и желтых берез, и елей, и болиголова, и высоких веймутовых сосен – некоторые с толщиной ствола футов в семь, – об уединении среди совершенной, неподвластной времени красоты. Он начал мечтать еще до того, как выходки отца навлекли на него всеобщее презрение (другие его выходки, сломившие мать Иедидии, были, безусловно, куда хуже), даже до того, как брат привел в дом эту маленькую О’Хаган, с порога заявив, что женится на ней, и неважно, что у Жан-Пьера на него другие планы – планы у него имелись на каждого из сыновей и предполагали богатых наследниц голландского, немецкого и французского происхождения. Он начал мечтать об уходе до того, как газетчики принялись Вынюхивать секреты «Ла компани де Нью-Йорк», и продолжал мечтать после. Пожелай он просто сбежать подальше от Луиса и Джермейн и леденящего кровь факта, что теперь они каждую ночь делят ложе, причем уже привычно, не особенно скрывая (хотя чудовищность этого и не укладывалось у Иедидии в голове), и он мог бы последовать за Харланом на запад или осесть на какой-нибудь ферме в долине Нотога – отец владел тысячами акров земли и наверняка сдал бы ее внаем или продал по сходной цене (дарить ему землю он не стал бы, по крайней мере, пока Иедидия не женится). Но Иедидия смотрел на север. Именно на север он стремился. Утратить себя, обрести Господа. Уверенный, что Господь ждет его, он стремился взойти к нему паломником.
– Если понадобится, я стану проводником, – сказал он отцу, и сперва тот утратил дар речи от гнева: когда Вест-Индское дельце будет на мази, ему понадобятся надсмотрщики, на которых можно положиться и которые не станут миндальничать с рабами.
– Я проживу в полном одиночестве целый год, с июня до июня, – сказал он своему брату Луису, весьма раздосадованному. В Иедидии он души не чаял, хоть и выражал свои чувства со свойственной ему беспечной грубостью, и сейчас со страхом ожидал, как сложится жизнь семьи, понесшей столько потерь. Потому что нет ничего важнее семьи.
Сначала, после нервного срыва, сбежала их мать. После этого их отец был публично посрамлен – во всяком случае, так выглядело, если судить не только по словам, брошенным вскользь самим стариком, но и по громким репликам со стороны: второй срок конгрессмена Жан-Пьера Бельфлёра был внезапно прерван, за чем последовали обвинения в недостойном поведении и взяточничестве, однако что именно он натворил, так и не выяснилось – слишком много людей было вовлечено в процесс, дельцов и политиков, вооруженных ущербными законами и заручившихся поддержкой губернаторов, готовых, как говорили, пойти на уступки. Спустя несколько месяцев после того, как газетчики принялись полоскать «Ла Компани де Нью-Йорк» в прессе, акционерное общество, в чьи задачи входило основать в горах Новую Францию для титулованных французских семейств, лишенных собственности во времена Революции, общество, торговавшее землей по три доллара за акр (разумеется, сразу после революции Жан-Пьер с партнерами заплатили государству куда меньше – тогда огромные территории, которые прежде находились во владении англичан или их сторонников, вернулись государству, и чиновникам было поручено распродать их как можно быстрее, заселив таким образом северные территории и основав буфер между новыми штатами и Британской Канадой), – через несколько недель тайных совещаний, когда в усадьбе то и дело появлялись чужие люди, а охватывающие Жан-Пьера приступы паники сменялись буйным ликованием, выяснилось, что никаких формальных обвинений не выдвинуто. Ни единого. Жан-Пьера и его партнеров по «Ла ком-пани» даже не арестовали. Но к тому моменту браку Жан-Пьера пришел конец, хотя по жене он не сказать чтобы скучал. А спустя несколько лет сбежал и Харлан, прихватив с собой пару андалузских лошадей и затянув на своей стройной талии кушак, набитый деньгами и остатками материнских драгоценностей.
А теперь еще и Иедидия. Юный Иедидия, всегда боявшийся реальной жизни.
– Год! – Луис рассмеялся. – Ты и впрямь полагаешь, будто продержишься в горах целый год? Дружище, да ты к концу ноября домой приползешь.
Иедидия не возражал. Скромность уживалась в нем с упрямством.
– Представь если ты замешкаешься, то перевалы занесет снегом, продолжал Луис. – А температура там падает до пятидесяти семи градусов[5]5
3десь и далее подразумевается температура по шкале Фаренгейта. В данном случае около 49 °C.
[Закрыть] ниже нуля. Тебе ведь это известно?
Иедидия неуверенно кивнул.
– Но я должен отрешиться от этого мира, спокойно проговорил он.
– Отрешиться от мира! – загоготал Луис. – Вы только послушайте его – прямо вылитый священник! Как бы ты там и от жизни не отрешился!
Иедидия попытался дать более обстоятельные разъяснения Джермейн, но, увидев полные слез глаза девушки, растерялся.
– Я должен… Я хочу… Понимаешь, мой отец с друзьями… Они же собираются построить лесопилку… Собираются проложить дороги и сдавать внаем землю.
Джермейн не сводила с него глаз.
– Ох, Иедидия, – прошептала она, – а вдруг с тобой что-нибудь случится? В горах, совсем один…
– Ничего со мной не станется, – ответил Иедидия.
– Вдруг, когда выпадет снег, ты не сможешь выбраться? Так Луис говорит…
Иедидия задрожал. Его тревожило, что он запомнит, что будет вспоминать лицо девушки даже после того, как сбежит от нее.
– Я хочу… Хочу отрешиться от этого мира и узнать, достоин ли я… достоин ли Господней любви, – пробормотал он, вспыхнув. В голосе его звенело фанатичное безрассудство человека, пораженного страхом.
Джермейн вдруг беспомощно взмахнула рукой, словно желая дотронуться до него, и Иедидия отпрянул.
– Ничего со мной не станется, – повторил он.
– Но если ты сейчас покинешь нас… если покинешь нас сейчас… то, когда родится ребенок, тебя здесь не будет! – сказала Джермейн. – А мы думали… Луис и я, мы думали… мы хотели попросить тебя быть крестным…
Но Иедидия ретировался, покинул ее.
Не в силах уснуть, она лежала в объятьях своего молодого мужа, растерянная и до слез расстроенная – впервые со дня свадьбы.
– Он не любит нас, – прошептала она. Он покидает их, уходит в горы, где на кон будет поставлена его жизнь, а сам он, возможно, превратится в одного из бесноватых отшельников, знаешь – тех, кого одиночество сводит с ума… – Он не желает становиться крестным нашего ребенка, – прошептала Джермейн, – он нас не любит.
Слушая вполуха, Луис уткнулся ей в шею и пробормотал:
– Да будет тебе, котенок.
– Он не увидит, как родится наш ребенок, – сказала Джермейн.
Луис рассмеялся, и защекотал ее, и прижался бородой к ее шее.
– Зато увидит, как у нас родится второй, третий и четвертый, – успокоил ее он.
Джермейн не желала, чтобы ее утешали. Она лежала, открыв глаза и, к собственному удивлению, злилась. Это было ей несвойственно, однако в этом доме никто ее толком не понимал – все считали ее лишь милой покладистой девочкой. Она такой и была – когда сама того желала.
– Он никого из них не увидит, – сказала она. – Он бросает нас.
Подобно многим своим дублинским родственницам, крошка Джермейн гордилась тем, что время от времени – но всегда непредсказуемо – в ней вдруг открывался дар ясновидения, предсказания. И сейчас она знала, знала: Иедидия не только не вернется к рождению остальных ее детей – ему вообще не суждено увидеть своих племянников и племянниц – не суждено и всё.
– Брось, котенок, с чего ты взяла! – рассмеялся Луис, наваливаясь на нее всем своим немалым весом.
– Я знаю, – ответила она.