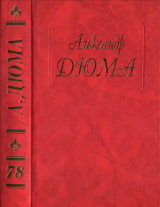
Текст книги "Галлия и Франция. Письма из Санкт-Петербурга"
Автор книги: Александр Дюма
Жанры:
Зарубежная классика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 52 страниц)
Став королем, Людовик помнил наставления своего отца. Он захватил один за другим замки Гурне, Сент– Север, Ла-Ферте-Бодуэн, Ла-Рош-Пойон; воспользовавшись бунтом своего брата Филиппа, Людовик овладел цитаделью Манта и крепостью Монлери, которую он по неосторожности выпустил из своих рук, хотя отец так настойчиво советовал ему не спускать с нее глаз. Захватив все эти крепости, он со своей армией направился к замку Ле-Пюизе и взял его в осаду. Чтобы заставить эту жалкую крепостишку капитулировать, ему пришлось воевать три года – ровно столько же, сколько понадобилось крестоносцам, чтобы завоевать всю Палестину.
Оттуда, продолжая упорную работу по искоренению сеньоров из земель королевства, подобно тому как садовник вырывает сорную траву в своем саду, он двинулся к замку Ножан и заставил его сдаться, затем дошел до Буржа, захватил Жерминьи, отправил Эмона, владельца этого замка, во Францию и оставил в нем, как это уже было сделано им во всех других крепостях, верных и преданных людей.
Вскоре, в свой черед, его призвала война с внешним противником. Генрих I, король Англии, высадился в Нормандии; он желал расширить свой удел во Франции и, сохраняя верность наследственной ненависти, возобновить нескончаемую дуэль с того места, где ее приостановил король Вильгельм Рыжий.
Первые нанесенные удары не причиняли особого ущерба ни той, ни другой стороне, пока французская армия не потерпела поражение в битве при Бренвиле 20 августа 1119 года.
Тем не менее Людовику удалось одержать победу в нескольких отдельных сражениях, но в это время ему пришлось столкнуться с более сильным противником.
Смута в Германии улеглась после низложения Генриха IV. Его преемник Генрих V оказался во главе спокойной и могущественной империи; он с сожалением вспоминал времена верховенства Германии над Франкским королевством, верховенства, которое его предкам не удавалось восстановить после торжества национальной партии во Франции, и, под предлогом того, что в Реймсе папа Каликст отлучил его от Церкви, стал готовиться к вторжению в Шампань.
И тогда Людовик как повелитель обратился с призывом к своим знатным вассалам, которые полагали себя равными Гуго Капету[227], и знатные вассалы повиновались.
С этого времени верховенство королевской власти над феодальной знатью больше не было отвлеченным понятием и стало фактом.
Общий сбор был назначен на равнине у Реймса. Людовик, желая снискать благосклонность святого Дионисия, особого заступника и личного покровителя Французского королевства, отправился взять с алтаря своего аббатства знамя графства Вексен[228], будучи в отношении этого графства, хотя он и был королем, вассалом церкви Сен-Дени; приняв с благоговейной преданностью это знамя, он первым направился на место сбора, имея под своим началом лишь горстку людей.[229]
Однако, как мы уже сказали, его призыв был услышан во всей Франции.
«Когда же, придя со всех концов Франции, — говорит Сугерий, – наша мощная армия соединилась в одном месте, то там собралось такое количество рыцарей и пеших воинов, что казалось, будто тучи саранчи покрыли землю, причем не только на берегах рек, но еще и в горах и на равнинах»
В этой армии насчитывалось около трехсот тысяч человек.
Однако, если бы речь шла не об отечественной войне, войне против Германии, то, вполне вероятно, ответ на призыв короля не был бы столь скор и столь решителен. Ненависть, испытываемая всеми к прежним покровителям династии Каролингов, была такова, что у нее достало сил сплотить вокруг короля даже его врагов и заставить прийти к нему на помощь даже самого пфальцграфа Тибо, «хотя, — как сообщает далее Сугерий, – он вместе со своим дядей, королем Англии, вел тогда войну против сеньора Людовика».
Король попытался навести порядок в этом скоплении людей, и как раз к этому времени восходят те военные мероприятия, та организация вооруженных масс, какие в нашем столетии гений Наполеона довел до высочайшей степени совершенства. Сугерий передает нам подробности этих приготовлений, и мы изложим их сейчас, ибо они кажутся нам любопытными и явно достоверны.
«Пришедшие из Реймса и Шалона, число коих превышало шесть тысяч[230], как пехотинцев, так и конников, составляли первый корпус; жители Суассона и Лана, не менее многочисленные, составляли второй корпус; в третий входили жители Орлеана, Парижа и Этампа, а также крупное войско из аббатства Сен-Дени, столь преданного короне. Король, полный надежды на своего святого покровителя, пожелал лично возглавить этот отряд. “Именно эти люди, – заявил он, – помогут мне живому или принесут меня мертвого ”. Во главе четвертого корпуса стоял благородный Гуго, граф Труа. В пятом находились герцог Бургундский и граф Неверский. Рауль, граф Вермандуа, известный своей храбростью и состоявший в близком родстве с королем, привел с собой множество превосходных всадников и многочисленный отряд из Сен-Кантена и окрестных земель, отлично защищенный кирасами и шлемами, и получил приказ сформировать правый фланг. Людовик дал согласие на то, чтобы левый фланг составили отряды из Понтьё, Амьена и Бове. В арьергард был поставлен наиблагороднейший граф Фландрский со своими десятью тысячами превосходных солдат, а рядом с ними предстояло сражаться Гилъому, герцогу Аквитанскому, графу Бретонскому и доблестному воину Фульку, графу Анжуйскому[231]. Кроме того, было определено, что везде, где армия вступит в рукопашный бой с немцами, будут поставлены в круг, словно образуя крепость, повозки с водой и вином для раненых и для обессилевших, так что те, кого раны или усталость вынудят покинуть поле сражения, смогут подкрепиться, наложить повязки на раны и в конце концов, набравшись новых сил, вернуться в бой».
Как только император узнал об этих приготовлениях, он потерял всякую надежду преуспеть в затеянном им предприятии и предпочел позорно отступить, вместо того чтобы пойти на риск и дать сражение. Королю стоило огромного труда удержать эту армию, собранную со всех концов королевства, от желания перенести на германскую землю войну, которой император угрожал Франции.[232]
В это время король Англии, видя, что Людовик и его армия заняты в другом месте, попытался завладеть французскими землями, граничащими с Нормандией. Однако один-единственный барон, Амори де Монфор, во главе отряда, набранного в Вексене, отбил все эти попытки и в нескольких схватках достойнейшим образом поддержал честь страны; так что Генрих, увидев, как потерпело неудачу нападение немцев, на которое он полагался, предложил Людовику мир и возобновление своей вассальной клятвы за герцогство Нормандское. Король согласился на мир, и Генрих принес клятву.
Избавившись от двух могущественных врагов, Людовик продолжил свои отдельные карательные походы. Овернцы, которых все еще не удавалось покорить и которые считали себя братьями римлян[233], пренебрегли призывом короля, что вызвало у него желание найти повод заставить их раскаяться в этом, и повод не заставил себя ждать.
Епископ Клермонский, изгнанный с престола Гильомом VI, графом Овернским, явился к королю Франции просить у него убежища и помощи. Король предоставил ему и то, и другое, собрал войско, стал преследовать овернцев в их горах, захватывать один за другим их замки, которые они считали неприступными, ибо замки эти были построены на вершинах скал, взял Клермон, столицу Оверни, «вернул Богу церковь, духовенству – башни, епископу – город, восстановил между епископом и графом мир и заставил скрепить его самыми священными клятвами и выдачей многочисленных заложников».
Два его последних похода были столь же успешны. Первый был направлен против убийц Карла Доброго, племянника Роберта, графа Фландрского, прозванного Иерусалимским за его подвиги в Святой Земле; он напал на них в городе Брюгге, где они укрылись, и, не давая им передышки, вынудил их сдаться, после чего приговорил к смерти двух главных виновников этого убийства. Зная способы казни, применявшиеся в ту или иную эпоху, можно судить о степени цивилизованности, достигнутой этой эпохой. Вот какой казни подвергли этих двух виновных.
«С изощренной жестокостью, — пишет Сугерий, – его [Бурхарда] привязали к высоко поднятому колесу, где он оставался во власти ненасытных воронов и хищных птиц; его глаза были вырваны из глазниц, а лицо превратилось в кровавые лохмотья; после чего, пронзенный множеством стрел, дротиков и метательных копий, которые в него пускали снизу, он умер жесточайшей смертью, и тело его было брошено в яму с нечистотами».[234]
Что касается его соучастника, по имени Бертульф, то «его повесили на виселице вместе– с собакой. Каждый раз, когда ее ударяли, она изливала на него свою злость и зубами рвала его лицо.
Других, кого сеньор Людовик держал в башне, заставили подняться на ее верхнюю площадку, а затем по отдельности, одного за другим, сбросили всех с высоты башни, и на глазах у родственников они разбили себе головы».
По завершении казни король выступил в поход на замок Куси вблизи Лана, принадлежавший Тома де Марлю, гнусному человеку, который притеснял святую Церковь и не уважал ни Бога, ни людей.
Тома попытался сопротивляться, но безуспешно. Смертельно раненный Раулем, графом Вермандуа, он как пленник был доставлен в Лан. На следующий день после битвы были разрушены плотины на его прудах, а его земли проданы в пользу казны.
Несмотря на свою тучность, которая становилась устрашающей, Людовик Толстый лично возглавил еще три военных похода: первый – против замка Ливри, принадлежавшего Амори де Монфору, а два других – против крепостей Бонневаль и Шато-Ренар, принадлежавших графу Тибо. Все три замка перешли под его власть.
Мы пронаблюдали за тем, как королевская власть вела борьбу против сеньоров; посмотрим теперь, как коммуны вели борьбу против королевской власти, и, поскольку история какого-нибудь одного города почти совпадает с историей всех других городов, как в отношении подробностей, так и в отношении итогов, возьмем для примера городскую революцию в Лане, о которой Гвиберт Ножанский сообщает нам самые точные подробности.
Епископский престол в Лане оставался свободным в течение двух лет, как вдруг королю Англии, пытавшемуся насадить во Франции людей, на которых он мог бы полагаться, при помощи обещаний и подкупов удалось назначить епископом своего канцлера Годри, хотя он состоял лишь в малых чинах духовенства и никогда прежде не вел иной жизни, кроме жизни солдата. Несмотря на это странное послушничество, он был рукоположен в епископы в церкви святого Руфина. По случайности, которая окажется пророческой, для проповеди в этот день был избран следующий евангельский стих: «И тебе самой меч пройдет душу»[235].
По окончании церемонии новый епископ выехал из церкви верхом, с митрой на голове, облаченный в церковные одежды, и в сопровождении Гвиберта Ножан– ского и молодого причетника направился к себе домой. По пути ему встретился крестьянин, вооруженный копьем; стремясь показать, что им не забыты воинские приемы, которым его обучали в Англии, епископ взял копье из рук крестьянина, пришпорил лошадь и, держа руку так, словно он за кем-то гнался, с необычайной ловкостью нанес удар по небольшому дереву, стоявшему у дороги. При виде этого чисто мирского деяния Гвиберт Ножанский не удержался и заметил епископу, что копье плохо смотрится в руке человека, на голове у которого митра.[236]
Прошли три года, в течение которых епископ подал горожанам куда больше плохих примеров, чем хороших. В епископском дворце расточались такие несметные средства, что это заставляло роптать добродетельных людей, и прислужники епископа придумывали все новые незаконные поборы, чтобы обеспечить своего господина деньгами, необходимыми для его безудержного мотовства.
«Доходило до того, – говорит Гвиберт Ножанский, – что, когда королю случалось приезжать в Лан, он, имевший как монарх полное право требовать уважительного отношения к своему сану, тотчас же оказывался самым постыдным образом ущемлен в том, что ему подобало. Ибо, когда по утрам и вечерам его лошадей приводили на водопой, их силой отбирали, избив перед этим его слуг. Следует думать, что простым людям приходилось еще хуже. Ни один землепашец не мог войти в город без того, чтобы не оказаться брошенным в тюрьму, откуда ему приходилось выкупать себя, иначе он представал перед судом и без всякой причины, под первым попавшимся предлогом, получал обвинительный приговор».
Изложим для примера один-единственный факт, который даст представление о тех способах, какими осуществлялись подобные поборы.
В корзинах и мисках образчики овощей, зерна или каких– нибудь прочих съестных припасов, как если бы они намеревались их продать. Они показывали их первому же крестьянину, желавшему купить такие продукты. Сговорившись с покупателем о цене, продавец говорил покупателю: “Пойдем ко мне домой, и там я дам тебе то, что ты у меня купил”. Покупатель шел за ним; затем, когда они уже стояли возле ларя с товаром, учтивый продавец открывал крышку и, придерживая ее, говорил покупателю: “Посмотри товар поближе и убедись в том, что он ничем не отличается от того, какой я показывал тебе на площади”. И тогда покупатель, привстав на цыпочки, прижимался животом к краю ларя, свешивал внутрь голову и плечи и запускал руки в зерно, чтобы поворошить его и убедиться в его доброкачественности. Именно это и нужно было славному продавцу. Улучив момент, он внезапно подхватывал крестьянина за ноги, заталкивал его в ларь и, тотчас же захлопнув над ним крышку, держал пленника в этой надежной тюрьме до тех пор, пока тот не соглашался заплатить выкуп. Такое и подобное происходило в городах; знатные люди и их приспешники открыто предавались грабежу и вооруженному разбою. Ни один человек, оказавшийся в поздний час на улице, не был в безопасности: его либо хватали, либо убивали – такая уж его ожидала участь».
Однако подобные способы, какими бы хитроумными они ни были, исчерпали себя. Землепашцы отправлялись на рынок в Реймс, а обитатели Лана уже не решались выйти из дома ночью; наконец, недостаток людей, с которых можно было потребовать выкуп, сделался таким, что епископ, нуждаясь в средствах, поехал в Рим, чтобы попросить денег у короля Англии, находившегося тогда в этом городе.
Тем временем малые чины духовенства, архидиаконы и вельможи, изыскивая способы вытянуть деньги из простых людей, вступили с ними в переговоры через уполномоченных лиц и предложили горожанам предоставить им возможность образовать коммуну, если они уплатят за это достаточную денежную сумму. Простые люди, ухватившись за предложенное им средство откупиться от всех притеснений, «дали горы денег этим скрягам с загребущими руками, и те, став более сговорчивыми при виде обрушившегося на них золотого дождя, поклялись всем святым в точности исполнить данное ими обещание».[237]
Едва была заключена эта сделка, как вернулся епископ, на короткое время разбогатевший благодаря подачкам короля Англии. Вначале, узнав, какие обещания дали в его отсутствие Ги и архидиакон Готье, он впал в страшную ярость и отказался войти в город. Но в ту минуту, когда все полагали, что епископ останется непреклонен, он внезапно смягчился, вступил в город Лан, поклялся соблюдать права коммуны, установленные по образцу коммун в Сен-Кантене и Нуайоне, и, более того, уговорил короля подтвердить этот договор и тоже скрепить его клятвой. Столь разительная перемена в его намерениях «проистекала из того, – замечает Гвиберт Ножанский, – что ему предложили крупную сумму золотом и серебром, и этого оказалось достаточно, чтобы укротить неистовство его речей». Подобные же причины предопределили поведение короля.
Таким образом, решение об учреждении коммуны было принято народом, торжественно скреплено клятвой епископом и подтверждено королем.
Но, по мере того, как иссякало полученное от народа золото, исчезала и память о клятвенном обещании. Стоило епископу вновь оказаться без денег, как он решил, что ничего и не обещал. Тем не менее, поскольку он не осмелился ввести новые налоги, а пополнять денежные сундуки было необходимо, служитель Божий сделался фальшивомонетчиком.
«Чеканщики монет, — пишет автор, у которого мы почерпнули эти сведения, – подделывали их до такой степени, что из-за этой уловки множество людей были доведены до крайней нужды. И в самом деле, монеты изготовлялись из самой дешевой меди, но, благодаря добавлению особых примесей, они блестели, по крайней мере короткое время, ярче серебра, так что – о горе! – невежественное простонародье впадало в заблуждение и отдавало за эти монеты самые ценные свои товары, получая взамен лишь подделки из самого дешевого металла».[238]
Но как только простолюдины узнали об этом мошенничестве, они перестали принимать серебряные монеты, не потерев предварительно их краешек о песчаник; так что вскоре епископу пришлось прибегнуть к новым средствам.
Ему показалось, что самый короткий и самый надежный из них состоит в том, чтобы отнять у города предоставленные ему вольности и вернуть горожан в положение крепостных, уплачивающих подать по усмотрению своего господина. И потому он собрал свой совет, на котором было решено уговорить короля приехать в город Лан на великопостные богослужения и, воспользовавшись его присутствием, в канун Святой пятницы оспорить и уничтожить дарованные горожанам свободы.
В условленное время король прибыл. Горожане, подозревая, что его присутствие поможет подготовить какой-нибудь заговор против них, предложили ему четыреста фунтов серебра, чтобы снискать его благосклонность; однако епископ и вельможи обязались отсчитать ему семьсот фунтов, если он согласится поддержать их желание забрать назад свое слово. Людовик Толстый отдал предпочтение тем, кто предложил ему больше[239], и в указанный день прибыл в ратушу, где его уже ждали собравшиеся там горожане. Годри, пользуясь своей епископской властью, освободил его от принятой им клятвы, освободил себя от собственной присяги, и оба они заявили горожанам, что коммуна в Лане упразднена. В обстановке всеобщей растерянности не раздалось ни единого возгласа возмущения. Тем не менее король, понимая, что он позволил себе нарушить все божеские и человеческие законы, не решился в ту ночь спать где-либо вне епископского дворца, а на следующий день, на рассвете, вместе со своей свитой покинул город, причем с такой поспешностью, что не стал даже дожидаться выплаты семисот фунтов серебра, удовлетворившись обещанием епископа выплатить их.
Сердца горожан были полны изумления, но в то же время и ярости. Закрылись лавки, кабатчики и хозяева постоялых дворов не выставляли больше никаких товаров; должностные лица перестали выполнять свои обязанности, и город приобрел тот характерный безрадостный и суровый облик, отпечаток которого уже в наши дни, у нас на глазах, носили города в канун гражданских волнений, в те сумрачные часы, какие предшествуют народному революционному взрыву.
Особую торжественность картине придавал тот день, когда все это происходило: была Страстная пятница, и души этих людей, ставших смертельными врагами, «готовились – с одной стороны посредством человекоубийства, а с другой посредством клятвопреступления – вкусить тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа»[240].
Весь этот день группы горожан, пока еще без оружия и негромко разговаривая, расхаживали по городу, скапливались на площадях, расходились при возникновении малейшего шума, который мог свидетельствовать о приближении вооруженного отряда, и тотчас же собирались в другом месте, словно облака, которые ветер гонит в противоположные стороны и которые предвещают бурю. По слухам, сорок решительных людей дали страшную клятву, нарушение которой должно было лишить их всякой надежды на вечную жизнь, – клятву убить епископа и всех тех его людей, какие попадут к ним в руки. Епископ каким-то образом узнал про этот заговор и не осмелился выйти из своего дворца и отправиться к заутрене.
Тем не менее на следующий день, а это была Страстная суббота, он приказал своим слугам и нескольким солдатам спрятать под одежды мечи и идти позади него, ибо ему следовало участвовать в крестном ходе. На церемонию вышли все горожане, и епископ видел позади себя, отделенное от него всего лишь несколькими слугами, на которых он не слишком полагался, все население города, только что преданное им, и каждый взгляд из этой толпы посылал ему упрек, под каждой одеждой в ней скрывалось сердце врага. Вскоре возникла небольшая суматоха, как это всегда случается в больших людских толпах, и сразу же один из заговорщиков, подумав, что настал час совершить намеченное убийство, вышел из-под темного и низкого свода и несколько раз громко крикнул: «Коммуна! Коммуна!» Однако его призыв остался без ответа, ибо эти люди, пылавшие местью, но богобоязненные даже в своей мести, не хотели совершать ее в тот момент, когда их епископ, каким бы виновным он ни был в их глазах, исполнял священнические обязанности, отвечающие его епископской должности. Так что он без всяких происшествий вернулся в свой дворец, и спесь его только усилилась. Народ в ту эпоху напоминал одного их тех прирученных молодых львов, которые еще не вкусили крови и не знают, что такое сила и ярость.
Но все же, едва вернувшись к себе, епископ вызвал из принадлежавших ему владений многочисленный отряд крестьян, вооружил их и одним из них приказал защищать церковь, а другим – охранять его дворец.
Город приходил во все большее волнение, как если бы под ним все сильнее тряслась земля. Многие горожане отваживались выйти на улицы, взяв в руки какое-нибудь оружие вроде меча или секиры. Самые робкие держались в стороне от их пути и делали вид, что незнакомы с ними, однако другие, похрабрее, жестами подбадривали их, глядя на них из своих верхних окон, а вскоре, спустившись, сами с оружием в руках выходили из дома, останавливались, когда мимо них проезжал какой-нибудь сеньор, спешивший в епископский дворец, оглядывали его с головы до ног и, не осмеливаясь еще напасть на него, позволяли ему следовать своей дорогой; затем эти кучки вооруженных людей объединялись, образовывали отряд, удивлялись, что их оказалось так много, и дикими смешками встречали новые подкрепления, прибывавшие каждую минуту.
Пока все это происходило за стенами дворца, внутри него епископ обсуждал с архидиаконом Готье, какие суммы взыскать с горожан, ибо, в злую насмешку, прелат пожелал, чтобы каждый горожанин заплатил ему за упразднение коммуны ту же сумму, какая была заплачена им за ее учреждение. Время от времени какой-то рокот, глухой, словно дальний гром, доходил до слуха двух этих клятвопреступников; и тогда они поднимали голову, минуту прислушивались, не понимая, отчего возникает этот шум, и тотчас, как только он прекращался, снова принимались за подсчеты задуманного ими побора. Внезапно у самых стен епископского дворца вспыхнуло сильное волнение и до епископа донеслись крики: «Коммуна! Коммуна!»; он открыл окно и увидел, что все прилегающие улицы заполнены горожанами, вооруженными секирами, обоюдоострыми мечами, луками и топорами; но и мятежники увидели его: они разразились страшными проклятиями и выпустили целую тучу стрел, несколько из которых ударили всего в двух-трех шагах от него. Он тотчас закрыл окно и, повернувшись, увидел перед собой одного из своих вельмож по имени Адон, видама, человека с пылкой речью и пылким сердцем: видя, что в городе начался бунт, он явился к епископу, чтобы получить от него распоряжения и сообщить ему, что уже двое из его вельмож пали мертвыми, а именно дворянин Гвинимар и некто Ренье, родственник аббата Гвиберта, историка великих событий, о каких мы сейчас рассказываем. Прелат, который, как уже говорилось, был человек храбрый, привычный к оружию и к войне, отдал приказы о необходимых приготовлениях, вооружился и вместе со своими солдатами отправился к внешним стенам дворца.
Ему стало ясно, что битва уже завязалась: с той стороны, куда был обращен его взор, нападавших вел некий Тевдегальд, крепостной церкви Сен-Венсан, которого епископ нередко высмеивал за его уродство и даже именовал обычно насмешливым прозвищем Изенгрин – в те времена этим словом в народе называли волка. Нападавшие кричали точно бешеные: «Коммуна! Коммуна!», приставляли к стене все лестницы, какие им удалось отыскать в городе, и во главе с Изенгрином лезли вверх, несмотря на стрелы и камни, которыми осыпали их епископ и его отряд. Наконец прелат, видя, что все неизбежно отступит перед подобной отвагой, столь необычной для таких людей, и что готовится последний приступ, против которого нет надежды устоять, покинул стену, чтобы укрыться в подвале церкви. Пересекая двор, он заметил, что ворота взломаны, несмотря на мужество Адона, которому было поручено их защищать, и что этот сеньор так решительно защищается при помощи копья и меча, что уже уложил троих из числа нападавших. Наконец, теснимый другими, Адон взобрался на обеденный стол, оказавшийся во дворе, «и поскольку, — говорит Гвиберт, – помимо ран, покрывавших всего его тело, у него были ранены и оба колена, он повалился на стол и в этом положении еще долго продолжал сражаться, нанося сильные удары тем, кто, так сказать, взял его в осаду; затем, лишившись сил, он был пронзен дротиком, пущенным в него каким-то простолюдином, и вскоре, во время пожара, уничтожившего дворец, обратился в пепел».
С гибелью Адона прекратилось всякое сопротивление: люди Изенгрина, взбиравшиеся на стены, соединились с теми, кто взломал ворота, и оба отряда принялись вместе искать прелата, «громко называя его, — как пишет далее Гвиберт, – не епископом, а мерзавцем».
Целый час прошел в этих напрасных поисках, отчего ярость этих людей только увеличилась, как вдруг они схватили какого-то слугу, который, испугавшись их угроз, знаком показал, что искать следует в стороне подвала. Они тотчас бросились туда и, поскольку там не было ничего, кроме огромных порожних бочек, принялись простукивать их, продырявливая те, что издавали гулкий звук, и прощупывая их мечами. Наконец, из одной бочки послышался пронзительный крик: это епископу проткнули бедро.
И тогда все мятежники, распаленные кровопролитием, собрались вокруг этой бочки, подняли крышку и увидели там человека в одежде слуги; на мгновение им показалось, что они обманулись. «Кто здесь?» – спросил Изен– грин. «Несчастный пленник», – ответил епископ. Тотчас же все громко закричали, ибо чутьем мстителей они узнали голос прелата, хоть и изменившийся от страха. Изенгрин схватил его за волосы и вытащил из бочки. Возможно, если бы несчастный был облачен в свои священнические одежды, сам вид церковных одеяний внушил бы уважение толпе, но его схватили в одежде слуги, и потому он был для мятежников всего лишь человеком, вероломным и бессовестным вымогателем. Осыпая пленника ударами, они с улюлюканьем поволокли его к клуатру причетников, где их поджидал весь народ.
Епископ прекрасно понимал, почему все остановились именно там: это было место казней. Он попытался умиротворить разъяренных людей и предложил им огромные деньги в качестве выкупа за свою жизнь, пообещал навсегда покинуть Лан и дать самые страшные клятвы, что никогда туда не вернется; наконец, епископ встал на колени перед теми самыми людьми, которых в течение десяти лет он видел стоящими на коленях перед ним. И тогда один из них, Бернар по прозвищу Брюйер, видя его в такой позе, взял тяжелую обоюдоострую секиру, которой он был вооружен, и одним ударом раскроил ему голову. Но, поскольку он еще дышал, эти мучители переломали ему во многих местах ноги и неспеша искололи все его тело. Что же касается Изенгрина, то он, заметив пастырский перстень на пальце того, кто только что был епископом, и не сумев сорвать его, так как рука у мертвеца была судорожна сжата предсмертной агонией, отсек этот палец и таким образом завладел перстнем. Затем труп, совершенно нагой, бросили на придорожную тумбу, и весь день каждый, кто проходил мимо, будь то мужчина, женщина или ребенок, непременно кидал в него камень или ком грязи и провожал отлетавшую душу епископа насмешками и проклятиями.[241]
Так погибла первая жертва первой народной революции – революции в городе, которую допустимо сравнивать с революцией в государстве, ибо цели у них сходны, независимо от того, какой круг людей, большой или малый, эти революции охватывают, и потому в своем развитии они проходят одни и те же этапы.
Прежде всего, это потребность улучшить положение подневольных людей в городе, выраженная в виде скромного требования о предоставлении независимости; скрепленное клятвой соглашение между господином и подневольными людьми;
добросовестное исполнение этого договора обеими сторонами;
забвение сеньором взятого на себя обязательства и нарушение им клятвы;
ответное действие народа, сопровождаемое всеми преступлениями черни, какие оно может за собой повлечь.
Такова революция в двенадцатом веке.
По прошествии шести столетий вся нация целиком испытывает те же потребности, какие тогда испытывал город. Но нация хочет чего-то большего, чем предоставление независимости: она хочет свободы, и требование свободы выставляет уже не горстка горожан, а огромный народ.
Этот народ голосом своих представителей скромно требует свободы; высшие сословия государства высмеивают это требование, представителей народа изгоняют из предоставленного им зала совещаний, и они собираются в Зале для игры в мяч;
учреждение Национального собрания;
составление текста договора, устанавливающего права народа и ограничивающего королевскую власть; добровольное принятие этого договора Людовиком XVI; клятва верности Конституции 1791 года;
нарушение королевской властью взятого на себя обязательства и забвение ею клятвы, добросовестно исполняемой народом;
ответное действие народа, который 21 января 1793 года воздвигает на площади Революции эшафот; смерть Людовика XVI, предателя и клятвопреступника.
Такова революция в восемнадцатом веке.
Тем не менее видно, что при всем сходстве поступательного движения этой революции с тем, как развивалась революция двенадцатого века, она отличается куда большими масштабами. Это уже не взбунтовавшийся город, а восставшая нация; это уже не епископ, которого убивают несколько горожан, а король, которого судит весь народ и казнит палач.
Лишь спустя шестнадцать лет после смерти епископа Годри, то есть в 1128 году, жители Лана добиваются если и не утверждения своей коммуны, ибо само слово «коммуна» вычеркнуто из текста нового договора как ужасное и отвратительное, то хотя бы установления мира.[242] В этот промежуток времени королевская власть отплатила им кровавым возмездием. Все горожане, захваченные с оружием в руках, были без права выкупа или помилования приговорены к повешению, а их мертвые тела, оставленные без погребения, стали добычей собак и хищных птиц.[243]








